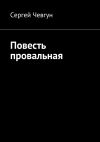Текст книги "Пионерская Лолита (сборник)"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Мне-то чего, – сказал Жора жизнерадостно. – У меня еще фээргэшная есть липовая ксива, так что я перебьюсь. А вот им… Их, черных ребят, и шмонают чаще. Я вон оделся прилично и – прохожу без задержки. А у них кожа. Из кожи вон не полезешь, верно? Потом, тут вообще провинция. Завтра в Париж поедем, Париж – деревня большая, как Москва, авось перебьются…
Спать было несколько тесновато, к тому же поворачиваться одновременно, по команде, черные парни еще не научились.
– Салаги, – добродушно ворчал Жора. – Жареный петух еще их не клевал в черную жопу, ездиют где хотят. Вот полковник Кадафий до них доберется, он их быстро обучит.
Гочу приснилась комнатенка в Перхушкове, а в ней почему-то Шура вместо Марины. Шура сняла проводницкую форму и, сидя в розовой комбинации, запела тоненько, жалобно: «Я тоскую по родине…» Гоч потянулся к ней ласково и вдруг отпрянул, открыл глаза: рядом было Жорино толстое плечо, все в рыжих веснушках. И пахло оно не московским поездом, а какой-то неведомой далью. Гоч целый час промаялся без сна на пороге новой жизни и рад был, когда черные ребята начали вставать и поставили чайник.
Выехали они еще затемно. Машина была старенькая, но вместительная.
– Ну, как те мой «пежо»? – спросил Жора. – Такой ни у какого богача в Харькове не было. «Мерседес» был, а «пежа» там не видели. Двести рублей за нее отдал на наши деньги – и все дела. А ездит – дай Бог!
Дорога была беспечна и красива. По автостраде решили не ехать, чтоб зря не бросать деньги на ветер. Тем более что спешить им было некуда. Дорогой поглядели два кафедральных собора и один замок – исключительно для Гоча, потому что он был иностранный гость. Вообще отношение к нему у попутчиков было хорошее, но спокойное, и только Жора смотрел на Гоча с ужасом и восхищением.
– Ну, там нынче на выставке твоей будет переполох – аж до Москвы волну подымут. А вдруг они тебя отыщут – да раз, в охапку?
– Где отыщут? – спокойно спрашивал Гоч.
– Да уж, негде искать. И французская-то полиция до тебя не скоро доберется.
Один из черных парней спросил у Гоча, правда ли это, что у них в России каждому рабочему дают бесплатно машину. Оказалось, что какой-то ихний Дудунда учился в Ташкенте, так он по приезде наврал им с три короба. Все хохотали до упаду, потому что этот Дудунда (а может, он был Лумунда) всегда очень смешно врал. Впрочем, в переводе на русский язык, даже при Жорином красочном посредничестве, анекдоты про Дудунду звучали совсем не смешно. Во всяком случае, ничего смешнее бесплатной машины у них не нашлось.
В городе Сансе они купили Гочу молока и багет, а сами выпили пива. Дальше они дунули во всю прыть, у леса Фонтенебло (который Гоч решил непременно запомнить, имея в виду дальнейшую возможность обитания) машина выехала на бесплатную автостраду и вмиг домчала их до города Парижа, который начался сразу, как они вынырнули из-под моста.
– Я придумал, – сказал Жора. – Я тебя сразу к Семену отвезу, тут же рядом. У него ты и отдохнешь культурно, чего ты с нами будешь маяться в нашей общаге на Клиши. Мы-то ладно, привычные, у нас дела. А тут просторно, культурно, да еще с художниками, к ним прямо вот тут, у парка… и парк рядом, а то ты с непривычки задохнешься без зелени. Ленин тут тоже, говорят, всегда у этого парка жил, нравилось ему, воздух. А мы тя без Ленина по ленинскому пути…
Они и правда остановились почти сразу при въезде в город на узенькой горбатой улочке близ парка Монсури. Жора с Гочем выбрались из машины и стали разминать затекшие ноги, руки, спину. Черные Жорины друзья из машины вылезать не захотели, они себя в ней чувствовали превосходно, как птицы в гнезде.
– Мы тут подождем, – сказал Бутуна, ослепительно улыбаясь. – Я уже тут был. Я знаю, вы по-русски будете бла-бла-бла долго-долго. А я к тебе, Гоч, потом в гости приду, – добавил он, прощаясь с Гочем. – Пойдем гулять. Угощать у моего друга будем.
Гоч и Жора вошли в странный дворик. Справа вдоль дерева шла узкая лесенка, ведущая то ли в квартиру, то ли в голубятню с прибитой к дверям старинной вывеской: «Сдается внаем». В глубине двора стоял какой-то пустой лабаз, а может, это была заброшенная фабрика. Двухэтажное здание казалось необитаемым. Жора нырнул в просторную пустоту первого этажа и стал подниматься по старой неосвещенной лестнице. Гоч догнал Жору, и они вместе прошли через какой-то зал-сарай и еще дальше, по длинному коридору, давно не ремонтированному, но густо завешанному картинками. Гоч видел такие в Москве у многих друзей Невпруса, но стеснялся спросить, то ли они еще не научились рисовать, то ли придуриваются. Жора постучал в какую-то дверь в самом конце обшарпанного коридора, и раздался сонный русский голос:
– Заходи! Чего барабанишь?
Они вошли. Просторная комната была оклеена чистыми листами белой бумаги и все теми же, как бы детскими, картинками. У стены стояла электроплитка. Худой длинный мужик валялся в углу на матрасе.
– А-а-а, земеля! – сказал он, протирая глаза. – А я тут придавил минут пятьсот, не раздеваясь. Безумная была ночь. Ребята пришли с какой-то ихнею бормотухой. Итальянской.
– Богема! – уважительно сказал Жора. – Вот, знакомьтесь. Семен, наш харьковский гений, абструкционист. А это Гоч, из Союза писателей. Так сказать, товарищ по несчастью, твой полный коллега. Совсем свежий.
– Отчего уж так по несчастью… – Семен поднялся, протянул руку Гочу. – Вы что, тоже дернули?
– Просто я решил прокатиться с Георгием, – сказал Гоч спокойно. – Он мне сказал, что тут у вас бывает забавно, и я решил посмотреть.
– И нисколечко не страшно? – удивился Семен.
Гоч надменно пожал плечами.
– Он вчерашний, – сказал Жора. – Еще вчера он был гражданин и представитель. Слушай, пусть он у тебя немного поживет.
– Ради Бога, – сказал Семен. – Помещения тут у нас много. Правда, плитки есть не у всех. Так что у меня теплее, чем на улице.
– Спать где найдется?
– Без проблем. Сегодня вечером мы с нашим гостем на прогулку пойдем, в хороший квартал, и такой ему приволокем матрасик, левитановский[2]2
Чтобы не бросать тень на доброго пейзажиста (которого и без того уж звали Исааком), автор считает своим долгом пояснить, что Левитан известен во Франции как торговец мебелью.
[Закрыть]. Они же тут все на улицу выкидывают, французы.
– Без блох? – спросил Жора.
– Скорей всего, даже без блох. Все-таки выбрасывают люди состоятельные, так что, может быть, даже без блох…
– Видал? – восхищенно сказал Жора. – Хата у тебя уже есть. Ну, вы тут побеседуйте, а я вечером заеду. У нас еще с четырьмя друзьями всякие темные дела.
– Опять твои чечмеки… – протянул тощий Семен, и Гоч окончательно почувствовал, что он дома.
Семен поставил чайник, достал из-за форточки пакет с хлебом и вареньем.
– Значит, совсем не трухаешь? – сказал он. – Молодец. А я в первое время спать не мог. Шутишь ли, такой финт выкинуть! Все себе представлял, как они там без меня копошатся возле Нотр-Дам, ищут, как посольские город прочесывают. А потом как в ридном Харькове всполошатся. Я ведь еще и путевку купил в долг. Вот, думаю, мои кредиторы ярятся, а с чего мне отдать?.. Потом привык чуть-чуть. А потом даже скучно стало: как подумаешь, что ты никомушеньки на целом свете не нужен… Стал взрослеть помаленьку, привыкать к самостоятельности. Уже почти привык. Сорок с лишком. А еще год-два-три, и я встану на ноги…
– Сколько уже ты?
– В этой хавире уже пять. Мы этот дом самовольно захватили, так сказать, экспроприировали…
– Кто был ничем, тот станет всем.
– Вот именно. Тут это называют «скватеризировать». Ну, все равно мы вроде «эксов», помнишь – экспроприация экспроприаторов: Красин, Камо, Сталин…
– Что-то слышал краем уха, – сказал Гоч, налегая на батон с вареньем.
– Нас тут пяток русских. Еще французы есть, у которых мастерской не было, один чилиец… Дом все равно стоял пустой, а нам – деться некуда. Ну, полиция пока терпит, все равно фабрику эту скоро будут ломать. Вот уж тогда… Но может, мы за это время на ноги встанем. Нелегко, конечно. Художников тут, наверно, больше, чем полицейских, – сто пятьдесят тыщ одних зарегистрированных, а мы уж сверх того, представляешь? Ты-то сам не рисуешь?
– Можно будет попробовать, – сказал Гоч. – Я вообще еще только начинаю, пробую. Стихи начинал. Теперь можно живопись. Интересно.
– Молодой ты, – с завистью сказал Семен. – Тут молодому хорошо начинать. Лет с десяти. Годам к сорока и определишься. Ну что, пойдем погуляем? Все равно нынче уже не работа, так башка гудит от их граппы.
Они спустились по горбатой улочке и вошли в парк Монсури. Парк был прекрасен. На пруду, взметая серебряный след, мельтешили раскормленные утки. Мамы и дедушки прогуливали детишек. Деревья раскидисто красовались своим нестерпимым совершенством.
– Вот тут бы лечь, и уснуть, и ни о чем не думать, – сказал Семен.
– За чем дело? Поспим, – сказал Гоч. – Очень даже красивое место. Может, лучше и не найдешь во всем городе, зачем упускать…
– Характер у тебя счастливый, – сказал Семен.
– Невпрус считал, что я мало эмоционален.
– Это кто такой?
– Мой старший друг. Можно сказать, отец. Был еще диспетчер. Тоже большой друг. Он еще на химии.
– Это все было в той жизни, – сказал Семен.
Гоч задумался. У него все еще не было ощущения, что в его жизни произошла какая-то слишком уж существенная перемена. Пока он всего-навсего поменял Дижон (а может, и Москву) на Париж и предпринял еще одно путешествие. А Невпрус, Марина, диспетчер – разве они все умерли? Живут так же, как жили. Наверное, все же трудно будет повидаться с ними. Трудно, но разве совсем невозможно?
– Ты склонен все преувеличивать, – сказал он Семену. – Ты, вероятно, не вполне русский.
– Нет. Не вполне. А что?
– Мой друг Невпрус тоже так. Вполне русские тоже, впрочем, не всегда бывают вполне спокойны. Как это ни странно, мой друг Невпрус заявлял иногда, что он не меньше Гоч, чем я сам. Потом он сам увидел, что это заблуждение. Он гораздо больше русский, чем Гоч. А еще больше он Невпрус. Иногда, правда, он и сам называл себя не Гочем, а гоем…
Семен, окончательно запутавшись в Гочевой терминологии, печально смотрел в облака.
– Да, мир полон заблуждений, – сказал он наконец, – люди везде те же, и облака те же.
– А горы?
– Горы… наверно, тоже. Дело только в том, что лучше бывает в привычных горах и с привычными людьми.
– Это все из-за языка, – сказал Гоч. – У вас, русских, нелепая привязанность к вашему языку. Мне вот, например, все равно, на каком языке разговаривать. И каким стилем. Поэтому я так и не пристрастился к поэзии. Может быть, живопись придется мне по душе. Она, кажется, более независима от этих болезненных пристрастий…
Семен резко поднялся на локоть.
– Не делай этой ошибки, – сказал он. – Если уж хочешь малевать – иди в маляры. Малевать стены. На это есть спрос…
– Это неплохая идея, – сказал Гоч. – Я еще подумаю. Огляжусь тут. Собственно, мне ведь все равно, откуда уйти в горы…
Семен ничего не понял. Однако он уже начал здесь привыкать к тому, что человек понятен примерно на четверть: тут тебе не Харьков. Поэтому так милы, наверно, деревья, что они бесхитростны, говорят с тобой на твоем языке. По той же причине так цепляются здесь за собак… Собаки – одна надежда для человека.
Не поняв Гоча, Семен все же держался за него и смотрел на него с надеждой. Этот человек был в еще худшем положении, чем он сам, и человек этот был спокоен. Значит, где-то есть надежда? Значит, не надо отчаиваться? Значит, это просто его русская или даже не вполне русская привычка – все время беспокоиться? Отчего тогда французы неспокойны тоже? Отчего они без конца тревожатся о том, что с ними случится завтра? Что с ними случится, если они не предусмотрят того-то, того-то и того-то, не застрахуются со всех сторон на приличную сумму? Может быть, и французы не вполне русские? А как же англичане, итальянцы, западные немцы? Тут что-то не так…
В первую неделю своей парижской жизни Гоч успел перезнакомиться со множеством русских, которых привела сюда надежда на иную жизнь, на как бы «обратную сторону луны», мир наоборот или наше земное зазеркалье. Одни из них успели выбраться в щелочку нацменской эмиграции в семидесятые годы, другие выбросились за борт туристского корабля или просто тургруппы, третьи выехали через родственников, через женитьбу или замужество. Все русские были рады новичку. Они могли как бы невзначай показать ему свои нерусские автомобили, видеотехнику, кожаные куртки, купленные по дешевке. Он был оттуда, и встреча с ним была как бы свиданием с родиной. Они наперебой рассказывали ему о своих достижениях – он ведь мог оценить их, поскольку он еще мог не знать, что тут у всех машины, у всех куртки, у всех техника. К тому же он мог не заметить, что машины у них не лучшие, так же как и техника, и кожа. Он еще не догадывался, как много есть вещей, которых они «не могут себе позволить». А главное, он еще не понимал их положения граждан второго сорта. Поэтому он не мог по достоинству оценить эту вечную фразу: «Живем не хуже людей». Он не понимал, почему они должны были бы жить хуже? Хуже каких людей? И не догадывался, что живут они все-таки «хуже» этих «других людей».
Через неделю, когда уже стало очевидно, что он здешний и свой, что свидание с ним уже больше не похоже на свидание с оставленной родиной, он услышал первые жалобы. Они были пока так же малопонятны для него, как и победные их реляции. Жаловались почему-то на черных. Еще чаще на социальную несправедливость. Точнее, на отсутствие справедливости. Здесь, оказывается, не умеют оценить по заслугам ни талант, ни трудолюбие, ни жизненный опыт, ни душевные качества. Пройдохи и малограмотные выжиги занимают ключевые посты, добытые по блату. Очень много значит партийная протекция, а также семейные связи.
– Такое мы могли иметь и в Харькове и в Андижане, – сказал как-то Жора за чаем все в той же неизменной Семеновой келье.
– Непонятно, чего иного вы ждали в сфере человеческих отношений? – спросил Гоч и вздрогнул, явственно расслышав в своей речи интонации своего друга Невпруса. – Разве человек изменился к лучшему? И разве кто-нибудь заверял вас, что здешнее общество совершенно?
– Кое-кто, – сказал Жора. – Было дело. Между прочим, в Харькове я и сейчас еще найду двух-трех таких поцев.
– Это не так, – серьезно продолжал Гоч. – Просто оно меньше регулируется сверху, а потому больше регулируется снизу, это общество. Из-за этого некоторые отрасли работают тут эффективнее, а в некоторых царит столь осуждаемый вами бардак. Но отчего, собственно, вам так не нравится бардак? Разве не за счет бардака жизнь была столь чувствительно терпимей на вашей родине?
От этого Гочева «вашей» на собеседников его повеяло холодом, и они словно бы сплотились напротив него, по ту сторону русской чертежной доски, на которой было разложено угощение.
– Это правда, – сказал Семен по недолгом размышлении. – За счет бардака можно было иной раз примазаться к какому-то никому не нужному семинару. Или к какому-нибудь совершенно идиотскому заказу…
– Семинары! – заорал Жора. – Я ездил на них по четыре раза в год. По профсоюзной линии. По снабженческой. По усилению борьбы с хищениями. По линии гражданской обороны… А что мы делали на семинарах? Мы выпивали в хорошей компании и пежили девок…
Здесь все присутствующие (а их, как всегда, в Семеновом приюте было немало) застонали, ибо скудная половая жизнь в эмиграции никак не шла в сравнение с тамошними яркими воспоминаниями. В тамошних воспоминаниях каждый рисовался самому себе этаким казановой-генримиллером (а может, он таким и был на родине). Здесь же отчего-то (по совершенно непонятным причинам, ибо сексуальная революция во Франции совершилась задолго до их приезда) их сексуальная жизнь резко пошла на спад. Впрочем, виноваты были, скорей всего, даже не девицы (как аборигенки, так и эмигрантки) и даже не наличие конкурентного, коммерческого, совершенно открытого любовного рынка. Нет, дело, вероятно, было в них самих, в мужчинах. Бывшие казановы, они больше не были уверены в самих себе. Они были озабочены. К тому же они не имели здесь маленьких, ничего не стоивших им на родине привилегий (чаще всего служебных, родственных или просто блатных), за счет которых они могли так свободно благодетельствовать своих неизбалованных подружек. Грубо говоря, они были здесь никем. Они сами придумывали себе здесь статус, и надо еще было найти такую дуру, которая бы в него поверила без убедительного материального подтверждения. Конечно, здесь тоже существовали идеалистки (впрочем, на других уровнях общества), но большинство женщин все-таки требовали каких-то осязаемых аргументов. А с доказательствами у приезжих было туго.
– Вы все забыли о снабжении, – сказала толстая жена художника. – Может, вам, москвичам, все было просто, но когда я вспоминаю про там, так мороз по коже.
– Что да, то да, – сказал Жора – В здешнем универсаме не то что в вашем гастрономе на Восстания, а, Гоч?
– Но стол… – Семен грустно повел кистью руки над чертежной доской. – Разве у меня в Харькове в мастерской был такой стол? И главное – уже другой аппетит…
– Что да, то да, – сказал Жора. – Даже как-то не помню, чтоб я тут поел от пуза и с удовольствием, это так.
– Но свобода! – воскликнула вдруг полноватая молодая женщина и вся зарделась от смущения.
Кругом засмеялись, но Гоч посмотрел на нее внимательно. Она была ничья не жена и вообще непонятно было, кто она и откуда. Кто-то ее привел сюда, а может, она пришла сама. Во всяком случае, она сидела с краю совсем тихо, не претендуя ни на чье внимание. Звали ее Галя.
Смех стал всеобщим и несколько смущенным. Со свободой тут получилось что-то странное. Она оказалась не нужна. Никто не сочувствовал ни одной из здешних партий, хотя все дружно не любили коммунистов. Но вот хороши ли правые? Вряд ли, раз они так яростно нападают на эмигрантов (мы-то ведь все-таки не французы; конечно, черных давно пора поставить на место, это правда, арабов здесь тоже слишком много, но не приравняют ли они русских к арабам? Все может случиться).
– Как мине там не нужны были выборы, – сказал Жора, – так они мине и здесь не нужны.
Все были согласны с Галей, что здесь очень много свободы (многие считали, что ее даже слишком много), однако никто еще пока не мог объяснить, как можно ее использовать и каким боком это их всех касается. Вполне возможно, что свобода касалась только французов – они все-таки очень любят политику. Эмигрантов мало интересовала здешняя свобода. Их интересовала свобода в России – какие ни то, пусть хоть самые пустяковые послабления. Даже теперь, издалека эти послабления интересовали их больше, чем целые разделы здешней хартии вольности и конституции. И это было понятно. Например, если русских начнут хоть чуточку выпускать за границу, то смогут приехать мама, и тетя Люба, и брат Миша, приехать, повидаться, поплакать. Если в России включат международные телефонные автоматы (как было, например, до 1982 года), то можно будет звонить дешевле, и свободнее, и чаще. Если там разрешат посылки, разрешат зарубежные издания, разрешат выставки… Мало ли что могут там вдруг разрешить. Вот это называлось бы свободой, а тут… Что значит здешняя свобода? Здесь у них, почти у всех эмигрантов, до сих пор морока с паспортами и всякими неполноценными удостоверениями, с визами, с префектурой на острове Ситэ, так что полиция крепко держит их на приколе (покрепче, пожалуй, чем когда-то своя милиция). Деньги здесь были так же важны, как там, даже важнее, чем там, но отчего-то все же не приходило в голову ставить знак равенства между свободой и деньгами. И к тому же все они или почти все (даже какие-нибудь снабженцы) были дома какой-никакой элитой. Может быть, это и было главное.
– Выходит, что все вы чего-то не знали об этом мире? – спросил Гоч удивленно.
– Ничего мы не знали, – возмущенно сказала толстая жена художника. – Нас же не выпускали с выставками, как некоторых.
– Верней, мы читали кое-что, но мы не верили, – сказала Галя.
– А кое-какой лаже, наоборот, даже очень верили, – сказал Жора.
– Ну, а, скажем, основным главным книгам? – спросил Гоч.
– Что вы имеете в виду? «Краткий курс»? – спросила жена художника с вызовом.
– Нет, например, Библию, – сказал Гоч. – Зарубежных писателей-классиков.
– Ты забыл, что мы художники, – сказал Семен. – Мы вообще не так много читали, как вы. Ну, там «Мастеримаргариту», «Бабий Яр» Евтушенко, про что говорят, что надо обязательно прочесть. Мы и теперь.
– Все-таки наш кругозор расширился, – с достоинством сказала жена художника. – Я вот на Майорке уже два раза была.
– А раньше ты на Пицунде была, ты что, по-абхазски заговорила, что ли?
Гоч подумал, что Семен злоупотребляет правами хозяина.
– Наоборот, кругозор, по-моему, сузился, – продолжал Семен. – Про кого мы говорим? Все про тех же парижских эмигрантов, а нас тут три десятка. Все нам про них известно, как в деревне. Да у меня в Харькове, если хочешь знать, дома и гуцулы жили, и ребята из яхт-клуба, и горнолыжники, и туркмены… А тут я еще ни разу на лыжах не стоял.
– Ну ты даешь! Горнолыжник нашелся! – присвистнул Жора.
– Но, товарищи. Ведь это же все для души было, наш отъезд… – робко сказала Галя.
Гоч посмотрел на нее с нежностью и вступил в спор:
– Что ж, тогда ваша акция была бы абсурдной, но приемлемой. Но я, напротив, замечаю в вашей аргументации переоценку внешних факторов. Какие-то там политические свободы, продуктовое и промтоварное снабжение и, так сказать, перемещение тела в пространстве. Редко кто подумал о том, каково придется его душе от всех этих физических и психических перегрузок.
– А вашей душе? – ехидно спросила жена художника.
– Это все не по моей части, – сказал Гоч. – Я вообще выступал сейчас от имени одного моего друга, который живет в Москве. А может, он сейчас в Уйгурии.
– Вот где раньше шашлыки были хорошие, – с чувством сказал Жора, и все стали собираться домой.
Кто-то предложил Гале подвезти ее до дому, но она отказалась и сказала, что ей тут недалеко и она пешком. Поскольку никто больше не мог идти пешком, оставив машину Бог весть где, на произвол судьбы, то Гоч сам вызвался ее проводить.
– Так поступает человек оттуда, – сказал Жора. – Идет и сразу кадрит девушку. Или как это теперь называется?
– Поклеить, – сказала жена художника. – Дешевый клей.
– Нет, не тогда, а теперь? – настаивал Жора.
– Снять телку, – ответил Гоч и вышел вслед за Галей.
До второго перекрестка она успела поведать ему несложную историю своего перемещения в пространстве. Брат выехал по своей жене-полуеврейке-четвертьармянке. Она выехала по брату.
Из-за ограды парка Монсури тянуло ненадежной свежестью. Тротуар во мраке казался почти таким же незасранным, как в России. Из-за старомодного деревянного здания ресторана мерцал пруд.
– Вот здесь, в этом ресторане, любили отдыхать Ленин с Троцким, – сказала Галя душевно.
Гоч умилился и обнял ее за плечи. Пройдя квартал, они обнялись снова, еще теснее, и долго стояли в неподвижности. Гоч был растроган. Девушка была теплая, мягкая, от нее пахло поездом, как от Шуры, она не суетилась и не дергала его за молнию на штанах.
– Вы такой умный. И такой красивый, – сказала она. – Смотрите, у вас даже рука светится…
– Бывает, – сказал Гоч скромно.
Еще через два квартала он предложил ей вернуться в экспроприированный лабаз.
– Мы там сможем найти комнатку. Там даже есть одна незапертая, где картины не такие противные. И с вами мне будет тепло.
– Но ведь можно пойти ко мне, – сказала Галя. – У меня небольшая квартирка в «Ашелеме». Ее не трудно обогреть, и у нас центральное отопление.
– Вы можете себе это позволить? – с ужасом спросил Гоч.
– Да, могу. Не очень многое могу, но это могу. Еду, тепло, одежду, иногда книгу – вот и все, пожалуй.
– Значит, даже телевизора у вас нет?
– Еще нет.
– У вас идеальные условия, – сказал Гоч. Он обнял девушку и запел неверным, но приятным голосом: – «На север идут эшелемы»…
Он подумал, что Невпрус удивился бы, увидев его поющим. Но он еще не жил в неотапливаемых странах, папа Невпрус.
У Гали и правда было очень мило. Очень тепло и ничего лишнего. Они обнялись и долго-долго лежали неподвижно.
– Я чувствую, что ты согрелся, – прошептала она. – Ты не хочешь больше лежать неподвижно?
– Напротив, – сказал Гоч. – Я с тобой, это главное. Представляешь, как сейчас холодно на леднике.
– Это в погребе, да? – прошептала она. – В холодильнике?
– Умница, – ответил ей шепотом Гоч.
– Пожалуйста, не уходи…
* * *
Ему жилось теперь спокойно и удобно. Иногда он оставался ночевать у Семена, и тогда они обсуждали полночи проблемы искусства и жизни. Но чаще он ночевал у Гали, и ему было с ней хорошо. Ей, кажется, тоже. Он не видел, впрочем, сколько-нибудь существенных перемен в своей жизни. Чуть скучнее, чем в Москве, – и только. Правда, изредка, гуляя с Галей по ночному городу, он вдруг набредал на что-то такое, в чем ему чудились отзвуки другой жизни. Так было однажды на пустынной площади Сан-Сюльпис. Он увидел эти красочные ночные дома, и памятники, и фонтан, и огонек в мансарде, и ему показалось, что сейчас на площади появится фиакр, из которого выйдут нездешние, и даже не сегодняшние, люди – кавалеры, дамы, высокий, худой кардинал… Слева маячил какой-то таинственный, затемненный дворец. Может быть, и впрямь что-нибудь творилось в его подземелье, за плотно завешенными окнами…
Жора сказал Гочу, что он только раз почувствовал здесь, что он находится за границей, – в тот день, когда купил за два стольника свой роскошный «пежо». У Гоча таких случаев еще не было, но дважды он был совсем близок к этому – на ночной Сан-Сюльпис и еще раз, на узкой улочке в Пасси, близ Сены…
Бутуна разыскал его однажды поутру и гордо сообщил, что он получил работу от города Парижа. Он собирался взять Гоча к себе в «апрантье», а когда Гоч у него подучится, он даже будет отдавать ему половину зарплаты. Гоч подумал, что, может, и впрямь было бы неплохо подкидывать что-нибудь Гале на хозяйство и Семену на хлеб с вареньем. На следующий день Бутуна подкатил на крокодилово-зеленой машине с надписью «Город Париж». На нем самом красовался такого же ядовитого цвета комбинезон, но только без надписи. Они отъехали два квартала и вылезли из машины. Бутуна вытащил две метлы с черными пластмассовыми прутьями и сказал важно:
– Делай как я! – Он медленно пошел впереди и, найдя кучу собачьего дерьма посолиднее, стал размазывать ее по тротуару ровным слоем, как повидло по бутерброду. – Делай как я, – повторил Бутуна, и Гоч стал лениво повторять его не слишком темпераментные движения. Впрочем, в замедленности движений Гоч сумел даже превзойти своего учителя. Хотя Бутуна важно объяснил ему, что тут, во Франции (и, в частности, среди друзей Бутуны), это занятие называется «подметанием», оно не стало для Гоча после этого ни более осмысленным, ни менее противным. Узнав об этом трудовом эксперименте, Жора категорически запретил Гочу мелочиться.
– Скоро я тебе уже все оформлю, – сказал Жора. – И будешь себе через комитет интеллектуалов в Нантерской библиотеке за три тыщи в месяц хуем грушу околачивать. А пока – гуляй…
Бутуна, впрочем, и сам вскоре бросил это грязное занятие. Однажды он снова заехал за Гочем и повез его на площадку перед дворцом Шайо. Здесь вместе со множеством соплеменников он на чистом воздухе продавал присланные ему из Африки изделия ремесла. Туристы приходили сюда кучами – поглазеть на фонтаны, на Эйфелеву башню, сфотографироваться, отметиться или восхититься. Некоторые из них и впрямь что-нибудь покупали у Бутуны – кто амулет на шею, кто маску, а кто и кожаную шляпу. Доход был невелик, но зато и работа была приятная. Мимо проносились какие-то дурачки на роликах, красавицы всех континентов позировали влюбленным в них фотографам, рокотали немцы, болботали американцы, остальные, свянув от робости, оставались почти неслышными. Русской речи Гоч здесь так ни разу и не услышал.
Туристы глазели также на Бутуну и Гоча – они тоже были принадлежностью Парижа, его достопримечательностью, чем-то вроде клошаров или вроде растений в ботаническом саду, только без бирочки, по которой можно было бы узнать, откуда они, как попали сюда, чем живы и как называются. Впрочем, туристы и не были особенно любопытными.
Однажды, забредя на многолюдье к Семену, редактор какого-то русского национально-воспитательного журнала предложил Гочу написать статью об уникально духовном религиозно-мистическом теле России. Гоч внимательно выслушал редактора, а потом признался с серьезностью:
– Я не так хорошо знаю этот вопрос, как мой старший друг, русский прославленный патриот Григорий Исаакович Невпрус, но я думаю, даже он не понял бы, в чем тут духовная уникальность. Разве каждая нация не имела своей духовности? А сколько их вообще, наций?
– Мы должны все заострить до предела, чтоб уцелеть в рассеянье, – сказал редактор. – Доводить все «ад абсурдум».
– Рассеянье, рассеянье, – рассеянно повторил Гоч. – Мы в диаспоре, как евреи или армяне. А кругом абсурды, их так много здесь…
Один из гостей дождался Гоча в коридоре, взял его под руку и настойчиво повел в тот дальний конец коридора, где не было даже произведений искусства.
– Я слышал, какую вы дали ему отповедь. Я не ошибся, решив, что вы тоже из Закавказья?
– Почти не ошиблись, – сказал Гоч.
– Ну да, – дружески улыбнулся черный человек. – Рассеянье… Диаспора… Болтовня… Вы должны познакомиться с настоящими людьми. А тут все манная каша… Мужчине нужно настоящее дело. Я зайду за вами в среду под вечер. А можем встретиться у ваших ворот. Но – язык надо держать за зубами. Умеете?
– Я на Кавказе рождена, – весело сказал Гоч.
– Армянин это умеет, – сказал смуглый и пожал ему руку.
– Стесьтюн! – сказал Гоч, как, бывало, говорил его друг, консультант Союза по армянской литературе, провожая гостя до дверей кабинета.
Он с нетерпением ждал среды и встречи с настоящими людьми, с трудом удерживая язык за зубами, что особенно трудно давалось в Галиной постели. Она вглаживала его в себя с такой нежностью, что они становились наконец одним телом и можно было уснуть в первозданном этом тепле. В эти минуты необходимость держать в уме предстоящее приключение становилась для него тягостной.
В среду тот же армянин (его звали Вартан, и он был тоже художник) встретил его у ворот и повез за восточную окраину города, в армянский пригород Альфорт. Там они с полчаса плутали среди однообразных домов, пока Гоч не сообразил, что они просто ходят по кругу. Начиналась конспиративная романтика.
Потом Вартан завязал ему глаза тряпкой, они долго шли по коридорам и наконец вошли в какое-то кафе, где сидело человек двадцать молодых, красивых, бородатых, а изредка даже и бритых армян. Вартан представил им собрата, только что прибывшего с Кавказа, и сказал, что этот брат и друг выразил готовность быть с ними до конца. Послышались скупые мужские аплодисменты, после чего Гоч сказал, что все это, вероятно, так, только он хотел бы для начала узнать, чем занимается эта, как он понял, боевая и строго секретная организация. Слово для разъяснения было предоставлено самому Вартану, и он предупредил, что будет краток. Он сказал, что всему миру известно единственное по своей людоедской жестокости преступление турок против древнего и культурного армянского народа – геноцид. Два миллиона (а новые, уточненные данные каждый год будут увеличивать эту цифру) невинных армян, в том числе детей, стариков и женщин, были в буквальном смысле вырезаны турецкими ножами. И вот час справедливости настал: армянская подпольная революционная организация мстит убийцам, которые не уйдут от возмездия. Вартан крикнул еще что-то по-армянски, то ли «за кровь!», то ли «от моря до моря» (последний лозунг должен был обозначать размеры грядущей, отмщенной Армении) и сел, благородно сверкнув взглядом.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?