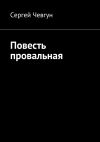Текст книги "Пионерская Лолита (сборник)"

Автор книги: Борис Носик
Жанр: Литература 20 века, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 21 (всего у книги 24 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Обратно я большую часть дороги ехал в такси один. От этого цена проезда не стало дороже. Один раз я поджидал машину в пальмовой роще, в другой раз – в чайной на маленькой площади. В Уарзазат я добрался под вечер. Какая-то французская девица у стоянки спросила меня, не знаю ли я, где тут не слишком дорогая гостиница, и я отвел ее в свой прежний восьмидолларовый роскошный барак с ледяным душем, восточной лепниной и орущим телевизором. Дорогой она рассказывала мне о своей борьбе за освобождение женщины. Она была не очень страшная, а для француженки даже не слишком длинноносая, но можно было догадаться, что борьба за освобождение закалила ее душу и тело, изгнав из них последние признаки женственности. Мы даже пошли ужинать вместе, и за ужином она продолжала рассказ все о той же борьбе, жертвой которой стал какой-то ее парижский мужик, который оказался «мачо». Я без труда представил себе, как она им помыкала в самый разгар полового акта, давала ему рекомендации с высоты своей унылой фригидности, сосредоточенно, остервенело ожидая, когда же придет то, что к ним, похоже, никогда не приходит. Ее рассказ изгнал из моих бойких мыслей и ленивого тела последние поползновения, и, демонстративно протягивая деньги официанту – только за себя, – я взглянул на нее заговорщицки. Справившись с легким разочарованием, она вернула мне заговорщицкую улыбку: понятно, старик, ты не платишь за двоих, чтоб не унижать мое женское достоинство. Мы ведь равны, старик. Оба мы борцы за женское равенство, оба, надо полагать, парижане, левые интеллектуалы и… Боже правый, какая тоска!
Назавтра я тронулся в путь на автобусе. Обратный авиабилет у меня был от Марракеша, так что предстояло неторопливое автобусное путешествие через горы. Едва автобус тронулся, я увидел касбу, прекрасную, полную гордого сознания своей подлинности, древности, уникальности и простоты. Потом кто-то легко коснулся моего рукава.
– Там, – сказал по-французски девичий голос. – Еще одна.
По левую сторону от дороги была еще одна красная глиняная касба, оберегающая сон ксура. Это было двойное чудо – скопление древних хижин и девушка в кресле по соседству. Как она догадалась, что они волнуют меня, эти касбы, до дрожи. О чем она вообще умеет догадываться, эта миловидная, остроносенькая берберка, так славно говорящая по-французски и столь чувствительная к чужой дрожи. У нее были прекрасные, плывущие берберские глаза с поволокой. Касбы кончились, мимо пошли поля, мы разговорились, легко и естественно, точно в подмосковной электричке. Ее звали Айша, она была незамужняя и жила в Уарзазате. Вообще-то она была родом из горной деревни, которую нам еще предстояло проехать. Отец умер давно, оставив матери кучу детишек, но старший брат успел выучиться на юриста. Он был в Уарзазате каким-то стряпчим, а она, окончив школу, теперь секретарствовала за скромную сумму в полторы сотни долларов в месяц. И жила тоже у него, спала в прихожей на раскладушке, и вдобавок помогала его жене по хозяйству, и мечтала о своей жизни, о своих детях, мечтала выйти замуж, уже не молоденькая – двадцать пять. «Отчего ж они на вас не женятся?» – воскликнул я возмущенно. «Они» – это были бесчисленные юные и не слишком юные марокканцы, которые толклись целый день в кафе и в вестибюле гостиницы, смотрели телевизор и предлагали наперебой какие-то ненужные услуги.
– У нас женятся на богатых, – сказала она обреченно.
Взгляд ее говорил, что, в сущности, я и сам бы мог на ней жениться, купить для нее раскладушку и наделать ей кучу детишек с удивительными берберскими глазами, похожими на глаза моих младших сестер. Нет, это было невозможно – я был дважды женат, я был бездомный (куда и свою-то поставишь раскладушку?) и, хотя не преуспел в многодетстве, числился отцом дочки и сына от двух жен, конечно, плохим отцом, бедным и бродячим отцом, а все же отцом…
– Да, да, мужа… – бормотал я, перебирая в уме немногие знакомые мне вне России особи мужского пола. – За француза… За американца…
Я был придирчив – она очень мне нравилась, ей цены не было, этой прелестной невесте из Уарзазата. Впрочем, напрасно я придирался к потенциальным претендентам на ее руку – я просто не находил ни единого кандидата среди моих знакомых по обе стороны Атлантики: один был женат, другой – гомик, третий – импотент и женоненавистник, четвертый – бездомный эмигрант, сбежавший от жены и детей, оставленных на родине…
– Конечно, надо только подумать, – бормотал я, глядя на нее с изумленьем, нежностью и сожалением. Я даже не могу сказать, о чем я сожалел. О, том, что я потратил много времени зря – на глупости, на путешествия, книги? О том, что женщины, на которых я женился, не замечали, куда я смотрю? Или не придавали этому значения. О том, что уже не будет больше маленьких, сопливых, черноглазых детишек? Я знал, что нельзя допускать таких настроений, – они уже привели меня к браку, дважды. Но тогда было не то. А теперь было то, то самое… Но горы бежали мимо, и совместного пути оставалось не больше двух часов…
– Вот, – сказала она, – вот наша деревня. Наш дом – вон там, сзади…
Это была горная деревня с каменными сараями, похожими на маленькие крепости. Очень бедная и суровая деревня. В холодную пору зимние деревни особенно грустны и суровы. Мы остановились на три-четыре минуты, и я увидел, что здешние люди продают туристам лишь размытые водой камни, которые тут называют «роза пустыни», – продают за гроши… Больше им продать, вероятно, нечего.
В Марракеше на станции ее встречал брат. Мы уже успели обменяться телефонами и адресами и молчали, подъезжая.
– Вы мне столько рассказывали… – сказала она на подъезде к станции.
– Если б можно было бы зачать от голоса… – сказал я, не слишком надеясь, что она поймет, о чем речь. Но похоже, что она поняла. И взглянула на меня с неожиданной тоской и нежностью.
Она звонила мне в Париж раза два или три. Я растерянно говорил, что да, помню, все помню, конечно, все-все… Но…
– Помнишь – касба? – спрашивала она после разорительного молчания по телефону.
– Конечно… – говорил я нежно. – Коне-ечно…
Потом она перестала звонить. Может, она все-таки вышла там за кого-нибудь замуж. Надеюсь, что с ней не случилось ничего плохого. Надеюсь, что ей не хуже, чем нам всем. Ей, которая лучше всех нас.
Уарзазат – Париж,
1989 – 1996
В Истанбуле, в Константинополе…
Молодой дежурный был сыном хозяина гостиницы, албанца из Косова. Он довольно старательно изображал отчаянного уголовника, но, может, он и был уголовник. Мы сторговались с ним на семистах пятидесяти тысячах за ночь, что в переводе на русский язык означало десять долларов. Комнатка оказалась узенькой, крошечной, койка занимала ее почти полностью, а умывальник (он же писсуар, на мой худой конец) был в коридоре. Я опустился на койку и почти сразу же задремал – ночь в автобусе была мучительной и бессонной, а путешествие от средиземноморского Бодрума до Стамбула растянулось больше чем на полсуток…
Проснулся я от журчанья голоса. Голосок был девичий, и говор показался мне русским. Я сонно усмехнулся: всякий нефранцузский говор казался мне в этом путешествии русским. Это была болезнь, от которой, мне казалось, я уже излечился за пятнадцать лет, но вот, видишь, снова… В нынешнем путешествии особенно знакомой казалась мне издали турецкая речь. Может, она переносила меня в Бухару, в Ташкент, в Фирюзу. Наверно, сумятицу эту вносило еще и ожидание. Я слышал, что русские заполонили уже анатолийский берег и Трапезунд, однако в толпах туристов, бродящих по древнегреческим руинам, мне попадались все, кроме русских. Может, русские не за тем ехали в Турцию…
Больше всего попадалось отчего-то канадцев и австралийцев. Наверно, пришел их черед обогащаться знанием. А может, просто какая-нибудь австралка вернулась домой из Турции и рассказала соседкам, что там все очень дешево в переводе на австралийские драхмы, а турки, о, турки – они очень милы… Они и впрямь были вполне симпатичные, эти турки. А уж по-иностранному-то понимали куда лучше французов.
…Нет, на сей раз девичий говор был определенно русским. Даже, я бы сказал, южнорусским. Неужели опять миражи, как в первые мои парижские годы?
Я поднялся и приоткрыл дверь. Теперь голос звучал вполне отчетливо. И впрямь русский говор, да еще с южнорусской интонацией. Девушка говорила громко, с нажимом – кому-то жаловалась, кого-то убеждала. Объясняла, что уже три дня за гостиницу не плочено, да и гостиница плохая, на боковой улице, черт-те где, вчера клиент два часа искал… Иногда она вдруг понижала голос, что-то там бормотала, почти шептала.
Я закрыл дверь. Подумал, что это все очень скучно: русские наташи штурмуют панель. Я уже видел их на Кипре… Вот еще вспомнить бы, отчего так интересно было когда-то читать купринскую «Яму». По малолетству? А отчего так скучно сейчас? Из-за возраста? Не знаю. Интерес к сексу ведь, увы, не слабеет. Пропадает лишь интерес к производственной теме. Я стал припоминать, отдавался ли нам кто-нибудь за деньги там, в России? Пожалуй, что нет. Не то чтоб неизбывная любовь царила в том мире промискуитета, откуда мы сбежали из нетерпенья, нет. Отдавались нам из любопытства, из чистой симпатии, даже из уважения, из чувства долга и просто согласно ритуалу (вот уже и чай пили, и об искусстве беседовали, теперь что ж дальше…). Из корысти тоже, конечно, отдавались, но не без примеси чувств. И никогда, чтобы так вот – деньги на бочку. С последней прямотой. Нет, нет, декорум был всегда соблюден. Дома помогали стены (забитые книгами), родной язык (неплохо подвешенный). Да и возраст был иной, напор. Тут главное – напор. Ностальгия первых эмигрантских сочинений (а кто ж не писал в те годы – и врачи, и социологи, и кремлеведы, и кремленологи, и стукачи) была не только тоской по березкам и молодости, но и по утраченному с потерей статуса мужскому достоинству… Помню вот дома, вот там… Наименее интересное вспоминалось как браки – первый брак, второй, третий, – но тут кто ж тебе виноват? Об этом, впрочем, вообще лучше не вспоминать…
Я встал, сунул ноги в кроссовки. Надо было идти смотреть город Стамбул, Ай-Софию, Золотой Рог… Пока то, что я видел из окна автобуса, при въезде в город, было ужасно: многие километры неряшливых бетонных коробочек, то ли оставшихся неотделанными – по небрежности, то ли вообще недостроенных – из-за недостатка средств. И то сказать, город вырос за недавние годы раз в десять – пятнадцать, говорят, в нем уже больше двенадцати мильонов. Как живут, чем, зачем? Что-нибудь, наверно, продают друг другу. Или все вместе все подряд – туристам. Как эта вот наташа из соседнего номера. Или молодой бандит-югослав.... Я выбрался из нашего уютного переулка с его стариками, курившими кальян, копеечными овощными лотками и переговорными пунктами, которых в Турции больше, чем в целой Европе. На главной улице было полным-полно народу. Большинство турок что-то кому-то продавали в розницу. Остальные возвращались по домам, вероятно уже обслужив свои торговые точки. Посреди улицы горделиво и медленно двигался одновагонный трамвайчик, раскрасавец двадцатых годов, в целом мире ставший вдруг желанным признаком прогресса и спасением от вонючих машин. Ближе к базару Баязет толпа стала еще гуще. Вдруг попалась надпись на русском, предлагавшая меха и брильянты. Совсем задешево. Дешевле пареной репы. Потом русских надписей стало много. Магазины наперебой извещали, что у них тут говорят по-русски. Можно было зайти в магазин, поболтать, подлечиться от ностальгии. На углу, у светофора, я услышал русскую речь… Молодые женщины. Мордатые. Во всем кобедничном. Русской их речь можно было назвать только условно. В ней была густая примесь диалектов, акцентов, новых жаргонов, нанизанных на шампур недоученной украинской грамматики. Пахнуло Кишиневом, Херсоном, Одессой, Нальчиком. Глядели они, впрочем, опасливо, недружелюбно. При первых русских словах еще крепче вцепились в огромные полиэтиленовые пакеты, которые волокли в гостиницу. Что там было в пакетах, можно было только гадать. Вероятно, меха и бриллианты. Одна из дам коротко ответила на мое приветствие, две другие тут же взглянули на нее осуждающе. И то сказать, нынешний вид мой был малопривлекателен, а раньше мы с ними не были знакомы. Да и кем мог оказаться человек, заговоривший с вами по-русски «за границей»? Скорей всего, жуликом. В лучшем случае – конкурентом. Ничего себе лучший случай! Но хоть страх перед шпионом ослаб…
Сидя тем же вечером в скверике между прославленной Ай-Софией, перебеленной в мечеть, и какой-то другой, огромной, в пол закатного неба мечетью, я вспоминал весь свой утомительный стамбульский день: дорогой и скучный, похожий на сувенирную лавку базар, ресторан, который тоже тщетно пытался быть дорогим, прохладный холл шикарной гостиницы, куда я зашел отлить. Что-то в ней было, в этой гостинице, предназначенной для более лучших, чего я не мог вспомнить и что теперь, сидя на скамеечке, припоминал. И вдруг забрезжило – да, да, Вертинский. Кумир моего отрочества, милый Вертинский. Он ведь тут долго прокантовался, в Константинополе, а когда приехал, город был уже полон русских. Он вспоминал, что они с другом Путятой отчего-то сразу поселились в самом фешенебельном отеле, каком-то «Паласе» (откуда деньги?), а потом, разутюжив свой актерский гардероб, пошли гулять по центру – молодые, роскошные. Путята даже гвоздичку воткнул в лацкан. Шикарно и по-домашнему, как «где-нибудь в Харькове, на Сумской» От любования роскошным другом веет двусмысленностью, как от всех его рассказов (нежных о мужчинах, чуть насмешливых и дружественных – о женщинах), но он ведь и был дитя двусмысленного века, 10-х годов. Недаром, описывая этого ко всему подходившего «боком» ломаку и как бы неженку, Петр Пильский вдруг вспомнил Оскара Уайлда. Двусмысленны все его воспоминанья, написанные в Союзе или перед приездом в Союз, в Шанхае, – то для нас, то «для них» («они»-то ведь должны были прочитать их и впустить его, да еще, впустив, не заслать куда Макар телят, как заслали многих; не удивлюсь, если выяснится, что он им и раньше подыгрывал, играл в их игры, может, еще в ту пору, когда пел вместе с Плевицкой в Париже, он мог, для него это была бы просто игра), воспоминанья то вдруг эстрадно-игровые, прелестные, то бездарные или подловатые: он был взрослый, здравый циник, актер, труженик, жуир, он хлебнул и тамошнего и здешнего убожества, и он знал, что рассказывать надо только про фешенебельные отели, публика это любит. Возвращаясь домой, я заглядывал в раскрытые двери нарпита – вдруг и впрямь он поет еще здесь где-то. Остановлюсь, дослушаю:
В последний раз я видел вас так близко,
В пролеты улиц вас умчал авто…
Боже, какая магия во всех этих текстах, напетых им так нарочито жеманно! Как потрясли они меня, тощенького советского школьника, в то лето, в конце войны, в двух шагах от его валентиновской дачи (до них пели мы всей дачей «На позицию девушка провожала бойца…»). А ведь был и я тощеньким, был школьником – ей-Богу. И «мама любила такого». Но разве одни школьники от него балдели – и тогда, и раньше, и позже? В Шампани, где я в одиночестве коченею все эти годы на пустынном хуторе, жившая в нашей же глуши, за дальним лесом сильно пьющая болгарка-певица рассказывала мне, как к ней за кулисы после какого-то ее парижского концерта пришел знаменитый писатель-француз и стал плакать, благодарить – за это вот «…в притонах Сан-Франциско» Вертинского. А потом, через месяц или два, ночью – они в эту пору обычно добивают вторую литровку виски с мужем ее, французским алкашом-сталинистом, – позвонил из Парижа какой-то мужик и очень просил, сказал, что это дядя его очень просил, чтоб она спела у него над гробом что-то такое про Сан-Франциско, а дядя, он, видите ли, того, покончил с собой. Она поехала петь, и оказалось, что похороны в военной церкви, в Доме инвалидов, кругом генералы, знамена, писатели, и сам он тоже был герой войны, вдобавок еврей. Она и спела им в церкви: «Лиловый негр вам подает манто…» Голос у нее надтреснутый, пропитой… Я пытался понять, откуда взялся этот наш лиловый негр и эти предсмертные слезы у французского писателя, дипломата, голлиста, единственного дважды лауреата высшей их литературной премии. Может быть, я даже и догадался о чем-то. Юная его матушка (она, кажется, сразу прогнала скучного своего второго мужа Лейбу Кацева и предпочла быть матерью-одиночкой) в той довоенной счастливой Москве отиралась на театральных подмостках, когда, чуть нюхнувший уже кокаину, вдруг запел и сразу стал звездой молодой киевлянин Саша Вертинский-Пьеро. И вот потом, позднее, уже в третьей по счету эмиграции, прибирая отельчик в Ницце, она все пела и пела Сашины песенки своему ненаглядному малышу Роме Кацеву, будущему Ромэну Гари, – такое не забывается. Или вспоминается вдруг перед смертью…
Помню, как сталинист по окончании жениного рассказа выпил последний стакан водки и что-то залепетал, а я достал парижский портрет нашего ненаглядного крунера – тот, где он с огромной собакой.
– Ого, – сказала она. – Он был голубой?
– Отчего? – спросил я вполне ошалело.
– Да так, у них что-то у всех такие собаки… – Она улыбнулась так загадочно и безумно, что я с невольной досадой взглянул на поклонника Сталина: жизни, бля, от вас нет… Шел бы ты себе… – Нет, – сказала она, – он не по этой части.
– Усталый алкоголик?
– Конечно… Но ведь и я, я ведь тоже вроде этого вашего…
Я кивнул, опечаленный своей ошибкой.
– Понятно, – сказал я, – наш двусмысленный век…
Позднее я видел у нее нескольких вполне соблазнительных домработниц, за которыми она ездила к себе в «третий мир», даже присутствовал при ее с ними любовных разборках. А еще поздней они пропили дом за лесом и перебрались куда-то еще, оставив мне историю про это пенье над гробом – куда ее деть теперь?..
В отеле, поднимаясь в свою келью, я встретил на лестнице юную деву и наугад сказал «добрый вечер» по-русски. Она остановилась растерянно, призналась, что, да, она русская, Эльвира, из Ялты, а вы?.. Я видел, что она не рада земляку-свидетелю, что она вдобавок спешит и рабочий день ее не кончен, а может, только еще начался. Я отпустил ее с Богом. Подумал, что торговая деловитость, в сущности, идет в ущерб женственности: как у тех мордатых туристок на перекрестке… Ополоснув виноград сомнительной стамбульской водой над раковиной-писсуаром, я улегся в номере и, жуя виноград, стал вспоминать Ялту – нет, не все сто двадцать четыре поездки в Ялту, в Гаспру, в писательский дом на Дарсане (солидный сталинский дом, с толстенными колоннами на индивидуальных балконах и только одним на всех сортиром в конце длинного коридора, с прекрасным садом, с вырезанным безутешной вдовой – хорошо, что не при жизни, – сердцем Луговского в скале над тропкой, с огромной и шикарной, как Дворец съездов, нищенской столовкой). И не утренние поездки в зимний бассейн на Чайной Горке и в чеховский грустный дом, не бродяжку Алису из Киева и не воспитательницу из сиротского дома, что под самым фуникулером, близ то ли улицы Войкова, то ли ихней Леси (хоть эта была Украинка), нет, нет. Мне вспоминалось подвальное кафе в «Ореанде» зимней порой – во время самого моего первого ялтинского «семинара молодых драматургов» (молодыми драматурги оставались до смерти, потому что под семинары старых Союз писателей денег не отваливал, а, помнится, были там на семинаре и совсем старые, например один эстонец-кукольник, ну а мне-то, молодому подстарку, едва исполнилось тогда сорок, лучшие, можно сказать, годы жизни…) Вот тогда-то мы, помнится, и зашли как-то после зябкой прогулки по обледеневшей набережной (сегодня – лед и волны, а завтра – вдруг солнце и цветенье японского жасмина в скверах – такая она, зимняя наша Ялта, Яльта, Фиальта…) в подвальное кафе при гостинице «Ореанда» – просто так, погреться за чашкой кофе. Там царил полумрак, о чем-то булькала музыка, а к бару, как птицы, на жердочках этих неудобных, вполжопы, табуретов жались ялтинские девицы, лишенные по зиме клиентов (профсоюзные санатории обходились бесплатным самообслуживаньем за счет самих исцелявшихся и персонала)… В ту зиму, помню, один гордый эстонский драматург то ли заболел, то ли пренебрег халявным ялтинским месяцем безделья, и я упросил державную Светлану вызвать на его пустующее место моего приятеля, сильно пьющего красавца юмориста Андрея. Он прибыл в одно прекрасное утро и с автовокзала отправился для опохмелки прямым ходом в подвал «Ореанды». Я, спрятавшись от лекции Пименова, укромно постукивал в то утро на своей машинке на зимнем солнышке среди белых колонн балкона, когда со страшным криком и хохотом среди клумб под перилами появилась вдруг целая орава девиц, окружавшая блаженно-пьяного Андрюшу. Я, испуганно шикая, пропустил их в дом через балкон, достал им ключ от свободной комнаты, а позднее их, кажется, разобрала уже обогатившаяся воспоминаньями Пименова творческая группа закавказских драматургов – где они нынче, живы ли, чем живы (я имею в виду драматургов, а не девиц, среди которых, впрочем, была одна прехорошенькая)? Ялта, милая Ялта – «кто вас видал, тот не забудет никогда». Впрочем, это уже, кажется, про море в Гаграх – неужели они раскурочили Гагру, грузинские патриоты? Или абхазские патриоты? Храни нас, Боже, от патриотов, от их беспощадной, безлюбовной ненависти, от их «гуманизма с кулаками». И почему они так все покупаются на крик «Вы лучшие, Вы самые бедные», все эти нежно любимые мной народы-нацмены – и русские, и евреи, и грузины, и армяне, и балкарцы, и фульбе, и тутси? Да взгляните вы на себя в зеркало, разве мама любила такого?
Видно, гуманизм все же взял в моем организме верх над обидами, потому что я мирно уснул, с гроздью винограда в руке, – до первого мощного позыва к диурезу. «Дозарезу, дозарезу мне потребно диурезу», – бормотал я, водя ногами по грязному полу в поисках кроссовок…
Назавтра у меня еще оставалось полдня до отъезда в аэропорт. Я вышел из албанского притона, пересек одну шумную трамвайную улицу, потом вторую – по навесному мостику – и пошел в гору. Здесь были какие-то больницы, а также вполне уместные у входа в больницу похоронные магазины со странными, на длинной палке, опахалами (вероятно, их здесь втыкают в могилу для красоты, а может, они имеют и какое-нибудь другое похоронное предназначенье), и милые, словно бы сроду не видевшие туристов, неторопливые турки. Я кружил по узким улочкам, среди мечетей и погостов и вдруг увидел деревянные двух– и трехэтажные дома. Точно в таком я провел свое довоенное детство в Банном переулке, что между Первой Мещанской и Большой Переславской в Москве. Наши-то дома давно снесли, но и эти, последние в квартале, дышали уже на ладан и были подперты столбами, чтоб не падали на прохожих. Я присел на камень, чтобы перемотать отснятую пленку, и подумал вдруг, что в таких вот они и снимали себе комнаты или крошечные квартирки, те русские, что нашли тут какую ни то работу и остались в Константинополе, не потащились за море искать счастья в Германии, во Франции, в Аргентине или в Штатах («трудно плыть, а звезды всюду те же»). Вот, может, тут и писатель М. Агеев жил, он же Марк Леви, автор «Романа с кокаином», нашумевшего в узком эмигрантском кругу в середине тридцатых, а потом снова ставший популярным в восьмидесятые – девяностые, уже в переводах. Где-то он тут и похоронен, наверно на константинопольском кладбище, – на каком, интересно, языке надгробная надпись – на турецком, на русском? Чем он тут жил, как жил? О нем известно так мало, что один парижский профессор доказывает, что его сроду и не было, никакого Леви. Что это все Набоков-затейник написал – и роман, и рассказ, снова одурачив целый мир. Но только если про Леви известно и вправду мало, то про загадочного Набокова теперь уже больше, чем нужно, так что романа он этого не писал. А написав, не смолчал бы дольше недели… Дружила с ним, с этим Леви, сумасбродная и милая поэтесса Лида Червинская из «Парижской ноты» мэтра Адамовича, «незамеченного поколения», обживавшего по ночам Монпарнас. Видно, он тоже наведывался в Париж. Может, ездил к Лиде. Она, рассказывают, потеряла его паспорт, отданный ей на продление. Нашел кому доверить паспорт И что он делал потом со своей славой в узком русском кругу, беспаспортный этот Леви?.. А она ведь еще жива была, эта Лидия Давыдовна, когда я впервые приехал в Париж. Не успел повидать. Теперь уж там повидаемся… А Сириным-Набоковым он, конечно, восхищался, как все, – может, отсюда и совпадения в их прозе, скрупулезно собранные парижским профессором наших дней. Было у них, значит, время все читать тут, в Константинополе. И читать и писать по-русски, тут, на краю света. Да он, видно, забавный еще город был в те времена, космополит-Константинополь. С той поры все почти разбежались, кроме турок. Впрочем, и турки бегут, неплохо заселили Германию. А турецкая деревня тем временем освоила город. Стоя у перекрестка, вчера под вечер я вглядывался в толпы людей – по-европейски одетых женщин, мужчин при галстуках. Они не были похожи на слишком уж усердных мусульман, и все же… И все же город уплывал куда-то, все дальше от европейского берега.
Пора было прощаться с ним, уезжать. Укрепив на плече сумку со спальным мешком (не на их же простынях валяться в гостиницах), я покинул комнату-пенал, тысяча восьмисотый временный приют в этой временной жизни, прощай, прощай… Девица Эльвира-наташа попалась мне внизу, в вестибюле, – она отоспалась и была не такая деловая и пуганая, как вчера. Она даже улыбнулась мне и сказала:
– Пока-пока, счастливого вам странствования…
– Пока, – сказал я. – Не слишком утомляйте себя, милочка.
Она смотрела мне вслед с завистью. Может, ей здесь уже обрыдло.
Молодой бандит-албанец стоял у входа на мостовой.
– Уезжаешь, – сказал он. – А тут сиди…
Как ни странно, в голосе его тоже слышалась зависть.
– Ну что тебе, – сказал я вполне беспечно. – У тебя русские девушки. С ними нельзя быть несчастным.
Он вдруг помрачнел, взглянул на меня угрожающе:
– Они с Украины.
– Еще лучше! – вскричал я, перевесив сумку на другое плечо. – Гарные дивчины, очи, зирки…
Он не понял того, что я сказал, а главное, того, что я понял. Не знаю даже, чего он боялся – лишних полицейских поборов или разборок с конкурентами?
– Слушай, ты… – сказал он с угрозой.
– Да, зирки, зирки, ты ж мене пидманула… – сказал я вполне жизнерадостно: мы стояли посреди улицы, на нас таращились хозяин переговорного пункта и зеленщик, я был в безопасности, судьба снова выручала меня из беды, готовя к последней, окончательной передряге.
Я не дождался окончательного оформления его мучительно неповоротливой мысли и зашагал к трамваю.
«Терминал С» стамбульского аэропорта был полон ожидающих пассажиров. Об отправлении парижского самолета, видимо лишь случайно угодившего на этот терминал, еще не было объявлено. Зато объявлено было об опоздании самолетов на Петербург, Херсон, Нальчик, Симферополь, Челябинск, Киев, Москву и Алма-Ату… Ожидающие иностранцы, бывшие мои и друг друга земляки, сидели в обнимку со своими огромными тюками, замотанными в пластик. Иные убивали время, обматывая заветные тюки клейкой лентой, которая должна была уберечь товар то ли от воды, то ли от огня, то ли от любопытства сограждан. Я отыскал свободный стул рядом с каким-то кудрявым парнем лет двадцати трех и без труда вступил с ним в беседу. Он летел в Москву, и я гордо сообщил, что я вообще-то тоже москвич. Он взглянул на меня насмешливо – я был уже не такой москвич, как положено. Сам он летал в Стамбул из Москвы каждую неделю: какой-то челночный бизнес, импорт-экспорт. «Свое дело», – сказал он. Всего делов-то. Он похвастал, что летает и в другую заграницу, в Киев например. Но вообще ему уже надоело…
Я вспомнил, что впервые выбрался в эту капиталистическую заграницу (в тот же Стамбул) сорока шести лет от роду. Но он прилетал сюда по делу, так что он, в сущности, еще ничего не видел – ни в Москве, ни в Стамбуле. И ничего никогда не читал. Может, поэтому он и был такой прекрасно-кудрявый, жизнерадостный… В общем-то он мне понравился. У него не было этой сосредоточенной подозрительности и неизбывной торговой скуки в глазах. Мне даже захотелось расспросить его кое о чем, о секретах счастья, но тут объявили о начале регистрации на парижский рейс.
– Ладно, в другой раз, – сказал я.
И подумал, что и поздно уже, наверно, и бесполезно выведывать чужие рецепты…
Стамбул – Париж, 1996
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?