Читать книгу "МЖ: Мужчины и женщины"
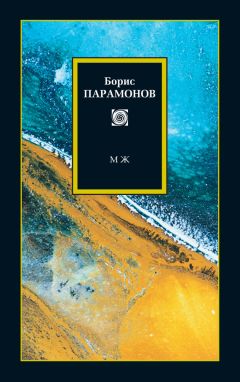
Автор книги: Борис Парамонов
Жанр: Публицистика: прочее, Публицистика
сообщить о неприемлемом содержимом
Из бури музыки – тишина, – нет, не тишина; старинная женственность, – да, и она, но за ней – еще: какая-то глубина верности, лежащая в Вас; опять не знаю, то ли слово: «верность»? – Земля, природа, чистота, ЖИЗНЬ, ПРАВДИВОЕ лицо жизни, какое-то мне незнакомое; всё это, всё-таки, не определяет. ВОЗМОЖНОСТЬ СЧАСТЬЯ, что ли? Словом, что-то забытое людьми, и не мной одним, но всеми христианами, которые превыше всего ставят крестную муку; такое что-то простое, чего нельзя объяснить и разложить. Вот Ваша сила – в этой простоте.
Проще и понятней (6 мая 1914):
…искусство там, где ущерб, потеря, страдание, холод… кроме коротких минут, когда я умею в Вас погрузиться…
Дельмас – исключение – очень просто понимается: она была Кармен – убиенная Кармен. Она была – труп. Блок мог любить труп, «входить» в труп. Прибавьте к гомосексуализму некрофилию, и вы получите что-то вроде Гоголя. Да просто – Гоголя. Вернее, Блока. В любом случае – великого художника.
Впрочем, сам Блок не всегда идеализировал свои проблемы. В творчестве это у него – отказ от Прекрасной Дамы, демистификация «Ее», то самое обращение в «проститутку». Это началось с пьесы «Балаганчик» – свидетельство честности Блока, его искренности с самим собой: то, чего фатально не хватало «Боре», накручивавшему на Софию антропософию. Нам незачем подражать этим заведомо обреченным на неудачу попыткам заменить эрудицией элементарную правду. Андрей Белый обманывал сам себя, и у него были для этого персональные и вполне веские основания. Зачем же обманываться нам, тем более в отношении Блока? Об одном таком (само-?)обмане хочется сейчас сказать несколько слов.
Блок однажды написал чрезвычайно интересную, «интимно» звучащую статью о Стриндберге:
Ясно обновляются пути человечества <…> культура выпустила в эти «переходные» годы из своей лаборатории какой-то временный, так сказать, «пробный» тип человека, в котором в различных пропорциях смешано мужское и женское начало. Мы видим этот тип во всех областях нашей деятельности, может быть чаще всего – в литературе; приходится сказать, что всё литературное развитие XX века началось «при ближайшем участии» этого типа. От более или менее удачного воплощения его зависит наше колебание между величием и упадком. Культура как бы изготовила много «проб», сотни образцов – и ждет результата, когда можно будет сделать средний вывод, то есть создать нового человека, приспособленного для новой, изменившейся жизни. <…> Ведь дело идет о новом «половом подборе», о гармоническом распределении мужественных и женственных начал, тех начал, которые до сих пор находятся в дисгармонии и кладут препятствие освобождению человека. <…> Мы видим, сверх того, работу природы и культуры, которые стремятся к обновлению обоих вырожденных типов, пытаясь облагородить мужское – женственным и женское – мужественным; большинство сочетаний дает, разумеется, средний, ничего не обещающий тип, тип людей «невоплощенных», неврастеников, с сильной патологической окраской; меньшинство сочетаний дает, напротив, обещания «нового человека». Среди этих единиц, и, может быть, впереди их всех стоит Стриндберг как тип мужчины, «мужа», приспособленного для предстоящей жизни, которая рисуется (уже, кажется, всем теперь) исполненной всё более интенсивной борьбы не только государств друг с другом, но особенно общества и личности с государством.
Блок был явно смущен при написании этого текста, о чем свидетельствует множество кавычек в нем, как бы извиняющихся и призывающих не смотреть на текст слишком прямо. Автору хочется представить проблему чем-то внеличностным, общекультурным, и, строго говоря, он прав: почему сегодня гомосексуалист столь же необходим в культурном обиходе, как евнух у Монтескье? Блок здесь озадачен вопросом о гомосексуализме, превратившемся из персональной проблемы в культурную. Ясно ведь, что «тип мужчины», явленный Стриндбергом, – репрессированный гомосексуалист, и знаменитое его женоненавистничество мы можем сейчас понять, не прибегая ни к каким метафизическим – или метабиологическим – концептам. В Блоке здесь ощущается человек дофрейдовой эпохи, с ее тогдашним культурным набором от Дарвина до Вейнингера. Всё это, плюс Стриндберг, не лучше – но и не хуже – Девы Радужных ворот обоих Соловьевых (дяди и племянника) и Андрея Белого.
Но вот что совсем уж непонятно, это как человек, стоящий на высоте самоновейшего знания, продолжает играть в те же старомодные игры. Я имею в виду статью Вяч. Вс. Иванова «Блок и Стриндберг», напечатанную в блоковском томе «Литературного наследства» (92-5). Он подхватывает тему Софии и прочую гностическую фантастику, демонстративно игнорируя наиболее вероятный способ объяснения проблем как Блока, так и Стриндберга, да и вообще чуть ли не всех деятелей Серебряного века. Появляется такая фраза:
При всей соблазнительности поверхностного истолкования пути Блока от символа Прекрасной Дамы к Незнакомке в духе современных популярных психоаналитических исследований комплекса «мадонны и проститутки» сопоставление с историей Симона Гностика как с архетипом подобной жизненной ситуации представляется более глубоким и поучительным.
Но Симона Гностика ученому автору показалось мало, и он продолжает:
Традиция, продолжавшаяся в раннегностическом учении о Софии, как теперь установлено, имеет более древние корни. Новые открытия, относящиеся к ранним переднеазиатским памятникам 2-й половины второго тысячелетия до н. э., позволяют уточнить некоторые из начальных этапов развития обозначений и эпитетов, приведших в дальнейшем к выработке того представления о Мудрости (Софии), которое детально исследовано в более поздних традициях, в частности византийской и древнерусской. Особый интерес представляют угаритские клинописные алфавитные тексты, в которых повторяется формула: thmk. il. hkm. hkmt (‘m’l.hyt.hzt) thmk (…) Но особенно важный для генезиса идей Вл. Соловьева и Блока аспект раздвоения Мудрости и ее воплощений принадлежит, по-видимому, к более позднему слою гностических учений.
У Блока есть статья «Педант о поэте»: здесь тот же случай. Нечеловеческая эрудиция автора при столкновении его с сюжетами, так сказать, бытовыми рождает незапланированный комический эффект. Какое отношение к Блоку имеет Передняя Азия и второе тысячелетие до н. э.? Что сказано о Любе Менделеевой в угаритских клинописных текстах? И можно ли понять стихи о Прекрасной Даме, оперируя формулой hkm.hkmt? Не полезнее ли здесь окажется «популярный и поверхностный» психоанализ? Вяч. Вс. Иванов умножает сущности без основания, являя собой эффектную и стильную, конечно, но очень уж далекую от жизни фигуру старонового схоласта. Как все семиотики, он играет с культурными формами, совершенно игнорируя их «референты». Что же касается архетипов, то Блоку можно подобрать куда более подходящий и выразительный, нежели Симон Гностик, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь.
(Попутно: а не приходит ли в голову мысль о том, что как этот Симон, так и прочие гностики отличались теми же самыми ориентациями, что и деятели Серебряного века? Что сам гностицизм есть сублимация специфически гомосексуального отторжения от мира, нелюбви к нему? И в таком случае следует говорить не о вульгаризации высокой культурной проблемы, но о необыкновенном углублении проблемы гомосексуализма, видимого уже не как сексуальная девиация, а вариант культуры, бытия, самого Творения.)
Статья о Стриндберге неслучайна: Блок искал культурный контекст, «страну» – одиночество в такой ситуации воспринималось действительным проклятием, всяческой «осужденностью». И «страна» довольно быстро нашлась, у нее был даже точный почтовый адрес: Таврическая, 25, «башня» Вячеслава Иванова. Маргарита Сабашникова пишет в мемуарах «Зеленая змея», как они с Максом (Волошиным, ее мужем) открыли секрет повышенного внимания мужчин друг к другу в этом кругу. Перечисляя знаменитых завсегдатаев этого «демонического логова» (слова Вячеслава Иванова о ставрогинском «кантоне Ури»), легче, кажется, сказать, кто среди них не был гомосексуалистом (Бальмонт и Брюсов, из философов – С. Булгаков; уже второй софиолог, П. Флоренский, вызывает сомнения; кстати, эти люди на «башне» заезжие, москвичи). При этом все были женаты: дань буржуазным условностям, выплачиваемая этими революционерами духа. Впрочем, не женат был Михаил Кузмин, избравший благую часть: Юркуна. Это был открытый гомосексуалист, напечатавший «Крылья», и Блок в статье о Кузмине делает ему что-то вроде мягкого выговора: зачем «обнажается».
Вячеслав Иванов писал в статье «О достоинстве женщины»:
Подобно тому, как в древней церковной общине мужчины становились по одну сторону храма, а женщины – по другую <… > подобно этому древнецерковному разделению, прекрасным кажется мне во всех сферах жизни и деятельности это братство мужчин и это содружество женщин. Человечество должно осуществить симбиоз полов коллективно, чтобы соборно воззвать грядущее совершение на земле единого богочеловеческого Тела. Индивидуальный же симбиоз должен слыть в общественном мнении не нормой половых отношений, а отличием и исключением, оправдываемым и великою любовью, и добрыми делами четы.
Это – Платон, платонический коллективный брак. Такова – «социология»; психология же – «мотив Кандавла», социальное, так сказать, выражение находящий в «свальном грехе», групповом сексе, совместными сношениями в борделе. У того же Стриндберга в романе «Слово безумца в свою защиту» описана соответствующая сцена.
Пишет же М. Сабашникова, как Вячеслав с Лидией (Зиновьевой-Аннибал) завлекали ее в групповой секс.
Атмосфера на «башне» царила вполне непринужденная: так, на диспуте об Эросе (председательствующий Бердяев) в скучных ораторов бросали апельсины. Но, конечно, происходившее никоим образом не напоминало пресловутые «бани» нью-йоркских гомосексуалистов 70-х годов, куда более оживленные, чем описанная в «Крыльях». Соблюдали культурный декорум – сублимировались. Были придуманы псевдонимы для корректного обозначения сюжета. Андрей Белый говорил о кентаврах (переименованных потом в андрогинов), Бердяев держался старомодного уже термина «декаданс» («Я человек декаданса» – в письме к Гершензону), а Вячеслав Иванов в тех же целях пользовался нейтральным вроде бы обозначением «символизм». Он писал в статье «Заветы символизма»:
Не нужно желать быть «символистом»; можно только наедине с собой открыть в себе символиста – и тогда лучше всего постараться скрыть это от людей.
Пафос ивановского текста – тайна, скрытый, неявляемый смысл «символистского» мироощущения. Это у него мотивировано и рационализировано Тютчевым («мысль изреченная есть ложь»), магической практикой древнего шаманизма («сакральный язык») и даже гносеологическими экскурсами во всяческое неокантианство. Но поэтическая «несказанность» и есть психологическая «тайна»: в этом контексте – самая элементарная, «эмпирическая», даже не тайна, а секрет. Попросту говоря, «скелет в шкафу».
Сходную трактовку сюжета мы находим, понятно, и у Блока. Это его статья-доклад «О современном состоянии русского символизма» (1910) – работа, которую он считал лучшей у себя в этом жанре и даже переиздал отдельной брошюрой в 1921 году, то есть счел сохранившей актуальность в течение этого трагического и катастрофического десятилетия. Это тот темный текст, в котором много говорится о «лиловых мирах», ставших темой газетных фельетонистов. Но он становится кристально ясен, если мы будем исходить из уже обозначенной психологической предпосылки, вникая в строй души человека, чувствующего свою необычность, свое одиночество, даже отверженность. Установка такого человека: (1) искать родственные души и (2) прозревать некие обетования в объективном строе бытия, залоги того, что трагедия одиночества неслучайна, имеет высший, не данный в земном опыте смысл. Люди такого склада суть «символисты», они знают друг о друге и мистически, как бы молча общаются – «перемигиваются», как в одном месте прямо говорит Блок: это общение авгуров, тайное знание. Отсюда же теургические порывания – вера в возможность и необходимость преображения бытия, когда исполнятся обетования и реализуется прозреваемый смысл. Вне этой веры человек описанного склада остается «только поэтом», и жизнь в искусстве для него, знающего, верящего в сверхэмпирические и сверхэстетические смыслы, будет Адом: с прописной и курсивом. Ср. обращение Блока к Музе в стихах: «Для иных ты и Муза, и чудо. Для меня ты мученье и ад». В стихии искусства небесные ценности и, так сказать, персонажи превращаются в красивых мертвых кукол, а мир – в балаганное действо. Поэзия вне теургической перспективы становится «речью рабской» (из Вл. Соловьева). Теургическое чаяние происходит от отчаяния. Но если надежды и обетования не исполнятся, то в мире не стоит жить.
Мы убеждаемся в уместности психоанализа для описания философем Серебряного века. «Комплекс» отнюдь не был индивидуальным ни у Блока, ни у Белого, ни у Иванова – это была культурная тема времени. Это тема метафизического оправдания гомосексуализма. Искались сверхэмпирические «соответствия» (символы) персональных ориентации. Соответствия, разумеется, оказывались платоническими.
Блок в той же статье:
Реальность, описанная мною, – единственная, которая для меня дает смысл жизни, миру и искусству <…> символистом можно только родиться <…> писатели даже с большим талантом не могут ничего поделать с искусством, если они не крещены «огнем и духом» символизма <…> быть художником – значит выдерживать ветер из миров искусства, совершенно не похожих на этот мир, только страшно влияющих на него. <…> Искусство есть Ад. <…> По бессчетным кругам Ада может пройти, не погибнув, только тот, у кого есть спутник, учитель и руководительная мечта о Той, которая поведет туда, куда не смеет войти и Учитель.
В этом мире – мире искусства – «Та», «Она» превращается в мертвую куклу, в Незнакомку, попросту в проститутку. «Метафизика» проституции у Блока – гетеросексуальное общение: то, чего не должно быть, профанация бытия, его умопостигаемого строя. У «символистов» происходит десексуализация мира. Психологически это свидетельство гомосексуальной установки. Статья Блока недаром кончается цитатой из Оскара Уайльда.
Почему Вяч. Иванов и Блок говорили об одном, их восторженно поддерживал А. Белый, а возражал им Брюсов, не соглашавшийся на роль теурга, говоривший, что ему и искусства достаточно? Не потому, что он был поэт на порядок ниже Блока и Белого, а потому, что он был «нормальный мужчина». В мире этих «трагических теноров» он был пушкинский «скрыпач».
В статье Блока есть слова, вызвавшие негодование Мережковского: «То, что происходит с нами, происходит и с Россией». Здесь намечена даже и не тема, а трансцендентальное априори «Двенадцати». Возникает малоприятное, пугающее ощущение того, что мы здесь выходим за пределы индивидуальной психологии. Раскрываются действительно «миры», уж какие они там ни есть – лиловые или сиренево-пурпурные.
Полностью:
Как сорвалось что-то в нас, так сорвалось оно и в России. Как перед народной душой встал ею же созданный синий призрак, так встал он и перед наш. И сама Россия в лучах этой новой (вовсе не некрасовской, но лишь традицией, связанной с Некрасовым) гражданственности оказалась нашей душой.
Несмотря на поправки и отмежевки Мережковского, именно так всё и произошло. Эти люди напророчили большевицкую революцию – они были большевицкой революцией: и Вяч. Иванов с его коллективными браками, переименованными в «соборность», и Бердяев с его идеей творчества из ничего, теургически преображающего падший мир, и Блок, убегавший от Любы то ли к проституткам, то ли к «скифам». Эти люди пытались в коллективном действе восполнить индивидуальную пустоту. Эмоциональную, конечно, пустоту, а не интеллектуальную, не «творческую» (вспомним: поэзия – это Ад). Опасной, зловещей, судьбоносной, роковой была именно сублимация, заставлявшая строить фантазии вокруг культурно неприемлемого индивидуального «комплекса». А нужен был попросту «Юркун». Как бы ни был он плох – всё же лучше Ленина.
Что происходит в «Двенадцати»? Убийство женщины, так сказать, в присутствии Христа. Убийство Катьки заметили, и Христа заметили (не одобрив, впрочем, Его появления), а вот связи этих двух линий не увидели. Отсюда почти уже вековое непонимание поэмы и, как результат, многочисленнейшие домыслы, подчас весьма остроумные. Б. Гаспаров, например, установил, что «Двенадцать» построены по схеме святочного балаганного представления с вертепом. Это то же, что разъяснение Блока при помощи угаритской клинописи: люди вертятся в культурной кунсткамере, не замечая удава.
Мне известна единственная работа о Блоке, приближающаяся к правильному его пониманию. Это «Революция как кастрация: мистика сект и политика тела в поздней прозе Блока» – глава из книги Александра Эткинда «Содом и Психея. Очерки интеллектуальной истории Серебряного века». Предельная цель революции у Блока – уничтожение пола через кастрацию; к такому выводу привел автора анализ блоковского эссе «Каталина». Но А. Эткинд, как водится у него, не делает последних выводов из своих работ, не называет подлинной проблемы, стоящей у Блока за подобными фантазиями. К тому же сказанное о поздней прозе Блока в равной мере относится к его ранней поэзии, к Блоку в целом.
Приведу очень типичное суждение о «Двенадцати», которого, так сказать, объективность подчеркивается антисоветской настроенностью автора, отсутствием у него антихристианского априори. Это Ю.И. Айхенвальд:
В самом деле, разве то, что Петька, ревнуя к Ваньке, убил Катьку, разве это не стоит совершенно особняком от социальной или хотя бы только политической революции? И разве революция – рама, в которую можно механически вставлять любую картину, не говоря уже о том, что и вообще рама с картиной не есть еще организм? Изображенное Блоком событие могло бы произойти во всякую другую эпоху, и столкновение Петьки с Ванькой из-за Катьки по своей психологической сути ни революционно, ни контрреволюционно и в ткань новейшей истории своей кровавой нити не вплетает.
<…> самое название «Двенадцать», а нехотя бы «Тринадцать» (эта дюжина была бы здесь уместнее, чем обыкновенная) и не какое-нибудь другое число символически намекает, что поэт имеет в виду некий священный прецедент. <…> И что такое сближение не является произвольной выходкой со стороны кощунствующего читателя, а предположено самим писателем, – это видно из неожиданного финала поэмы.
<…> Этого уже за иронию никак нельзя принять. Помимо тона, заключительный аккорд поэмы, Христос с красным флагом, с кровавым флагом, должен еще и потому приниматься нами не как насмешка, а всерьез, что здесь слышатся давно знакомые и заветные лирические ноты Александра Блока – нежный жемчуг снега, снежная белая вьюга, дыхание небесной божественности среди земной метели. Двенадцать героев поэмы, собранные в одну грабительскую шайку, нарисованы, как темные и пьяные дикари, – что же общего между ними и двенадцатью из Евангелия? <…> Так не сумел Блок убедить читателей, что во главе двенадцати, предводителем красногвардейцев, оказывается Христос с красным флагом. Имя Христа произнесено всуе.
Ошибка Айхенвальда, да и всех интерпретаторов Блока не в том, что они не понимают «Двенадцати», а в том, что не понимают большевизма и – не боюсь повторить за Ницше и Розановым – христианства. Нельзя говорить об Октябре как социальной или политической революции. Это революция бытийная, вернее антибытийная, то есть «христианская». Ее метафизика – вражда к бытию, символизированному в образе женщины, – к природе, к естественным плодоносящим силам. Убийство Катьки у Блока – отнюдь не уголовщина на почве «романса», это символическое, ритуальное убийство России. И мотивировано оно христианской мизогинией.
Исследователи и интерпретаторы исходят из презумпции невиновности Христа и христианства. (Один из них даже обнаружил, что у Блока вообще не Христос, а антихрист.) Поэтому им кажется столь странным Христос во главе красногвардейцев. Блок взял тему с иным знаком, поменял плюс на минус. Допустим, это было сделано «бессознательно» – но тем более верно. Ибо бессознательное никогда не ошибается, и тринадцатым был Христос.
Общепризнана динамика блоковских тем – превращение Прекрасной Дамы в Незнакомку-проститутку и последней в Россию. Но не замечалась психологическая подоснова этого процесса и его предельная логика: нелюбовь к женщине, к «Любе», пройдя стадию сублимации, конечным своим результатом имеет ее элиминирование – равно как и всех ее символов. Остается только «женственный призрак, который я ненавижу» (слова Блока о Христе).
«Русь моя, жена моя». Здесь та же коллизия, что с Любой: это он, безлюбый Блок, отдает ее «чародею», не в силах сам ею мужественно овладеть. Вечная русская коллизия, много раз формулированная, лучше всех Бердяевым: мужское начало в русской истории – насильническое, а не любовное.
Здесь происходит у Блока, у всех гениев Серебряного века совпадение, слияние индивидуальной драмы с сюжетом национального бытия. Так и надо понимать слова Блока: что сорвалось в нас, то сорвалось в России. Эти люди были медиумами, пифиями русской судьбы.
Я – скромный жрец, толкующий их темные слова.
Есть стихи Пастернака, которые гораздо больше подходят Блоку: «Всю жизнь хотел я быть, как все, / Но мир в своей красе / Устал от моего нытья / И хочет быть, как я». Это не Пастернак, потому что он всю жизнь был, как все, ему не нужно было насиловать себя для того, чтобы погрузиться в мир, и к проституткам он ходил не так, как Блок. Мир, подражающий Пастернаку, – естественный, реальный мир. Но когда мир, Россия взялись подражать Блоку, вышло то, что вышло.
Это совпадение можно было бы назвать мистическим, если б не наличие культурно-исторического опосредствования, медиации между индивидуальным творчеством и национальным бытием. Этот медиатор – христианство. Если принять за аксиому, что Христос – архетип мизогина, или, на тогдашнем языке, «андрогина», то указанное подобие получает наиболее понятное и экономное объяснение.
Христианство теряет свои яды в богатой культурной среде, даже много способствуя обогащению и утончению этой среды. В России такой среды не было, христианство было в ней единственным культуротворящим фактором. И в красногвардейцах, блоковских и настоящих – настоящих потому, что блоковских, – было больше Христа, чем в церкви и попах. Была динамика христианская, нигилистическое, апокалиптическое горение. Поневоле вспомнишь Великого Инквизитора, сказавшего, что Христу нечего делать в мире, где Он может только навредить. И надо ли нам, вслед за Достоевским, предпочитать Христа истине?
Настоящее искусство – Ницше считал, что и настоящая жизнь, – трагедийны. В двадцатом веке цена такого существования оказалась непомерно высока. Сегодня трудно предпочесть Блока и его стихи – Любе. Она видится более человечным, более актуальным образом России, чем стихи ее гениального мужа.
Россию нужно развести с Блоком. Он ей не муж.
Февраль 1998 года









































