Читать книгу "Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов"
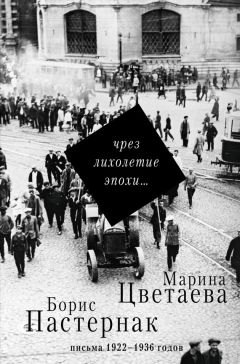
Автор книги: Борис Пастернак
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Марина Цветаева, Борис Пастернак
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
© Б.Л. Пастернак (наследники), 2016
© И.Д. Шевеленко, составление, подготовка текста, предисловие, комментарии, 2016
© Е.Б. Коркина, подготовка текста, комментарии, 2016
© Российский государственный архив литературы и искусства, 2016
© РИА Новости
© ООО «Издательство АСТ», 2016
В оформлении книги использованы фотографии из личных архивов Л.А. Мнухина, П.Е. Пастернака, РГАЛИ а также из фондов Shutterstock, которые сделали Sergey Goryachev, Hung Chung Chih, iryna1
Предисловие
В этой книге в наиболее полном объеме представлена переписка крупнейших русских поэтов XX века – Бориса Пастернака и Марины Цветаевой. В биографиях обоих авторов она была одним из важнейших жизненных событий, а для читателей и исследователей остается ценнейшим источником для понимания творческих и интеллектуальных устремлений обоих. Публикация этой переписки впервые стала возможной сравнительно недавно, в 2004 году[1]1
Марина Цветаева, Борис Пастернак: Души начинают видеть. Письма 1922–1936 годов / Издание подготовили Е.Б.Коркина и И.Д.Шевеленко. М.: Вагриус, 2004.
[Закрыть]. Причин тому несколько.
Бо́льшая часть писем Пастернака к Цветаевой хранится в фонде Цветаевой в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ, Москва). Этот фонд, состоящий из материалов, переданных в архив дочерью Цветаевой А.С.Эфрон, был в значительной своей части закрыт для исследователей до 2000 года. Были недоступны и письма Пастернака; за исключением одного письма, они до 2004 года не публиковались. Еще двенадцать писем Пастернака к Цветаевой находятся у наследников Пастернака. Объясняется это тем, что в августе 1941 года, перед отъездом в эвакуацию, Цветаева передала конверт с письмами к ней Пастернака и Райнера Мария Рильке весны-лета 1926 года на хранение сотруднице Гослитиздата А.П.Рябининой. От нее впоследствии получил эти письма сын Пастернака. Именно этот корпус писем лег в основу тома «тройственной» переписки 1926 года, включавшей Пастернака, Рильке и Цветаеву. Подготовленный К.М.Азадовским, Е.Б.Пастернаком и Е.В.Пастернак, он первоначально появился в переводах: в 1983 году вышли немецкое и французское издания, в 1985 году появился английский перевод. Лишь в 1987 году «тройственная» переписка была опубликована по-русски в журнале «Дружба народов» (№ 6–9); наконец, в 1990 году появилось ее первое отдельное издание по-русски[2]2
Райнер Мария Рильке, Борис Пастернак, Марина Цветаева: Письма 1926 года. М.: Книга, 1990.
[Закрыть].
О том, что письма 1926 года – лишь небольшой фрагмент многолетней переписки Пастернака и Цветаевой, было известно давно; однако долгое время казалось, что опубликовать ее именно как переписку едва ли удастся в силу утраченности большинства оригиналов писем Цветаевой. Действительно, сохранилось всего несколько таких оригиналов, и теперь уже кажется маловероятным, что утраченные письма отыщутся. Историю этой пропажи описал сам Пастернак в своем автобиографическом очерке «Люди и положения»:
«В годы войны и моих наездов к семье в эвакуацию одна сотрудница Музея имени Скрябина, большая почитательница Цветаевой и большой мой друг, предложила мне взять на сохранение эти письма вместе с письмами моих родителей и несколькими письмами Горького и Роллана. Все перечисленное она положила в сейф музея, а с письмами Цветаевой не расставалась, не выпуская их из рук и не доверяя прочности стенок несгораемого шкафа.
Она жила круглый год за городом и каждый вечер возила эти письма в ручном чемоданчике к себе на ночлег и привозила по утрам в город на службу. Однажды зимой она в крайнем утомлении возвращалась к себе домой, на дачу. На полдороге от станции она в лесу спохватилась, что оставила чемоданчик с письмами в вагоне электрички. Так уехали и пропали письма Цветаевой»[3]3
Пастернак Б. Полн. собр. соч.: В 11 т. М.: Слово/Slovo, 2003–2005. Т. 3. С. 340–341.
[Закрыть].
Есть основания полагать, что частая перевозка писем Цветаевой была связана еще и с тем, что Алексей Крученых просил эти письма у их хранительницы, чтобы делать с них рукописные, а затем машинописные копии. Те несколько оригиналов писем Цветаевой, которые сохранились, как раз и находились, за одним-двумя исключениями, у Крученых на момент пропажи чемоданчика. Что касается копий, то Крученых и его помощники успели сделать их с большого количества цветаевских писем 1922 – начала 1927 годов. Именно эти копии были основными источниками для текстов писем Цветаевой, включенных в издания «тройственной» переписки. Иных источников, за вычетом немногих оригиналов, и не существовало бы, если бы не обычай Цветаевой писать черновики своих писем (не всех, но наиболее важных для нее) в тех же тетрадях, в которых она работала над своими произведениями.
После того, как все материалы архива Цветаевой открылись для исследователей, стало понятно, что количество черновиков писем к Пастернаку в ее рабочих тетрадях достаточно, чтобы восстановить переписку как целое. Впрочем, одна крупная хронологическая лакуна, с весны 1928 по весну 1931 года, практически невосстановима[4]4
Согласно реестру писем Цветаевой, составленному О.Н.Сетницкой, всего за 1928 г. было 19 писем (сохранились черновики двух из них, фрагменты черновиков еще двух, а также одна открытка), за 1929 г. – 5 писем (сохранилось одно), за 1930 г. – 13 писем (ни одно не сохранилось). Из двух писем за 1931 г., зафиксированных в реестре (он кончается мартом 1931 г.), сохранился черновик одного. (РГАЛИ. Ф. 1334. Оп. 1. Ед. хр. 834. Л. 2.)
[Закрыть]. Образовалась эта лакуна из-за того, что Цветаева, возвращаясь в 1939 г. из Франции в СССР, не взяла с собой тетради этих лет, в которых работала над поэмой «Перекоп» и «Поэмой о Царской Семье», и они вместе со всем оставшимся в Париже архивом Цветаевой погибли во время войны.
В одном из тетрадных черновиков письма к Пастернаку, как будто предвидя проблему, перед которой встанут однажды ее читатели и исследователи, Цветаева писала: «Письма к тебе (вот и это письмо) я всегда пишу в тетрадь, на лету, как черновик стихов. Только беловик никогда не удается, два черновика, один тебе, другой мне» (9 апреля 1926 г.). Тетрадные черновики писем не случайно ставятся Цветаевой в один ряд с теми «вторыми черновиками», которые посылаются корреспонденту: в настоящем издании мы сохраняем оба варианта текста, если они известны, – тетрадный и посланный адресату, – и внимательный читатель сможет убедиться во взаимодополнительности этих «двух черновиков».
Не стоит, однако, преуменьшать трудностей и неизбежных потерь, вызванных столь необычным способом реконструкции переписки. Во-первых, значительная часть тетрадных черновиков Цветаевой написана скорописью, с сокращением практически всех слов. Их расшифровка потребовала огромных усилий и не во всех случаях увенчалась полным успехом. Для удобства читателей в настоящем издании конъектуры (ломаные скобки) сохранены в этих расшифровках лишь тогда, когда нет уверенности в однозначности или правильности чтения. Если бы конъектуры были оставлены везде, ломаные скобки оказались бы самым частым знаком на этих страницах. Во-вторых, датировка и встраивание тетрадных черновиков в единый хронологический ряд вместе с другими источниками (оригиналами писем Пастернака и Цветаевой, копиями писем Цветаевой) также оказались нелегкой задачей, и в нескольких случаях нет полной уверенности в том, что тетрадные фрагменты помещены нами на их точное хронологическое место.
У нас нет уверенности также, что все обращенные к Пастернаку фрагменты в рабочих тетрадях Цветаевой в действительности вошли в посланные ему письма. Не имея способа проверить это, мы выбрали единственно возможный путь – публикацию всего массива таких тетрадных набросков.
Помимо переписки двух поэтов в настоящий том включены сохранившиеся письма Пастернака к мужу Цветаевой, С.Я.Эфрону, и письма последнего к Пастернаку.
Все письма, составившие этот том, публикуются по доступным первоисточникам, будь то оригиналы, копии или тетрадные наброски. Несколько неточностей в чтении оригиналов, имевшихся в издании 2004 года, исправлены для нового издания. В комментарии внесен ряд дополнений и уточнений, а также обновлен их библиографический аппарат (главным образом, в связи с выходом 11-томного собрания сочинений Пастернака). Подробная информация о принципах подготовки издания содержится в преамбуле к комментариям.
Ирина Шевеленко
Чрез лихолетие эпохи… Письма 1922–1936 годов
Письмо 1
14 июня 1922 г., Москва
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина Ивановна!
Сейчас я с дрожью в голосе стал читать брату Ваше «Знаю, умру на заре, на которой из двух» – и был, как чужим, перебит волною подкатывавшего к горлу рыданья, наконец прорвавшегося, и когда я перевел свои попытки с этого стихотворенья на «Я расскажу тебе про великий обман», я был так же точно Вами отброшен, и когда я перенес их на «Версты и версты и версты и черствый хлеб» – случилось то же самое.
Вы – не ребенок, дорогой, золотой, несравненный мой поэт, Вы не ребенок и, надеюсь, понимаете, что́ это в наши дни и в нашей обстановке означает, при обилии поэтов и поэтесс, не только тех, о которых ведомо лишь профсоюзу, при обилии не имажинистов только, но при обилии даже и неопороченных дарований, подобных имени, осчастливленному Вашим посвященьем. Простите, простите, простите! Как могло случиться, что плетясь вместе с Вами следом за гробом Татьяны Федоровны, я не знал, с кем рядом иду. Как могло случиться, что слушав и слышав Вас неоднократно, я оплошал и разминулся с Вашей верстовой Суинберниадой (если Вы даже его не знаете, моего кумира, – он дошел до Вас через побочные влиянья, и ему вольно в Вас, родная Марина Ивановна, как когда-то Байрону было вольно в Лермонтове, как Якобсену и России вольно в Рильке). Как странно и глупо кроится жизнь! Месяц назад я мог достать Вас со ста шагов, и существовали уже «Версты», и была на свете та книжная лавка в уровень с панелью без порога, куда сдала меня ленивая волна теплого плоившегося асфальта! И мне не стыдно признаться в этой своей приверженности самым скверным порокам обывательства. Книги не покупаешь потому, что ее можно купить!! Итак простите, простите. Но как простить мне Вам два Ваших равно непростительных промаха? Первый. Отчего, идучи со мною по Плющихе, не сказали мне Вы, слово в слово, следующего. «Б.Л., мне думается, Вы поэт, а следовательно, Вам почти не приходится восхищаться современниками. Может быть у Вас на памяти один такой случай (ранний Маяковский), всё же остальное, даже и Блок и Ахматова и безукоризненно изумительный Асеев, только виды душевного довольства, удовлетворенности, почти что – нравственные оценки-признанья душевной порядочности, – и только. Я, думается мне, – тоже поэт, Б.Л., – и знаю по себе, как тяжко то, что так резко разнятся эти два разряда. Вот, если Вы хотите пережить такое восхищенье, бурное восхищенье читателя на миг и почитателя на весь век свой, примите к сведенью, Борис Леонидович, а также передайте это и друзьям нашим, Асееву, Ахматовой и тени Блока, что случай восхититься так выдался на днях; и кстати: не говорите мне таким глупым голосом, будто это невесть что такое, о приятии одной книжки Маяковским; Вы, как о бестактности, будете потом об этом жалеть. Если хотите принять душевную соленогромовую ванну – прочтите “Версты”. Это – версты поэзии. Говорят, – их написала я».
Другой Ваш промах в том, что Вы сочли меня недостойным Вашей книжки и, зная прекрасно наперед, к чему бы такое посланье привело, мне своей книжки не послали. Как странно и глупо кроится жизнь. Как странно и глупо и хорошо.
Теперь благодаря нелепости этой я имею счастье и повод желать высказаться до конца, и так как такое желанье – неудовлетворимо, то я ударюсь удовлетворять его на все лады: за письмом, если позволите, последует другое, об этой чистой, абсолютной, исключающей всякие взвешиванья и соображенья возможности восторгаться будет говориться и писаться мною с тою радостью, какой обязывает нас такой акт избавленья от мерил справедливости. Вам не следует читать их. Читает их – женщина. Пишет же, плавит и раздувает – первостепенный и редкий поэт, которому, в этом возвышении над женственностью, позавидовала бы и Марселина Деборд-Вальмор. Счастливая! И как я счастлив за Вас!
Я и сам собираюсь за границу. Непременно захочу Вас видеть иначе, нежели всегда хотел, – а хотел и всегда, как хотел бы видеть Ахматову или – (да Вы уже понимаете – два разряда), – захочу, лишь только смогу польстить себя надеждой хоть отдаленно заплатить Вам тем же, чем Вы сегодня меня подарили. Если же Вы согласитесь ответить мне на это письмо по адресу: Berlin W Fasanenstrasse 41, Pension Fasaneneck, Herrn Pr. L. Pasternack – мне – Вы доставите мне большую и мало еще заслуженную радость. И не забудьте сообщить в письме, простили ли Вы меня или нет: просьба моя об этом – нешуточна и увесиста. О, теперь я понимаю Илью Григорьевича! Охотно в поклонении поменяюсь с ним местом. Может быть, пошлю на Ваше имя недавно вышедшую «Сестру мою жизнь», вероятно без надписи, и Вы окажетесь единственным современником, дело которого одушевленнее, живее и неожиданнее его самого, ввиду чего белеет только к личностям обращенный титульный лист, в прочих случаях испещряемый до отказу.
А теперь, как проститься с Вами? Целую Вашу руку.
Потрясенный Вами Б.Пастернак
Письмо 2
Берлин, 29 нов. июня 1922 г.
Цветаева – Пастернаку
Дорогой Борис Леонидович!
Пишу Вам среди трезвого белого дня, переборов соблазн ночного часа и первого разбега.
Я дала Вашему письму остыть в себе, погрестись в щебне двух дней, – что уцелеет?
И вот, из-под щебня:
Первое, что я почувствовала – пробегом взгляда: спор. Кто-то спорит, кто-то сердится, кто-то призывает к ответу: кому-то не заплатила. – Сердце сжалось от безнадежности, от ненужности. – (Я тогда не прочла еще ни одного слова.)
Читаю (всё еще не понимая – кто), и первое, что сквозь незнакомый разгон руки доходит: отброшен. (И – мое: несносно: «Ну да, кто-то недоволен, возмущен! О, Господи! Чем я виновата, что он прочел мои стихи!») – Только к концу 2-ой стр<аницы>, при имени Татьяны Федоровны Скрябиной – как удар: Пастернак!
Теперь слушайте:
Когда-то (в 1918 г., весной) мы с Вами сидели рядом за ужином у Цейтлинов. Вы сказали: «Я хочу написать большой роман: с любовью, с героиней – как Бальзак». И я подумала: «Как хорошо. Как точно. Как вне самолюбия. – Поэт».
Потом я Вас пригласила: «Буду рада, если» – Вы не пришли, потому что ничего нового в жизни не хочется.
* * *
Зимой 1919 г. встреча на Моховой. Вы несли продавать Соловьева (?) – «потому что в доме совсем нет хлеба». – «А сколько у Вас выходит хлеба в день?» – «5 фунтов». – «А у меня 3. – Пишете?» – «Да (или нет, не важно)». – «Прощайте». – «Прощайте».
(Книги. – Хлеб. – Человек.)
* * *
Зимой 1920 г., перед отъездом Эренбурга, в Союзе писателей читаю Царь-Девицу, со всей робостью: 1) рваных валенок, 2) русской своей речи, 3) явно-большой рукописи. Недоуменный вопрос – на круговую: «Господа, фабула ясна?» И одобряющее хоровое: «Совсем нет. Доходят отдельные строчки».
Потом – уже ухожу – Ваш оклик: «М.И.!» – «Ах, Вы здесь? Как я рада!» – «Фабула ясна, дело в том, что Вы даете ее разъединенно, отдельными взрывами, в прерванности…»
И мое молчаливое: Зо́рок. – Поэт.
* * *
Осень 1921 г. Моя трущоба в Борисоглебском переулке. Вы в дверях. Письмо от И<льи> Г<ригорьевича>. Перебарывая первую жадность, заглушая радость ропотом слов (письмо так и лежит нераспечатанным) – расспросы: – «Как живете. Пишете ли? Что́ – сейчас – Москва?» И Ваше – как глухо! – «Река… Паром… Берега ли ко мне, я ли к берегу… А может быть и берегов нет… А может быть и —»
И я, мысленно: Косноязычие большого. – Темно́ты.
* * *
11-го (по-старому) апреля 1922 г. – Похороны Т.Ф.Скрябиной. Я была с ней в дружбе 2 года подряд, – ее единственным женским другом за жизнь. Дружба суровая: вся на деле и в беседе, мужская, вне нежности земных примет.
И вот провожаю ее большие глаза в землю.
Иду с Коганом, потом еще с каким-то, и вдруг – рука на рукав – как лапа. Вы. – Я об этом тогда писала Эренбургу. Говорили о нем, я просила Вас писать ему, говорила о его безмерной любви к Вам, Вы принимали недоуменно, даже с тяжестью: «Совсем не понимаю за что… Как трудно…» (Мне было больно за И.Г, и этого я ему не писала.) – «Я прочла Ваши стихи про голод…» – «Не говорите. Это позор. Я совсем другого хотел. Но знаете – бывает так: над головой – сонмами, а посмотришь: белая бумага. Проплыло. Не коснулось стола. А это я написал в последнюю минуту: пристают, звонят, номер не выйдет…»
Потом рассказывали об Ахматовой. Я спросила об основной ее земной примете. И Вы, вглядываясь:
– Чистота внимания. Она напоминает мне сестру.
Потом Вы меня хвалили («хотя этого говорить в лицо не нужно») за то, что я эти годы все-таки писала, – ах, главное я и забыла! – «Знаете, кому очень понравилась Ваша книга? – Маяковскому».
Это была большая радость: дар всей чужести, побежденные пространства (времена?).
Я – правда – просияла внутри.
* * *
И гроб: белый, без венков. И – уже вблизи – успокаивающая арка Девичьего монастыря: благость.
И Вы… «Я не с ними, это ошибка, знаете: отдаете стихи в какие-то сборники…»
Теперь самое главное, стоим у могилы. Руки́ на рукаве уже нет. Чувствую – как всегда в первую секундочку после расставания – плечом, что Вы рядом, отступив на шаг.
Задумываюсь о Т<атьяне> Ф<едоровне>. – Ее последний земной воздух. – И – толчком: чувство прерванности, не додумываю, ибо занята Т.Ф. – допроводить ее!
И, когда оглядываюсь, Вас уже нет: исчезновение.
Это мое последнее видение Вас. Ровно через месяц – день в день – я уехала. Хотела зайти, чтобы обрадовать Э<ренбур>га живым рассказом о Вас, но чувство, что: чужой дом – наверное, не застану и т. д.
Мне даже стыдно было потом перед Эренбургом за такое слабое рвение во дружбе.
* * *
Вот, дорогой Борис Леонидович, моя «история с Вами», – тоже в прерванности.
Стихи Ваши я знаю мало: раз слышала Вас с эстрады, Вы тогда сплошь забывали, книги Вашей не видела.
То, что мне говорил Эренбург – ударяло сразу, захлестывало: дребезгом, щебетом, всем сразу: как Жизнь.
Бег по кругу, но круг – с мир (вселенную!). И Вы – в самом начале, и никогда не кончите, ибо смертны.
Всё только намечено – остриями! – и, не дав опомниться – дальше. Поэзия умыслов – согласны?
Это я говорю по тем 5, 6-ти стихотворениям, которые знаю.
* * *
Скоро выйдет моя книга «Ремесло», – стихи за последние полтора года. Пришлю Вам с радостью. А пока посылаю две крохотные книжечки, вышедшие здесь без меня – просто чтобы окупить дорогу: «Стихи к Блоку» и «Разлука».
Я в Берлине надолго, хотела ехать в Прагу, но там очень трудна внешняя жизнь.
Здесь ни с кем не дружу, кроме Эренбургов, Белого и моего издателя Геликона.
Напишите, как дела с отъездом: по-настоящему (во внешнем ли мире: виз, анкет, миллиардов) – едете? Здесь очень хорошо жить: не город (тот или иной) – безымянность – просторы! Можно совсем без людей. Немножко как на том свете.
Жму Вашу руку. – Жду Вашей книги и Вас.
М.Ц.
Мой адрес: Berlin – Wilmersdorf, Trautenaustrasse, 9. Pension «Trautenau-Haus».
Письмо 3
Berlin W. 15, Fasanenstr. 41. Bei v. Versen, 12 ноября 1922 г.
Пастернак – Цветаевой
Дорогая Марина Ивановна!
Насколько чистым наслажденьем было для меня написать тогда Вам из Москвы о Вас одной по собственному побужденью, настолько угнетала и беспокоила меня мысль об ответе, к которому Вы меня обязали присылкой Разлуки, «Словами на сон», письмом и Вашей обо мне статьею. Угнетала она меня тем, что, хорошо зная за собой полную мою неспособность быть или только воображать себя человеком всегда и во всякое время, я справедливо боялся, что долго еще моя благодарность, родясь в неблагодарную для меня пору, останется моей тайной и дойдет до Вас с таким запозданьем, что ничего уже Вам не скажет и не даст. Источники моей признательности Вам разнообразны, и сразу же обсужденье их мне хотелось бы начать со «Слов на сон». Однако прежде коснусь вышеназванной своей неспособности: быть может начало письма показалось Вам темным. Я знаю, Вы с не меньшей страстью, чем я, любите – скажем для короткости – поэзию. Вот что я под этим разумею. Я больше всего на свете (и может быть это единственная моя любовь) люблю правду жизни в том ее виде, какой она на одно мгновенье естественно принимает у самого жерла художественных форм, чтобы в следующее же в них исчезнуть. Телодвиженье это жизни не навязано со стороны. Бирнамский лес по собственной своей охоте лезет в эту топку. Не надо обманываться. Вероятно, мы односторонни. Весьма возможно, что жизнь разбредается по сторонам и что ее поток образует дельту. Нам, с доскональной болью знающим одно из ее колен, позволительно представлять себе устье именно в этом изгибе. И на любом ее верховье, ничего не знающем о море, можно, закрыв глаза, при крайней, сверхчеловеческой внимательности к тону ее тока и пластике ее плеска, представить себе, что с ней когда-нибудь будет на вольной воле, и, следовательно, какова ее сущность и сейчас. Как ни мало сказано этим уподобленьем, и в нем уже несколько перехвачено через край. Чтобы обойти всякий пересол, скажу точно. Мне свойственно, по особенной моей односторонности, отождествлять с жизнью тот нетерпеливый, как потребность в наслажденья, огонек, который начинает блуждать в ее глазах, когда она задумывается о бессмертии, когда ей начинает казаться, что она любит его, когда она в этом убеждается, когда, забыв про все другое, она бросается к нему. Волнующе связная наглядность жизни или, что то же, красота, есть не что иное, как именно этот выбор, с отчаяньем и отвагой произведенный ей; когда ей ничего лучшего как стать бессмертной не остается, и не изменясь в других отношеньях, т. е. не став умнее и справедливей, она до неузнаваемости преображается единственно лишь тем, что теперь навсегда на нее падает зарево вечной наклонной плоскости, т. е. знаменье того именно духа, который когда-то заставлял ее течь и катиться, и сделал неуловимой, и поставил эти слова в кавычки, почти приравняв «наклонную плоскость» к красоте. Сколько раз принимались Вы грызть ногти, в Вашей статье, и совершенно неосновательно. А сколько у меня сейчас оснований повторить Ваше движенье! Всего больше хотелось бы мне хотя отдаленно описать Вам то чувствованье, без которого вход в искусство в моих глазах немыслим, – и которое охарактеризовать, по-видимому, невозможно. Как часты у меня поводы к полному, отчаянному и решительному бездействию – при таком взгляде на жизнь в ее отношеньи к художнику – судите сами. Грустно быть призванным писать лишь под таким-то и таким-то видом. Но что мешает встречаться с друзьями и писать к ним в такие нерабочие или «ненаклонные» полосы? Мне думается, однако, что письма пишутся людьми живыми. Мой же взгляд на жизнь так узок, что в эти периоды мне кажется, будто я не живу. Я не знаю, на что похожи эти растянувшиеся медитации. Если их внезапно оборвать, они сойдут за вступленье. Так и поступлю.
У «Разлуки» те же достоинства, что и у «Верст». Та же многоохватывающая порывистость, т. е. счастливая содержательность, давшаяся торпеда без тормозов. Книга в руках человека чувствующего не ждет посещенья знатоков, ее берешь, отправляясь к друзьям в Пушкино, как свою собственную, кровно ею гордясь и ей радуясь.
Совершенно же особенное спасибо Вам за «Слова». У меня было ощущенье (и оно не прошло), что во многом, вплоть до самого звучанья, «Слова на сон» до крайности близки – и намеренно – миру «Сестры». Не смейтесь надо мной и простите, если это не так. Если же я не ошибся, дайте объясню Вам, почему так особенно я Вам за них благодарен. Они мне страшно нравятся, и в минуты, когда Калигуле кажется что у него голова стеклянная, видя в «Словах» прекрасную, чудную, красящую все, на что она ни обратится, бессонную, удивительную, удивительную голову, он перестает ощупывать свою собственную и либо окончательно успокаивается либо же, в худшем случае, черпает неполное спокойствие в мыслях о пользе стекла. Надо ли объяснять Вам, что «Слова» – поддержка в минуты сомненья в себе, – на что я – мастер вне соревнованья, – надо ли, после пониманья, подчас загадочного, которое показали Вы некоторыми сторонами своей статьи?
И, чтобы ограничиться наизамечательнейшим, – отношенье «Сестры» к революции охарактеризовано та́к, с такими зачастую совпаденьями в аргументации, что не грех задуматься о тайной шалости вовремя не замеченных радиосвязей.
Serment du jeu de paume[5]5
Клятва <зала для> игры и мяч (фр.). – Здесь и далее, кроме особо оговоренных случаев, примеч. сост.
[Закрыть], – говорите Вы. – Чем ознаменовываются, говаривал я (таких случаев было два-три у меня на памяти, а тайны «революционности» книги доискивались у меня люди, недоуменно искавшие ее среди тем и набранных букв и знавшие ее наизусть силой этой самой невыясненности) – чем ознаменовываются первые взрывы истинных революций?
В качестве прирожденной природы, почти лирически – провозглашаются права человека и гражданина. Дух естественного права, сметая условности и отвлеченья, торчавшие на станциях и по канцеляриям во всей их, – недавно казавшейся предустановленной, натуральности лилово спиртовой, денатурированной казенщины – превращает ненадолго мир в какой-то рай. Нет, не в какой-то. Здесь просто фраза не выписалась. Нет, действительно, – Природе – возвращается то преувеличенно бездонное значенье, какое она имела в Раю, в этой ботанической части истории, в этой главе о порожденном, о выросшем мире. Не естественно ли еще там единобожеское богосознание? Не натурален ли там Бог? Не грехом ли, уже и там, названа та знаменитая и замечательная оплошность, с которой в Книге начинается и вводится… общественность… лица?
Несколько дней поглощены развивающейся пневматикой упразднений, устранений, – сметается все, что этому духу обожествленной природности кажется неестественным, – безбожным. Пуритане, жирондисты, анархизм. Это происходит весной. Все валится с ног, исчезает бесследно. Кто же, кто остается на ногах, грозя с них сбиться? Этимологически странно звучит ответ на это «кто». – Остается лето. Лето, день и ночь на ногах, повсеместное, играющее перекатами, хо́ркающее и блещущее, беззакатное, потрясающе-милосердное своей вежливостью к человеку, потрясающе-послушное в своем темном повиновении ночному небу, под которым, заломя голову, оно ходит по Земле, апокрифически неповоротливое, как мастодонт, доверенный уходу детских садовниц. Иначе говоря. Породить революцию можно лишь по-жирондистски. До степени же факта, когда его уже исторически не вычеркнуть, утучняют ее всегда якобинцы. Достаточно сказанного, чтобы понять, что искусство, современное революции, неизбежно, волею самой революции, – уйдет в дни и годы, пораженное днем ее рожденья, и это лишь вина его впечатлительности, что памяти этой в нем никакие усилия новых условников и денатураторов не изгладят. До того отдаленного дня, в другом поколении, когда историк, тот же жирондист, что и художник, даст по-жирондистски естественную и непривычную апологию отошедшего в прошлое якобинизма. Дорогая Марина Ивановна, может быть один неосознанный расчет на Вашу снисходительность так утомительно распространил это отступление.
Касаясь «Послесловья», Вы замечаете о Маяковском. Неужто и это – случайность? Или может быть знаете Вы, что это – любимейшее его стихотворенье?
«Всесильный Бог Деталей». Теперь – строчка в стихотворении, одинокая и темная, как оговорка. Кто намекнул Вам о том, что это – формула? – Первоначально таково было заглавие всей книги. Никто этого не знает. Напомнили об этом Вы и мне.
Но в одном замечаньи о фразе: «Нельзя, не топча мирозданья» – говоря об ответственности каждого шага, с содраганьем при мысли, как бы: не нарушить, – Вы великодушно и самоотверженно обокрали самое себя. Это у Марины Цветаевой сказано:
Пляшущим шагом прошла по земле. Неба дочь.
С полным передником роз, ни ростка не наруша.
* * *
Хочется думать, – и тогда бы я искренно порадовался за Вас, за себя и за них, – что Вы давно успели подзабыть часть затронутых здесь предметов. Я сознательно шел на неловкость, в которую неизбежно поставит меня Ваше заслуженно удивленное «о чем это он?» – при прочтеньи письма.
И так как все-таки стыдно потчевать столь сильно перестоявшимся ужином, сойдемся на этот раз на том, что однажды я горячо благодарил Вас, а если и неудачно, то только оттого, что с самого же начала слишком сконфузился Ваших бровей, приподнявшихся с первого же моего слова. Если вы уведомите меня о получении этой рукописной брошюрки, я буду радоваться, при всей заслуженной краткости такого уведомленья, что не трудно себе представить. Вопросов, в согласии с только что сказанным, задавать не решаюсь.
Целую Вашу руку.
Ваш Б.Пастернак
P.S. Я был очень огорчен и обескуражен, не застав Вас в Берлине. Расставаясь с Маяковским, Асеевым, Кузминым и некоторыми другими, я в той же линии и в том же духе рассчитывал на встречи с Вами и с Белым. (Маяковского тогда тут не было еще.) Однако разочарованье мое на Ваш счет – истинное еще счастье против разочарования Белым. Здесь все перессорились, найдя в пересечении произвольно полемических и театрально приподнятых копий фикцию, заменяющую отсутствующий предмет. Казалось бы, надо уважать друг друга всем членам этой артели, довольствуясь взаимным недовольством, – без которого фикции бы не было.
Последовательности этой я не встретил даже и у Белого, который, страшно сказать, не прочь жить и такою жизнью. Я же, по его словам, зову на луну, где жить не всякому к лицу и по нраву.









































