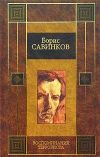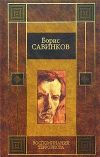Читать книгу "Воспоминания террориста. С предисловием Николая Старикова"

Автор книги: Борис Савинков
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Центральный комитет, узнав, что Бурцев сообщил о своих подозрениях некоторым партийным товарищам, решил призвать Бурцева к суду чести. Бурцеву было предъявлено обвинение в том, что он: во-первых, распространяет неосновательные и позорящие одного из членов Центрального комитета слухи, чем наносит партии вред, и, во-вторых, распространяет их без ведома и помимо Центрального комитета, чем лишает возможности Центральный комитет эти слухи опровергнуть. Судьями были избраны Г. А. Лопатин, князь Кропоткин и В. Н. Фигнер. Решение это состоялось в Лондоне, летом 1908 года, во время заседания партийной конференции.
Я на этой конференции не присутствовал и не принимал участия в решении этого вопроса. Узнав же о таковом решении, я сделал все, от себя зависящее, чтобы оно не было приведено в исполнение. Я сделал это по следующим причинам.
Во-первых, мне казалось, что привлечением Бурцева к суду Центральный комитет не только не препятствует распространению позорящих Азефа слухов, но, наоборот, способствует им: суд над Бурцевым должен был возбудить и в действительности возбудил много нежелательных разговоров.
Во-вторых, мне казалось, что позиция Центрального комитета на суде крайне невыгодна. Уже не говоря о том, что весьма трудно опровергать слухи, идущие из полицейского источника, – а только этим располагал Бурцев, – даже обвинительный приговор Бурцеву еще не снимал подозрений с Азефа: Бурцев мог распространять неосновательные слухи, но слухи все-таки оставались. Суд, даже в лучшем для Центрального комитета исходе, не достигал желательной для партии цели.
Наконец, и это самое главное, мне казалось, что самое привлечение Бурцева к суду несовместимо с достоинством Боевой организации. Подозрения, падавшие на Азефа, оскорбляли не только его. Они являлись оскорблением для всех террористов. На такое оскорбление нельзя было отвечать словами. Единственным, по моему мнению, достойным ответом была бы совместная с Азефом террористическая работа всех членов организации и соответствующее об этом заявление. Только такая работа могла доказать полное доверие организации к своему руководителю и презрение к оскорблению, столь же незаслуженному, сколь тяжкому.
Я пошел к В. М. Чернову, чтобы попытаться склонить его к моему мнению: к оскорбительности для Боевой организации и невыгодности для партии суда над Бурцевым. Чернов сказал:
– Оскорбления для Боевой организации я не вижу – ведь судят не Азефа, а Бурцева.
Я возразил, что самый факт суда есть оскорбление – Боевая организация не может унижаться до разговоров, когда вопрос идет о ее чести. Я сказал также, что суд невыгоден для Центрального комитета.
– Почему? – сказал Чернов. – Бурцев будет раздавлен. Ему придется каяться на суде.
Тогда я с тою же целью пошел к М. А. Натансону. Я имел у него не больше успеха. Оставалось попытаться подействовать на самого Азефа.
Он приехал в Париж, утомленный конференцией и встревоженный подозрениями. Но, по внешности равнодушный, он мне сказал при встрече:
– Как это гадко… Ты слышал, что говорит Бурцев? Ты слышал, что будет суд?
Я повторил ему на это в ответ то, что говорил Чернову и Натансону. Я просил его стать на точку зрения Боевой организации и отказаться от суда над Бурцевым. Я сказал также, что знаю, как ему тяжело жить при таких подозрениях, но что подозрения эти словами не смоются, а смоются только делом.
– Так ты думаешь, – спросил он, – нужно ехать в Россию?
– Конечно.
– И ты поедешь со мной?
Я сказал, что остаюсь при своем прежнем мнении о причинах бессилия Боевой организации, но в данном случае вопрос касается чести террора, и даже если попытка будет заведомо безнадежной, я и тогда считаю своим долгом ехать в Россию, ибо вижу в такой поездке единственную возможность защищать организацию, Азефа и мою честь. Я прибавил, что я убежден, что товарищи-террористы согласятся со мной, что же касается меня лично, то я готов заявить печатно, что продолжаю с ним, Азефом, работать.
Азеф сказал:
– Мы поедем и будем все арестованы. Что тогда? Я ответил, что я предвижу такой конец, но что именно процесс и несколько казней реабилитируют честь Боевой организации.
– А если меня случайно не арестуют? – спросил Азеф.
– Тогда мы заявим на суде, что вполне тебе верим. – Азеф задумался.
– Нет, – сказал он, – этого мало. Скажут: Фигнер верила же Дегаеву… Нужен суд надо мной. Только на таком суде вскроется нелепость всех этих подозрений.
Я сказал:
– Я ничего не хочу в этом деле предпринимать без твоего согласия. Если ты не принимаешь моего предложения, то позволь по крайней мере мне попытаться убедить Бурцева отказаться от суда. Он не знает тебя и твоей биографии. Когда я ему ее расскажу, я убежден, – он откажется от своих подозрений.
Азеф сказал:
– Против этого я ничего не имею.
Я мало верил, что сумею убедить Бурцева: Бурцев слишком решительно и определенно обвинял Азефа, но я считал своим долгом сделать и эту попытку.
Азеф уехал на юг Франции. Я предложил Бурцеву ознакомить меня с содержанием обвинений и выслушать биографию Азефа. Бурцев охотно согласился на это. Он рассказал мне следующее:
В 1906 году к нему в Петербурге, в контору редакции журнала «Былое», явился чиновник особых поручений при варшавском охранном отделении М. Е. Бакай, упомянутый мною выше в связи с убийством Татарова. Бакай сперва предложил Бурцеву некоторые секретные документы для напечатания, а затем указал ему приметы и имена ряда секретных полицейских сотрудников в польской социалистической партии. Этими разоблачениями Бакай приобрел доверие Бурцева. О партии социалистов-революционеров Бакай сообщил следующее.
«Пользуясь совершенно секретными сведениями департамента полиции, я имею возможность констатировать, что главнейшие обыски и аресты среди революционеров, произведенные в течение последних двух лет, явились почти исключительно результатом “агентурных сведений”, т. е. провокации. Аресты Штифтаря, Гронского, участников готовившейся экспроприации у Биржевого моста, аресты в типографии “Мысль” Венедиктовой и Мамаевой в Кронштадте, участников подготовлявшегося заговора на цареубийство в 1907 году, поголовный арест оппозиционной фракции социал-революционеров в Москве, аресты в Финляндии северной летучки (Карла и др.), а также обнаружение подготовлявшегося покушения на Щегловитова (арест Лебединцева, Распутиной и др.) – все это случилось благодаря провокации, и искать причин этих провалов вне ее бесполезно.
Для наглядности я приведу несколько примеров, где действовала провокация, и что из этого выходило.
Когда Гершуни стал во главе Боевой организации, то это тотчас же сделалось известным департаменту полиции; для его ареста напрягали все силы и даже назначили 10-тысячную премию. Когда Гершуни бывал за границей, это тоже было известно департаменту полиции; его появления в России являлись неожиданными, но передвижения были известны. Объясняется это тем, что он освещался только заграничной секретной агентурой; в России он с провокатурой если сталкивался, то случайно, и жандармы всего позднее узнавали о нем; и несмотря на то, что его лично знали многие филеры, наблюдавшие за ним в свое время в Минске, и что его карточки находились у всех жандармов, он всегда благополучно ускользал. В конце концов его арестовали по данным киевской агентуры, которая хотя и не соприкасалась с ним лично, но знала, что он едет из Уфы в Киев. О том, что Гершуни должен был принять участие в покушении на Богдановича, департамент полиции знал, и для его ареста был командирован заведующий наружным наблюдением всей России Медников, но не успел доехать, как убийство совершилось.
О подготовлявшемся покушении на великого князя Сергея Александровича тоже знали. Было известно, что в нем обязательно должен принять участие Савинков. По пути следования князя всегда расставлялись филеры для наблюдения за подозрительными личностями. Однако, несмотря на присутствие филеров, покушение совершилось, и это лишний раз доказывает, что филерское наблюдение без точных данных не способно что-либо сделать. О том, что московскому охранному отделению было известно о возможном покушении, мне передавал заведующий наружным наблюдением Д. Попов, и это подтверждается тем, что в день убийства или на другой департамент полиции разослал телеграммы о немедленном аресте Савинкова при каких бы то ни было обстоятельствах, а за его родными, проживавшими в то время в Варшаве, предписал учредить самое строгое наблюдение. Что подобная телеграмма разослана из департамента, а не московским охранным отделением, показывает, что указания исходили от провокатора, имевшего лишь отношение к департаменту полиции или к петербургскому охранному отделению.
Далее, в одном из номеров “Былого”, я прочел воспоминания Аргунова, в которых он описывает возникновение “Революционной России” и заканчивает арестом типографии в Томске, где печатался этот журнал. Причину ареста он не указывал и, кажется, даже приблизительно не может догадаться, каким образом последовал провал.
На основании официальных данных (мне в свое время пришлось познакомиться с докладом Зубатова о ликвидации томской типографии) и из рассказов Медникова, Зубатова и филера Дм. Яковлева могу сообщить, что в числе участников возникшей тогда партии социалистов-революционеров находился один субъект, по профессии инженер, – он был провокатором, носил псевдоним у охранников “Раскин” и числился при департаменте полиции.
От упомянутого “Раскина” были получены агентурные сведения, что “такого-то числа, такой-то (точно не помню) поедет на юго-восток России по партийным делам, а оттуда, если не заедет в Москву, то направится в Томск, где устраивается нелегальная типография для печатания “Революционной России”».
“Такой-то” был взят в наблюдение двумя филерами – Дм. Яковлевым и, кажется, Д. Поповым, – за ними следовали по пятам и дальнейшим за ним наблюдением установили место нахождения типографии, что уж не так трудно. Следовательно, причину провала надо искать в указаниях провокатора “Раскина”.
Личность этого неизвестного провокатора, скрывавшегося под псевдонимом “Раскин”, крайне интересна и его обнаружение может послужить поводом к выяснению многих бывших провалов. Впервые о “Раскине” я услышал в январе 1903 года, узнал, что это инженер, является главным сотрудником по партии социалистов-революционеров, числится сотрудником департамента полиции, сообщал сведения только Зубатову или Медникову и получал по 350 руб. в месяц, что считается очень солидным жалованьем.
Знаю, что “Раскин” бывал на съездах, разъезжал по России, и когда он куда-нибудь ехал, то за ним всегда следовали филеры летучего отряда и Медников, – настолько его поездки были важны.
“Раскин” давал ценные сведения о партии социалистов-революционеров и находился в курсе дела всех ее революционных предприятий; между прочим, он осветил роль Гершуни, указал на Серафиму Клитчоглу как на члена Боевой организации, проживавшую осенью 1903 года в Харькове, а потом в Петербурге и находившуюся под неотступным наблюдением; указал на террористический народовольческий кружок Негрескул; по его сведениям велось наблюдение за инженером Витенбергом; осветил связь тверских земцев – Бакунина, Петрункевича и др. с революционерами и указал, между прочим, на возможность появления у них Брешко-Брешковской, вследствие чего за этими лицами велось неотступное наблюдение филерами летучего отряда.
“Раскин” встречался с Зубатовым и Медниковым на квартире сожительницы последнего Е. Гр. Румянцевой – Преображенская ул., 40, кв. 1.
По указанию “Раскина” было учреждено наблюдение в феврале 1903 года за дантистом Шнеуром в Лодзи, который там поселился с целью переправы нелегальщины социалистов-революционеров из-за границы.
Переехав в Варшаву, я потерял “Раскина” из виду, но вот однажды, в 1904 году, вдруг является в Варшаву из Петербурга через Москву Медников в сопровождении филеров и заявляет, что на следующий день приезжает сотрудник “Раскин”, который должен иметь серьезное деловое свидание с N. (один из поднадзорных лиц) и что после свидания наблюдение за N. будут осуществлять привезенные им филеры. В день посещения “Раскиным” N. за ними обоими было учреждено наблюдение с филерами от варшавского охранного отделения, и вот последние вечером доносили, что в таком-то часу в квартиру наблюдаемого, т. е. N., пришла “подметка” (так филеры называют сотрудников-провокаторов), описали его приметы, но, по их словам, “Раскин”, однако, скоро оттуда вышел и пошел под наблюдением одних только “приезжих”, т. е. филеров летучего отряда, которые заявили, что будут сами наблюдать. В тот же день “Раскин” и Медников уехали, а в Варшаве остались два филера летучки, в том числе А. Тутушкин, ныне служащий артельщиком на юго-западных дорогах. Через несколько дней из департамента полиции последовало распоряжение филеров летучки возвратить, за N. наблюдать местными силами.
После этого сведения о “Раскине” у меня теряются, но на основании личных соображений, без фактических данных, что будет единственным предположением во всей этой статье, думаю, что этот таинственный провокатор не исчез со сцены, а только переменил псевдоним и стал называться “Виноградовым”. Со слов многих деятелей департамента полиции, в том числе Гуровича, передаю, что независимо от Татарова, одновременно с ним сотрудничал среди социалистов-революционеров и какой-то Виноградов, который в той же, если не в большей степени, способствовал провалу подготовлявшегося покушения на Трепова и Булыгина в марте 1905 года.
Возможно, что я в отождествлении личностей “Раскина” и “Виноградова” ошибаюсь, но социалисты-революционеры должны позаботиться выяснением, кто мог скрываться под псевдонимом “Раскин”. Если бы “Раскин” провалился, я бы это знал, ибо провал провокатора такой величины, какой он являлся для департамента полиции, не мог пройти для меня незамеченным. Остается два предположения: или “Раскин” ушел от революции в сторону, или же по-прежнему находится в рядах партии социалистов-революционеров».
Бурцев из этих указаний Бакая выводил заключение, что Раскин, он же Виноградов, – не кто иной, как Азеф.
В доказательство правильности этого вывода он приводил два соображения.
Во-первых, по сведения Бакая, анонимное письмо 1905 года писал начальник петербургского охранного отделения полковник Кременецкий. Сделал он это по личной злобе к Рачковскому. Рачковский, пользуясь услугами провокаторов Татарова и Виноградова, произвел 17 марта 1905 года аресты членов Боевой организации помимо и без ведома петербургского охранного отделения, в частности полковника Кременецкого. За эти аресты Рачковский и его сотрудники получили крупную денежную сумму, а Рачковский, кроме того, был назначен заведующим всем политическим розыском империи на правах директора департамента полиции. Кременецкий, разумеется, никакой награды не получил. Это и послужило поводом к озлоблению против Рачковского. Таким образом, этим анонимным письмом устанавливалось тождество Азефа с Виноградовым.
Во-вторых, устанавливалось его тождество с Раскиным. Сообщенный Бакаем факт о посещении некоего N. Раскиным в Варшаве в 1904 году совпадал с посещением этого N. Азефом.
Бурцеву казалось, что этих совпадений достаточно, чтобы с уверенностью обвинить Азефа в провокации. Остальные приводимые им соображения и факты были несущественны и служить к обвинению Азефа не могли.
Мне не удалось убедить Бурцева в ошибочности его выводов. Зная об этих моих с Бурцевым переговорах, Азеф писал мне:
«…Я не вижу выхода из создавшегося положения, помимо суда. Не совсем понимаю твою мысль, что мы ничего не выиграем. Неужели и после разбора, критики и опровержения “фактов” Бурцев еще может стоять на своем? Я понимаю, когда у него была отговорка, что его не слушали и не разбирали его “материала”».
В другом письме он писал:
«Слушаюсь твоего совета не думать об этом грязном деле. Хотя признаюсь, что трудно не думать. Так или иначе, но лезет в голову вся эта грязь…»
В начале октября Бурцев известил меня, что у него есть новое, уличающее Азефа сведение. Он под честным словом просил меня никому об этом сведении до суда не сообщать. Поэтому Центральный комитет до судебного разбирательства с ним ознакомлен не был.
Бывший директор департамента полиции сенатор Алексей Александрович Лопухин, знакомый Бурцева еще по Петербургу, приехал в октябре месяце за границу. Бурцев встретил его в поезде между Кельном и Берлином. Бурцев просил Лопухина сообщить ему, действительно ли Азеф состоял на службе в полиции и не имел ли Лопухин с ним дела в бытность свою директором департамента?
После долгого колебания и настойчивых просьб Бурцева Лопухин на оба вопроса ответил утвердительно.
Он сообщил, что дважды встречался с Азефом по служебным делам.
Рассказ Лопухина не заставил меня заподозрить Азефа. Мое доверие к последнему было настолько велико, что я бы не поверил даже доносу, написанному его собственной рукой: я бы считал такой донос подделкой. Однако сообщение Лопухина было мне непонятно. Я не видел цели у Лопухина обманывать Бурцева. Я не мог допустить также мысли, что он участвует в полицейской интриге, если такая интрига в действительности существует: бывший директор департамента полиции едва ли мог унизиться до роли мелкого провокатора. Я склонился к мысли, что произошло печальное недоразумение: Лопухин принял за Азефа кого-либо из многочисленных секретных сотрудников полиции. Как бы то ни было, для меня было ясно, что рассказ Лопухина должен произвести большое впечатление на судей. Я боялся, что суд окончится не полным обвинением Бурцева и даже его оправданием. Такой исход был бы тяжелым ударом для партии и для Боевой организации.
Уверенный в честности Азефа, уверенный, что мы имеем дело с недоразумением, я опять стал просить Чернова и Натансона отказаться от суда. Мои настояния не увенчались успехом.
Суд был назначен на конец октября в Париже.
IIIСуд чести, как я говорил выше, состоял из избранных Центральным комитетом, с согласия Бурцева, Г. А. Лопатина, князя П. А. Кропоткина и В. Н. Фигнер. Представителями от партии были В. М. Чернов, М. А. Натансон и я. Суд начался в конце октября и происходил сперва в помещении библиотеки имени Лаврова (50, rue Lhomond), а затем на моей квартире (32, rue La Fontaine).
Первые заседания были посвящены докладу Бурцева. Он взял слово для обвинения и повторил то, что рассказал мне в частных беседах со мною: бессилие Боевой организации и многочисленные аресты последних лет, в частности, казнь Зильберберга и Сулятицкого, аресты 31 марта 1907 года и аресты членов северного летучего боевого отряда (Карл Трауберг и др.), уже давно убедили его в существовании в центральных учреждениях партии и даже, быть может, в самом Центральном комитете, провокатора. Путем исключения, он обратил свое внимание именно на Азефа. Сведения, сообщенные Бакаем (чиновник варшавской охранки) о Раскине и Виноградове и совпадение этих имен с именем Азефа убедили его, что подозрения его правильны. Сообщение Лопухина рассеяло последнюю тень сомнения. Доклад Бурцева, видимо, поколебал Кропоткина и Лопатина. Оба они не знали Азефа, соображения же, высказанные Бурцевым, в особенности рассказ Лопухина, действительно представляли собой значительный материал для обвинения. Фигнер давно знала Азефа и после доклада Бурцева продолжала твердо верить в его невиновность. Натансон, Чернов и я попросили слова для возражения Бурцеву.
Чернов не только защищал Азефа, он обвинял Бурцева. Сначала он шаг за шагом разбивал его доказательства. Он объяснил причины казни Зильберберга и Сулятицкого и указанных обвинением арестов, – по его и нашему общему мнению, незачем было искать этих причин в провокации Азефа: аресты могли произойти естественным путем через наружное наблюдение, казнь же Зильберберга и Сулятицкого, против которых на суде не было никаких улик, могла, конечно, свидетельствовать о наличности провокации, но еще ни в коем случае не указывала именно на Азефа. Затем Чернов остановился на самой сущности обвинений. Он указал, что источником их являются два лица. Одно из них – Бакай, бывший провокатор, агент охранного отделения. Уже одно это заставляет недоверчиво относиться к его показаниям. Но и далее – рассказ Бакая страдает неточностью: так, например, сообщая, что Раскин в 1904 году в Варшаве посетил N., он не устанавливает в точности дату этого посещения, чем обесценивает свое показание. Другое лицо – бывший директор департамента полиции Лопухин, человек, хотя, конечно, и компетентный в вопросах провокации, но едва ли заслуживает доверия большего, чем Азеф, много лет работавший в партии. Чернов отказывался выяснить во всех подробностях загадочную историю показания Лопухина, – к этому он не имел данных. Но он как одну из допустимых гипотез предлагал следующую: правительство уже давно стремится деморализовать партию, обвиняя одного из видных ее вождей в провокации. Так было в 1905 году, когда из полицейского источника было получено пресловутое анонимное письмо; так было в 1906 году, когда Азефа обвинял Татаров; так было в 1907 году, когда из Саратова были получены сведения о важном провокаторе Валуйском (Азефе). Так, конечно, есть и сейчас. Только теперь главную роль играют Бакай и Лопухин, а игрушкою в их руках является Бурцев. До какой степени такою игрушкою он является, видно из того, что он, Бурцев, ранее, чем сообщить о своих подозрениях Центральному комитету, счел возможным говорить о них с партийными людьми, чем уже вредил партии, уже вносил в нее деморализацию, уже служил интересам правительства. Чернов просил поэтому обвинить Бурцева в легкомысленном обращении с чужим именем и признать факты, им сообщенные, неосновательными, исходящими из недостоверного источника.
Натансон поддерживал Чернова главным образом в той части его речи, где он выяснял некорректность отношений Бурцева к партии и Центральному комитету.
Я не был во всем согласен с Черновым и Натансоном. Я полагал, во-первых, что обвинения Бурцева в некорректности настолько ничтожны, что останавливать на этом пункте свое внимание значит терять время даром. Контробвинение Бурцева (Бурцев обвинял Центральный комитет в бездействии и в небрежении партийною безопасностью) мне представлялось в такой же степени неважным. Центр тяжести был в подозрениях на Азефа. Этим подозрениям следовало противопоставить факты его революционной биографии. Я это и сделал на суде. Во-вторых, я не был согласен с гипотезою Чернова: я не верил, что Лопухин может играть роль провокатора. Суд, однако, не убедился нашими речами. Фигнер оставалась при прежнем доверии Азефу, но Лопатин и Кропоткин продолжали колебаться.
Я спросил однажды Лопатина:
– Как ваше мнение, Герман Александрович?
Лопатин сказал:
– Да ведь на основании таких улик убивают.
Кропоткин, по-видимому, допускал возможность двойной, со стороны Азефа, игры, т. е. одновременного обмана правительства и революционеров. Для него, как и для Лопатина, единственным крупным в пользу Азефа фактом было дело ***. Но они не могли связать его провокацию с участием в необнаруженном покушении на цареубийство.
Это был единственный пункт наших возражений, имевший значение в глазах судей. Зато рассказ Лопухина определенно склонял весы в сторону обвинения.
Лопатин, очень вдумчиво следивший за нашими речами, в частном разговоре спросил меня:
– Как вы объясняете роль Лопухина?
Я развел руками.
– Налево Лопухин, направо Азеф. Лопухин, конечно, не участвует в полицейской интриге, даже если такая есть налицо, в чем и можно усомниться. Но я, конечно, скорее поверю Азефу, чем Лопухину.
Лопатин покачал головой.
– Лопухин не заинтересован сказать неправду.
Я сказал:
– Да. И я ничего здесь понять не могу. Но я верю Азефу, и я убежден, что он не виновен.
Я сказал также, что, по моему мнению, все это недоразумение объясняется не полицейской интригой, а гораздо проще: отчасти сплетней, отчасти случайным совпадением, отчасти, быть может, добросовестными ошибками. Я, как уже говорил, склонялся к предположению, что Лопухин ошибся.
Последующие заседания были посвящены допросу свидетелей. Было вызвано несколько лиц, в том числе и Бакай. Только его показания и имели интерес для суда.
Бакай повторил то же, что уже рассказал Бурцев. Он ни разу, однако, не отождествил Азефа с Раскиным или Виноградовым. Он подчеркнул несколько раз, что не сомневается только в одном – в существовании центральной провокатуры; кто же именно этот провокатор – ему неизвестно. Во время допроса выяснилась и предшествующая деятельность Бакая: он признался, что состоял на службе полиции в качестве секретного сотрудника в 1900–1901 годах в Екатеринославе.
Чернов, Натансон и я, допрашивая Бакая, пытались воочию доказать судьям, что слова его не заслуживают веры.
В частности, Чернов несколько раз указывал на противоречие в его показаниях. Мы не достигли цели. На мой вопрос, какое впечатление произвел на него Бакай, Кропоткин, идеальный по беспристрастию судья, спокойно ответил:
– Какое впечатление? Хорошее.
Лопатину тоже казалось, что Бакай говорит правду. Только Фигнер была с нами согласна: она к словам Бакая относилась и в данном случае с недоверием.
Бурцев опровергал наше мнение о Бакае. Он говорил, что совершенно убежден в его искренности. Убеждение это он вынес не только из личных впечатлений и встреч, но и из фактов: Бакай обнаружил свыше 50 провокаторов в польской социалистической партии; он предупредил в Петербурге о готовящихся арестах 31 марта 1907 года, но предупреждением этим не по его вине не воспользовались; он предупредил о наблюдении за социал-демократической лабораторией на ст. Куоккала в Финляндии; он был арестован за сношения с ним, Бурцевым, и сослан в Тобольскую губернию; из ссылки он бежал с помощью Бурцева, а не какого-либо неизвестного лица.
Эти факты из биографии Бакая не убеждали Натансона, Чернова и меня в правдивости его слов. Мы не могли забыть, что Бакай был провокатором и затем долгое время служил в охранном отделении.
После допроса свидетелей и речи Бурцева слово опять было предоставлено Чернову, Натансону и мне. Мы опять пытались разбить доказательства Бурцева и противопоставить им бесспорность фактов террористической деятельности Азефа.
Суд, выслушав нас, объявил перерыв для допроса некоторых свидетелей вне Парижа и для представления документов, – анонимное письмо 1905 года и саратовское сообщение находились в партийном архиве в Финляндии.
Предстояло допросить Лопухина. Бурцев написал ему письмо с просьбой приехать для этого допроса за границу.
Мы же с разрешения суда послали в Петербург члена Центрального комитета Аргунова, чтобы на месте справиться о Лопухине, о его отношениях к правительству, о его политических убеждениях, о его личности, о причине отказа ему в приеме его в конституционно-демократическую партию и в сословие присяжных поверенных, о каковых отказах нам было известно.
Сделав постановление о перерыве, суд разъехался из Парижа: Лопатин уехал в Италию, Кропоткин вернулся в Лондон. Оба они уносили с собой большое сомнение в честности Азефа, и мы это знали.
Суд, как я предвидел, не только не был полезным для партии, но, наоборот, грозил нежелательными осложнениями. Посоветовавшись втроем, Чернов, Натансон и я решили в случае оправдательного Бурцеву приговора идти на прямой конфликт с судом: еще ни в малой степени мы не подозревали Азефа. Все обвинения Бурцева казались нам не только печальным и нелепым недоразумением, оскорбительным для партии, для Азефа и для нас, но и лишенным всякого основания и даже правдоподобия.
Во время суда Азеф жил на юге Франции. Он, видимо, тревожился обвинениями Бурцева и писал мне письма, в которых не скрывал своей тревоги. Я находил объяснение этой тревоги в его оскорбленном чувстве собственного достоинства.
Так, он писал мне от 21 октября:
«…Ход или постановка дела мне несколько не понятны. Обвинение ведь могло бы быть формулировано так. Имел ли Бурцев право на основании всего того, что он имеет, распространять и т. д. Я представлял себе весь ход гораздо быстрее. Он выкладывает все – это рассматривается и решается, имел право он или нет. При чем тут допрос Бакая и свидетелей, живущих вне Парижа? Но вам там, конечно, виднее. Уверен в одном, что вы все маху не дадите. Пожалуй, послушаюсь тебя, и с приездом еще подожду».
В другом письме из Сан-Себастьяна от 26/X он писал:
«Дорогой мой!
Конечно, судьи не историки, они обязаны выслушать и проверить всё; они обязаны потребовать доказательства и от вас. Но… ведь тут неравные стороны: вы и полиция (я становлюсь на точку зрения твоих впечатлений от Бакая). Ну как вы докажете судьям, например, утверждение Бакая, что, когда Раскин приехал в Варшаву и должен был посетить N., было в охране сделано распоряжение не следить за N., дабы шпионы не видели Раскина. Как это доказать? Я не понимаю. Относительно письма, которое писал Кременецкий, – пойди и докажи. Хотя тут, пожалуй, легче. Ибо объяснение уже довольно-таки странное – что за сей поступок перевели лишь человека в Сибирь. Тут, конечно, можно было заставить Бурцева, чтобы он при помощи своих охранных связей, документально доказал, что Кременецкий был именно переведен в Сибирь после того письма, т. е. августа 1905 года. В общем мне кажется, что опровергать все, что исходит от охраны, для нос почти невозможно: и судьи, не будучи историками, должны и обязаны стать на эту точку зрения. Даже и в формальном суде введен институт присяжных заседателей, дабы решалось не исключительно формально, но принимая во внимание очень и очень многое другое. Став на эту точку зрения, мне все-таки не все понятно в этом суде. И прежде всего перерыв для бесконечных допросов. Я не критикую, мой дорогой, но мне все не совсем ясно, а вернее всего, тут мое настроение, мой субъективизм. Хотелось бы уже развязаться с этой мерзостью, да и потом шатание уж надоело».
В ноябре Азеф приехал в Париж.
Он пришел ко мне утомленный и разбитый. У нас произошел такой разговор.
Я повторил ему все обвинения Бакая (Бурцев при частных беседах со мною дал мне на это право: я был обязан словом молчать только о сообщении Лопухина). Я сказал, что, по моему впечатлению, двое из судей – Лопатин и Кропоткин – едва ли не на стороне Бурцева. Я сказал также, что, кроме показаний Бакая, есть еще одно показание, которое я рассказать не вправе. Азеф встревожился:
– Опять какой-нибудь Бакай?
– Нет, не Бакай.
– Но чиновник полиции?
– Не знаю.