Текст книги "Художник и время"
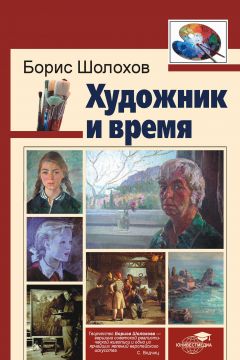
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 1 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Борис Шолохов
Художник и время
В служении Аполлону
(вместо предисловия)
Борис Анатольевич Шолохов родился 2 июня 1919 года в городе Борисоглебске Воронежской области в семье служащих, имевших купеческие и крестьянские корни. Его отец, окончив реальное училище, сначала работал бухгалтером в родном городе, затем уже в Москве главным бухгалтером Росзаготзерно. Анатолий Иванович имел ярко-выраженный поэтический дар. Всю жизнь писал стихи и даже поэмы по истории Древней Руси. У него дома встречались поэты, художники (благо родной брат Петр закончил ВХУТЕМАС и тоже обосновался в Москве в Глазовском переулке).
Мать, Ольга Ивановна, с золотой медалью окончила Борисоглебскую гимназию и вышла замуж за приказчика своего отца, учительствовала и посвятила жизнь воспитанию единственного сына Бориса, у которого рано обнаружились способности к рисованию.
Первым учителем стал родной дядя Петр Иванович, профессиональный художник, который оказал на племянника благотворное влияние. К окончанию школы, у Бориса не было сомнения – только в художественный институт. Выбрал самый престижный – Ленинградскую академию художеств. И поступил. Но близилась Великая Отечественная война, началась Финская война. Студентов забирали в солдаты. Так что на фронт Борис попал уже не с институтской скамьи.
Начинал рядовым, затем сержантом. Два раза оказывался во вражеском плену. И дважды удачно бежал и после проверок возвращался на фронт. Воспоминания об этих ярких эпизодах его жизни вошли в этот сборник, как и другие зарисовки военных лет.
После войны Борис Анатольевич продолжил учебу в Москве, где тогда уже жили его родители и жена Татьяна Васильевна, тоже уроженка Борисоглебска. Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова на несколько лет стал для него родным домом. Работал под руководством профессоров Николая Чернышева, Василия Яковлева, Павла Корина, Анатолия Грицая. В 1950 году окончил институт с красным дипломом. Дипломная работа «У доски соцсоревнования» на Всемирной выставке в Третьяковской галерее получила премию.
Затем учеба в аспирантуре того же института. В 1954 году защитил диссертацию по картине «Школьный хоровой кружок» и печатным материалам «Краткосрочный рисунок и наброски». После присвоения звания кандидата искусствоведения, а затем и доцента, преподавал более 30 лет в Московском государственном полиграфическом институте (ныне МГУ печати имени И. Федорова) на кафедре рисунка, живописи и композиции и руководил студией изобразительного искусства в Подмосковье, удостоенной звания народной.
Участник многочисленных московских выставок, многолетний член МОСХа, художник Борис Шолохов оставил сотни картин, этюдов, набросков. Себя считал, прежде всего, портретистом, увлекался обнаженной натурой, (направлением, названным по-французски «ню»). Ряд работ художника находится в российских и зарубежных музеях.
Частичку своей души он, несомненно, оставил ученикам. Им же посвятил методички по рисунку и живописи, воспроизводимые в данной книге.
Борис Шолохов был человеком глубокой души и многогранного таланта. Как и отец, он писал стихи и прозу, стремясь запечатлеть в них окружающую жизнь.
Кстати, когда интересующиеся происхождением фамилией художника, задавали ему вопрос о писателе Михаиле Шолохове, он, как и его дядюшка, отвечал, что фамилия купеческая, происходящая из подмосковного (рязанского) Зарайска. Представители нескольких поколений этой фамилии обладали литературными и художественными способностями. А дальше, как говорится, пути Господни неисповедимы.
Борис Шолохов прожил большую творческую жизнь. Скончался в 2003 году, захоронен на Головинском кладбище в Москве. Но самыми, пожалуй, яркими её страницами были годы Великой Отечественной войны. Фронтовые эпизоды, увиденные глазами художника, затем переплелись с его любовной лирикой и прозой. Нельзя судить эти произведения слишком строго, тем более опираясь на житейскую мораль. Ведь художник, отметил кто-то, в обычной обстановке отнюдь не велик и даже уступает во многом обычным людям. Другое дело, когда он служит Аполлону – тут нет ему равных.
А. Б. Шолохов,кандидат исторических наук
I
Воспоминания для Золушки
С первого взгляда
Любовь с первого взгляда совсем не исключение. Мужчины только так и влюбляются – со взгляда. С ослепления, если соблюдать пунктуальность.
Чувство это довольно старое: ток тетерева, нерест осетров, комариные кадрили, самопожертвование скорпионов – триста миллионов лет продолжается карусель, и конца не предвидится!
– Вечное. Вечное. Вечное… Начало начал…
Счастье покачивалось на легком взлете стебля. Цвело золотом локонов, улыбки, молодости.
– А знаете что? – встрепенулась Люся. – Расскажите о жизни, о пережитом.
Художник ожил:
– Вопросы, вопросы… из несносной суеты вопросов хорошо шмыгнуть в прошлое. В светлое, совсем невесомое, детство. За бездной забытого возникают узоры образов. Мир немеркнущих красок, вышитый в душе минувшим. Он колышется, дышит, воскрешает.
Сумрак серого сада. Горячие руки матери. Взволнованность взрослые. Приглушенное шушуканье: «Петр, Петр…»
Собственно вот и все. Остальное узналось значительно позже. Петр, мамин брат, прибегал прощаться. В Гражданскую. Раненый… Затем исчез без вести.
Воспоминания семимесячного?! Все смеялись. Но… помнилась картинка. Яркая-яркая. Это убедительнее доводов.
Сначала оседают в сознании осязаемые образы. Звуки, запахи. Свидетельства чувств, словом. Без досужих рассуждений.
Развитие речи вырывает из рая. Словами мыслят. Слова откладываются в голове илом липких понятий. Выиграли или проиграли от развития речи? Разве звуки не закабалили? Не изъяли из них музыку, не заставили нести спесивый смысл?
Точным значением изувечили безграничность вещей и ощущений. Крот, например, хранит трепет прикосновения. А говорящие констатируют: «Коснулся милой». Констатируют, черт возьми! Сколькими словами можно вызвать один забытых запах – и возможно ли?
– Какой же вы, однако, умница!
– Спасибо. Распинаюсь, собственно, о красоте косноязычия и бездумности, а мне бац – «умница»… Сейчас? С вами? Это же не заслужено, уличать в рассудочности очарованного!
– Перестаньте оправдываться. Вернитесь к воспоминаниям. Интереснее.
– Интереснее? Тогда слушайте: картинка вторая – приют. Тут работа и квартира родителей. Казенная. – Это вонзается в сознание безрадостной высотой стен и неестественной пустотой во все стороны. – Я уже ухожу. Среди всей обстановки заслуживает уважения разве несуразный коробок, выкрашенный оранжевым по неструганному. Он предельно ярок и безгранично универсален. Ибо играть роль рундука, горки, гардероба одновременно, или по усмотрению, умудряется без труда. Хожу от оранжевого вооружения до нещадно обшарпанной двери. Через порог приют. Голосисто-таинственный. Рвусь посмотреть – напрасно. Взрослые дергают за руку: «Там… клопы!»
– Ну так что ж? Вам же можно!
– Вырастешь – узнаешь.
И мне оставалось расти во вселенной, простиравшейся от стены до стены. А за запретным визжала жизнь, огороженная прожорливой стражей. Впрочем, приют, нет-нет, да и переступал черту. Перебирался через границу. Дверь открывалась, и в нее робко просовывалось странное существо.
– Здравствуй, Поля. Проходи. Садись, – ласково звала мама.
Собирала на стол, угощала.
Бесчисленные «почему?» начинали тотчас же стучаться.
– Совсем сострижены волосы. С какой стати? Девочки обычно причесаны. И назвали глупо: «Поля». Не по-людски совсем. И лицо… Круглое, как блин, засижено рыжими веснушками. Разве брезгуя, зовут в гости?
Мне объяснили: есть, мол, обездоленные. О жалости, рассуждали. Только к жалости непременно примешивалась доля фальши. Малыши слышат фальшь очень хорошо.
Гостья садилась за стол. Ела. Сопела:
– Спасибо…
И исчезала. Молчком.
– Глупа – вот и молчит, – догадывался я. – А конопины так от клопов… – Мысль смелая, не по летам, не так ли?
Жалость? Желание служить и нежность, или брезгливое покровительство? Все на свете достойно высокого чувства: и красота, и уродство? Если бы!..
Краски прыгали с палитры на холст. Липли к полотну. Люся сияла в прожекторах безудержного обожания. Сотворив святыню, проникаются робостью. Портретист инстинктивно избегал, не смел погрузиться взглядом во взгляд. Не смел и стремился всеми силами.
– Перерыв! – грянуло приговором из горла.
Люся обернулась, словно на вызов. Скрестила со светом свет. Ресницы не дрогнули. Только попятились, расступились. Выстроились черным караулом по сторонам. Пропустили.
А за ними… Звали звезды или разверзлась бездна?! Дерзнувший не знал. Не запомнил. Не успел. И, спасаясь, инстинктивно потупился. Караул пропустил обратно. Даже что-то позволил взять, а взамен заставил оставить. Навсегда… Навсегда ли? Не станем гадать.
Бездна в глазах. Гибель с первого взгляда! Разве я не рассказывала, что оказии этой триста миллионов лет?! Она родилась до разума и без разума прекрасно управляется. Вернейшее средство потерять рассудок, это уставиться глазами в глаза. Высокое чувство на том и основано: сначала смотрят издали и фантазируют; потом подходят вплотную, видят часть и теряют всякую способность судить о целом.
Сколько смыслят в платье, уставившись в пуговицу? Разве переливы перламутра не настраивают чересчур восторженно?..
Перерыв прошел. Люся снова уселась. Ресницы расступились, пропуская взгляд, устремленный в пространство. Краски засуетились: под кисть и на холст. Под кисть и на холст.
– Я говорил про приют… – продолжал художник. – Вскоре мы перебрались. В дом к дедушке. Оранжевый коробок устроился в передней в роли рундука. Другой не представилось. В спальню не пустили. Туда внесли настоящий сундук, покрытый ярким ковром для приличия. По стене, выше, лучшим украшением служил отдушник. Медный, с длинной цепочкой. Совсем по-царски! В огромной корзине, с продавленной крышкой, мои игрушки. Во дворе, в первый и последний раз, росли арбузы. Это врезалось твердо. Неказистые, зеленые, незрелые до зимы.
Мир предметов теперь перечислен. Но была коза. Катька. Которая позволяла объясняться в любви, давала себя гладить и даже… не возражала, если совались с сочинительством:
Кать-Кать-ка… Кать-Кать-ка…
И дает она молотька…
– Ну разве не прелесть?! Одаренный ребенок! – твердили взрослые.
Сестры родителей, квартирантки, подруги тех и других, наперебой тискали, ласкали, баловали «талантливого». Всем по семнадцать. Все красавицы. Все с голосами. Лежи. Гляди, слушай. Выставляй ступни для чесания.
Рождалось убеждение, что блаженство в женской нежности. Просыпалось сознание, что ты… особенный, способный-способный, совсем не как все…
А Поля из приюта по-прежнему просовывала голову в калитку. Ждала, чтобы позвали. Садились за стол. Сопела. Ей надо было поесть. Вот и все.
Старая история: запропастилась единственная в семье серебряная ложка. Сгинула после ухода Поли.
Качали прическами: «Конечно…» Шептались: «Больше кто ж…»
– Поля, ты ложку случайно не брала?
– Н-н-нет…
На том и кончился разговор. И Полю… кормили. Только верить не верили. И стала она приходить реже. Потом перестала совсем.
А ложка? Нашлась. За сундуком…
– Золушка, Козетта. Сотрите с них красоту. Обреките на страдание.
Принцы, Мариусы, простые смертные – все постараются устраниться.
В чувствах все естественно: и симпатия, и брезгливость. Искусственному состраданию помогают логикой долга. Столовую ложку долга и… красоту на закуску. Не то… стошнит. Классикам сия аксиома известна.
Но чуть чувства вскачь, и жалость неудержима. У милой бледность и выпирают лопатки… Ах, ах! Принцесса царственно отказывается от преподнесенных апельсинов… И воображение поражено.
Остальные позировали не совсем бескорыстно. Не с такой радостью. Не так… самоотверженно.
– Пустяк? Несомненно.
А как постигается красота солнца. По капле, блестящей на зелени. По золотым зайчикам. По яркой радуге. Весь свет не в состоянии вместить. Жмурятся, жмурятся, но не сомневаются, что источник света есть!
Души тоже не обнаружить иначе, чем по жгучему счастью. Душа украшает каждый шаг. Светится в поступках. В каждом жесте. В каждом побуждении.
Можно прожить бок о бок всю жизнь, не распознав сокровенного у близкого человека. И можно открыть эти тайники при первой же встрече.
Есть цветы, что распускаются навстречу заре. Есть расцветающие ночами. Но нет таких, что выдергиваются из бутона нетерпеливыми пальцами. Сердца также открываются не всегда и не всем. И если вам посчастливилось, нужно быть осторожным. Они нежнее цветов…
Художник рассуждал. Восторженный. Завороженный. А ресницы скромно теснились у глаз, указывая вниз. Словно извиняясь, что дали заглянуть в заветное, отделенное от появления мысли миллионами лет.
У запретной черты
Смеркалось. Но Люся не соскакивала с верстака, а страницы детства листались хозяином без устали.
– Учили по Чехову. Рассказывать связно: висит на стене двустволка – стало быть, выстрелит. Но разве постигнута связь событий? Разве известны следствия самых-разсамых пустяков?
В арсеналах сознания оказывается всякая всячина, без заметной связи и назначения. Притронешься и… взорвется! Самым непрошенным образом. Пронесло первый раз… нет гарантии на завтра и послезавтра. Просто время не пришло до поры. Вытряхивать торбу пережитого подряд, без разбора, и проще и предусмотрительней, следовательно. Мало ли…
Поля исчезла. Осталась с той стороны двери. В запретном мире. С клопами. В неумолимом «нельзя».
На улицу было «нельзя» – «хулиганы». В столовую… был день, не пускали и в столовую. Потому и запомнился, что не пускали.
Взрослые сидели, к моему великому удивлению, прямо на полу. У стены, разрисованной розами. Розы с голову. Красные-красные. Высоко, низко – везде. Взрослые сидят. У всех слезы. А стол белым застелен. В глубине, в углу, постель. Рвусь взглянуть – оттаскивают:
– Ш-ш-ш… дедушка умер.
Но меня не унять:
– Сами с ним. Около. Пусть… Пусть… Плачьте! – И давясь от обиды: – Не б-буду! Не б-буду! По бабушке буду, а теперь н-нет!..
Деда не довелось видеть. Не пустили. Не показали. Но набросок под стеклом, в спальне, надолго остался в глазах: усатый и спит. Посмертный набросок и розы на стене – дело дядюшки-художника. Из самой Москвы. Ежегодно приезжал.
Да, деда я не видел. Зато сад, что посадил, всегда находился рядом. Весною осыпал цветом. Летом прятал в тени, качал на лапах яблонь, наполнял зеленым и спелым желудок.
Без сада не мыслю себя. Сад нес радость. Украшал сердце добром. Становился наставником. Оставался утешителем. Долго-долго…
– Художникам не до еды, когда трудятся? – заинтересовалась Люся.
– Не до еды? – «Само собой» – донеслось из детства.
Затем взрослого осенило:
– Стемнело совсем. Устали столько сидеть, проголодались?
– Сидеть? Удовольствие! Это вам трудно… работать.
– Сидеть удовольствие! Сидеть удовольствие! – трезвонила радость.
Живописец чувствовал себя принцем. Разглядевшим, открывшим Золушку. Прозорливость из завидных! Прозорливость… Продлить сладость болтовни около милой, не заметить темноты – великой догадливости не требовало. Принц перерыл в черепной коробке все содержимое – догадливости не оказалось. Понуро вытер палитру. Заторопился прибирать краски.
Золушка утешала, что постарается прийти завтра. Она разрешила, позволила себя проводить. Радости принца не было предела. В принципе, он не провожал прежде. Натурщиц не провожал. А принцессу – рвался.
– Пожалуйста… – Пальто попало на плечи. Тяжелое. Неуклюжее. По жилам побежала нежность. Зеленые пальцы поднялись к локонам. Помедлили…
– Шапочка – сложное совершенство! – шептало восторженно воображение.
Лицо стало еще круглее, еще одухотвореннее на бледном стебельке шеи!
В принципе, нет ничего глупее круглых лиц. Но разве любви есть дело до принципов? Разве она считается с ними?
Красавице положено иметь правильные черты, нежный живой цвет кожи, стройную, пропорциональную фигуру, одетую по моде… Всем остальным отклонение от эталона компенсируется универсальным комплиментом: «Очень мила». И лепят последний к делу и не к делу.
Правда, художник уверял, что нет единого типа красоты. Что разновидностей столько, сколько существует носов на свете. Что к каждому носу, соответственно, можно разыскать недостающее и тем самым создать совершенство. Но разбираться в красоте и чуметь от очарования – разные вещи. Обожающему женщину не суждено рассуждать. Даже в Возрождение великий Да Винчи склоняется около пожилой, ожиревшей Джоконды. Непостижимо?! И все же: известностью компенсируется все.
Живопись осваивают не сразу: с мастерством растет возраст. С возрастом исчезает вкус – ведь совсем не всякая заинтересуется седовласым!..
Хозяину повезло. Золушка оказалась молодой. Соблазнительно молодой. Монгольские скулы делали лицо миловидным. Круглым, словно солнце. Крыльями парили на просторе. Глаза разлетались далеко-далеко. Лоб был выпуклым и светлым: ни следа волнений, ни соринки переживаний. Овальные линии закругляли подбородок, опускали уголки губ, заставлял нос отступить от эллинской прямолинейности. Правда, оригинальности ради, не овал, а угол рекламируют верхом совершенства. Но… пилы не целуют.
Волнует округлое. Увлекает ласковое. Светлая Золушка! Желание нежно болтать она сочетала с завидной способностью слушать. Отсутствие особых вокальных данных компенсировала безотказной готовностью петь. И всякое свидание считала предпочтительнее скучищи одиночества. Словом, причин для заключения: «Очень мила» – хватало.
А на улице похрустывал наст, и легкие туфельки старательно выводили соло. Широкие башмаки внушительно, не спеша вторили. Сверкали, зазывая, магазины. Прилавки лоснились колбасами всех сортов. И слюна снова и снова выступала, словно на бис. Башмаки сокрушались, что не разрешают выпотрошить кошелек. Туфельки оставались непреклонными. Голод забылся, уступил место счастью.
И в тряском трамвае. И в быстром метро. Они были вместе. Вчера повстречавшиеся. И казалось естественным… не расставаться. Только у электрички, очнувшаяся порядочность запричитала, настаивая брести обратно: «Жена ждет!»
«А как же Золушка? Одна! Ночью!» – мучилось чувство. Лапы глупо топтались около ожидавшей решительного шага подножки. Лицо вытянулось. Переступать запретного не разрешалось с самого раннего возраста. Выработался рефлекс.
– Глуп! – хлопнули в сердцах двери.
Пронзительное: «Тр-у-у-у-у-с…» пронеслось по рельсам и растворилось во мраке.
Послушный зашагал к домашней всегдашности.
– Что есть смелость? – тоскливо попискивало в носу. – Поиск радости всеми средствами или отказ от соблазнов?
– Смотря по обстоятельствам, – скрипел снег. – Смотря по обстоятельствам.
Из-под стола
Овалы, овалы. Славно плыть по воле овалов. Провожать. Выхаживать, ожидая. Встречать счастье. И плыть, плыть… в пленительное. Оказалось, что Люсе целый час добираться до станции. Лесом, мимо погоста.
– Встать до света, и на рысях всюду: в институт, сюда…
Хрупкая красота гостьи стала поистине нестерпимой! Волосы рассыпались по спине, ресницы царственно расступились:
– Вы рассказывали про детство и сад. Продолжайте, пожалуйста… Совесть не отважившегося провожать успокоилась, уступая место воспоминаниям.
– В детстве не задумываются над смыслом вселенной. Ясно и так: все создано для нас, маленьких повелителей.
Тополь сыпал белым. Белое носилось по земле и полам. Оседало на стекла, столы, стулья. Липло к пальцам. Лезло в глаза.
– Милый тополь! Стели! Стели!
Я подставил ладони и дул к солнцу. Оно нежилось, ложилось за лес. В белое, посланное с ладони. Большие колокола били лениво и властно среди бисера перезвона. Из Горсада, над улицами и яблонями, неслись вальсы. Пожилые выползали на завалинки. Лузгать семечки, судачить.
В столовой собиралась молодежь. Пахло липкой клеенкой. Заливалась мандолина. Медиатор прыгал по струнам как одержимый. Голоса вплетались в мелодию до боли сентиментально:
– И тонкий стебель туберозы был крепко сжат в руке твоей…. Чужая жизнь. Чужие переживания, а поди ж… Залезаю под стол выплакаться.
К уродству привыкают. Грубостью просто бравируют. Тупость припудривают, снабжают нежностью. С нежностью хуже. С нежностью… если не женщина, нужно бежать. Обнаружат – держись!
Я копил сентиментальность в уголке, под стеклом. Вдали от назойливых взглядов. Я видел локоны, светлые-светлые. Лукавую улыбку. Озорные искорки в зрачках. И не смел шевелиться.
Для остальных веселилась блондинка. Валька или Олька. Для меня слетела с облаков любовь. Первая, неповторимая.
Тополь. Солнце. Вселенная. Все принадлежало мне!
Стол прятал от взглядов и не мешал любоваться.
Укрытие. Пещера. Трудно оторваться от первобытного совершенно. Да и нужно ли? Не милее ль любить без показухи, как в далеком палеолите? Нежное нуждается в убежище и защите. Влюбленным довольно уголка. Вселенная – лишь бесплатное приложение. Место тоски, страдания, ссылки. Для остальных, обездоленных. Лишенных крыши и затишья.
Я смотрел и смотрел в просвет под столом. Сентиментальная песня оборвалась. Кто-то стал декламировать «Руслана». Над обыденным поднялась Поэзия. Взмахнула сказочным жезлом. И из зыбких созвучий возникли замки, сады, звонкие голоса неземных красавиц. Они зазывали хазарского хана. И хазарским ханом оказывался я сам. А глаза не расставались с заветным. Я был пленен золотыми локонами. Отдавал им солнце и тополь. Всего себя. Пока не уносили спать…
– Страсть в трехлетнем возрасте?!
Славное начало! Только Любовь – не локоны или платье. А радость, распирающая грудь. Радость – неповторима. Радости не расставить по номерам. Нумеруют причины, породившие определенную реакцию. Например, страх: была бука, стал – угол. Боязнь остается постоянной. Лишь возникает всякий раз заново. Изловчись. Вызови. Избегай разоблачения. Азбука незамысловатая.
Спросят: разве боязнь не рознится, в зависимости от вызвавшего резона? Рознится… оставаясь боязнью! Всякая страсть не суррогат, не повторение пройденного. Но в самой сути своей она все-таки истинная страсть! И измены зря называют изменами, пока влечение не подчинено чести. Пока взаимность не заменена неразрывными узами…
Но художник просто распутывал воспоминания, не пытаясь философствовать. Столярка. Верстак. Люся… И тонкая нить бус-событий, протянутая из памяти в память:
– Переводные картинки прошлого. Помусолишь – вылезет. Яркая, с порванными краями. Продолжение не пририсуешь. Разве Року взбредится поиграть…
Тридцать пять лет спустя, в захолустье, я случайно встретил землячку. Слово за слово. Разговорились:
– Вы не знали ли?..
Знал! Знал! И улицу. И фамилию. И зал, где сидел под столом. И улыбку. И локоны… Только меня не замечали. Только любили не меня. А сильного, с мандолиной… дядюшку – брата художника, погибшего…
– Погибшего?! Боже!
Женщина сжалась, словно полоснули ножом, и уже не расспрашивала…
– Жик-жик. Жик-жик. Жик-жик… – жевал ржавый маятник. По жизни. По жизни. И в штабеля прошлого…
Поблекли локоны. Стерлась красота. Не стало любимого. Только Любовь осталась. Заботы, семья, известие о смерти, само время оказались бессильными справиться с нею.
Девушка, полюбившая на всю жизнь, заслуживала обожания. Это понял малыш под столом и любовался молча. А главный виновник? Видел ли? Оценил ли? Впрочем, не все ли равно ему теперь? Ему, убитому…
– Жик-жик. Жик-жик… – жевал ржавый маятник.
Я встал и простился. Уходя, о чем-то жалел: то ли о том, что минуло, то ли о том, что никто не вспоминает с тоской обо мне. Но может я тоже этого не заметил?..
Пусть живописец славит постоянство. Пусть пьет слюни умиления. Я же просто обязана пояснить, что хранить абстрактную верность, тосковать по отсутствующему – проще пареной репы. Тридцать пять лет вдали от любимого – эка невидаль? Попробуйте прожить их рядом и… не разочароваться!
Конкретная страсть – продукт скоропортящийся. Подлинная любовь взывает к близости. И близостью заканчивается. И взывает заново. Пока не насытилась, не остыла. Пока запахи, звуки, краски не лишились свежести. Пока живо желание.
Беречь верность состарившемуся кумиру, все равно что играть на расстроенном рояле, без фальши нельзя…
Но в столярке все только начиналось.
– Встречаться! Встречаться! Встречаться! – стучали сердца.
– Во что бы то ни стало! Чаще! Чаще!
Что может быть замечательнее, чем взирать на мир по-мальчишески чисто?! Словно из-под стола…
Трезвость и знание – участь несчастных.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































