Текст книги "Художник и время"
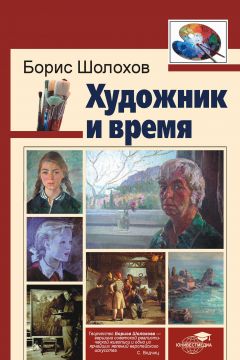
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Зов
О таинственном говорилось с особенным интересом. В стоптанные туфли сыпался снег. Застывшие ступни грели по булочным. Золушка разувалась на газету, и теплые лапы принца принимались растирать. Радость ни с чем не сравнимая, уверяю…
Затем снова вязли в сугробах. Любовались Москвой. Вспоминали о снах и таинственном.
– Упал ли лунный луч в дальний угол, или то была галлюцинация, только я видел колдуна, вылезающим из корзинки. Он рос. Постепенно поднялся до пояса. Белые волосы свисали, обволакивая все тело. Борода касалась самого низа. Я совсем не спал. Сполз с сундука. Кинулся без оглядки из спальни. Запутался в закоулках темных комнат. Отыскав постель родителей, взмолился:
– Пустите к себе. Я совсем-совсем вытянусь у стены. Точно червячок…
Меня – пустили. С рассветом пришло успокоение. Спокойствие совсем не свойственно детству. Родители встали. Я принялся скакать. Раздолье! Картинка в простенькой раме от прыганья покривилась. Картинку нарисовал тот же дядюшка-художник. Ниже изображения папины стихи, специально для меня:
…В поле, в лес и на дорогу,
Чтоб в душе проснулся зов.
Там поют о чудной жизни
Миллионы голосов.
Это последнее четверостишие. Но, собственно, оно и проясняло нарисованное. Я сопоставлял: стало быть, зеленым сделано поле. Выше и глуше волны леса… Лес в действительности не плоский и не облаками клубится, но так, понятно, рисовать проще. Ну а небо обязательно бывает голубым. По другому не красят… на открытках. Розовым с изломами, влезшее острым носом в лес, оставалось единственное – дорога. Закрасили розовым из-за «зова», осеняла меня понятливость.
О самом загадочном «зове» спрашивать не решался. Еще разбудишь. Пусть спит… И переписанное не просыпалось.
Зато за оконным стеклом, рос настоящий репейник, густели лопухи, рассыпался соседский забор. Дальше, за болтом, вилась на высокой насыпи линия, и по ней скользили неподдельные поезда. А голосов? Голосов был хоть отбавляй: в стекло колотилась муха. Смотря по времени, заливались лягушки или горланили петухи. И далекие гудки паровозов чередовались с тяжелым пыхтением на подъеме.
Распахнув раму, я выбирался наружу. Прямо в репей. Проулком отправлялся в свой сад. Ползал в кустах со спелой поздникой. Лакомился.
Около клумб склонялась лысина, осененная папиросную синью. Раиса с достоинством несла прическу за калитку, на улицу. Острый нос нисколько не сомневался в своей красоте.
Павлик, старший сын от первого брака, гонял голубей. Я с двоюродными глазел, разинув рты…
– С лета в будку черношалый залетел…
Слова запомнились словно заклинания. Павлик становился любимым идолом. Особенно, если рисовал для нас голубей.
Вот черношалый, вот мраморный… Он вырезал их из папиросных коробок. Естественно пустых. Ведь лысина курилась непрерывно, как сопка. Вырезал, раскрашивал карандашами, загибал крылья…
– Держи. Играй!
Я проглатывал слюну от удовольствия:
– Бабушка, гляди! Для меня сделали!
– Вот это, кысь, так! Лутче живых. Ды прпа…
А гора коробок росла. Вырезались звери. Возникал зоопарк. Крокодил ложился под лист волнистого желатина. Слон тянулся к зеленой пальме…
Рисовать! Рисовать! Вот профессия! Ряса просто перестала тревожить воображение. Детство – есть царство. Оно создает и сменяет святыни. А «зов», я подозреваю, не засыпает вовсе. Избегался непоседа совсем.
Из Москвы, далекой, полулегендарной, прикатил на лето дядюшка. С огромными подрамниками, яркими красками, гостинцами столицы.
«Гостил» не то слово. Он – княжил.
Если удалялся на этюды, следом слышалось:
– Пошел. Пошел. Не мешайте!
Но стоило властителю сложить причиндалы, как восторженный шепот окружал:
– Пришел только что. Слушайте, слушайте…
Рассказанному неизменно изумлялись. Перед покрашенным не дышали:
– Хорошо-о!
Дамам, не давай меду, только бы рядом. Взгляды, вздохи. Удивление. Умиление. То и дело. Рассказчик прекрасный. Остроумен на редкость. Подход к людям – позавидуешь! А разыгрывать мастер!
Гуляем по лемму. Меня жук привораживает. Глаз не свожу…
– Ваше жучье величество, окажите честь. Пожалуйте вечерком на чашечку чая… Что, что? Заблудиться боитесь? Сейчас адресок зарисуем… так-ч… Все в гору, все в гору. Заберетесь, и прямо в ворота. Забор разваливается, не крашен с революции. А номер? Тринадцатый. Договорились? Вот и славно. – И ко мне: – Теперь непременно приползет. Готовься.
Посмеялись и забыли. За маслятами в ельник. Опята по пням. Устали. Только бы лечь. А порог переступили и… за стол. Рты работают. Руки у тарелок. Вдруг: «Тук, тук, тук…»
– Ступай, открывай. Жук пожаловал.
Верю и не верю, но не терпится посмотреть. Раскрывая дверь… гость на порог карабкается… Тот. Тот самый, что адрес просил! Радости. Разговоров:
– Чудны дела твои, Господи! Право слово, чудны.
– Смекалистый, греха сколько. Отыскал. Кха-кха.
Дядюшка удивляется с другими. Вида не подает. Сама серьезность. Ест и подавится от смеха:
– Жук тоже уважения заслуживает. Усаживай ужинать…
– Наивность доставляет столько истинной радости! Ну, какого черта, например, миру крутиться? Разве земле не милее было покоится на китах? Доказали, невзирая на инквизицию. В результате: зыбкость невообразимая. А пользы не на мизинец. Узнавание зачастую бессмысленно и всегда болезненно. Зачем разочаровываться? Но… послушаем дальше… о дядюшке.
Дядюшка объединял домочадцев. Дирижером устранял ссоры. Наводил единство. Все добивались его расположения. Он никому не отказывал. В свободные часы, разумеется. Во время работы слышалось всегдашнее: «Ш-ш-ш… Не мешайте».
Только друг, тоже живописец, приходил запросто. Устраивал рядом мольберт. Рисовал… В перерыве решались вопросы, простым смертным недоступные. Судить об искусстве остальные не смели. Вкусы касты диктовались остальным. Им милостиво позволяли соглашаться. Хвалить и… сидеть позировать.
Часами с тачкой на солнцепеке, стоял супостат-комсомолец. Мускулатура до пояса выставлялась на съедение слепням. Рисующих ради.
Бочонок без обручей, кирпичи, старый сарай превратились в натюрморт. Собирался материал к картине «Строительство». Слепням позволяли облеплять тело. От меня отмахивались, словно я кусался:
– Настырный парнишка. Распустили…
А настырный вечером решил постараться привести в порядок натюрморт: прибрал кирпичное крошево, вытащил щепу, тщательно вымел около.
Ну и попало!..
Не всякое старание вознаграждается. И, представьте себе, основа основ – порядок, к которому методично приучали, в искусстве оказывался совершенно излишним. Мать честная! Была все-таки этакая благословенная область, радостное царство хаоса, где дозволялось разбрасывать и не требовалось прибирать! Возможности живописи превзошли все ожидания!..
Люся смеялась. Ноги сами несли в сугробы. Упорно сворачивали с дорожек, проваливались. Набирали через край мерзлой крошки. Пальцы выводили загогулины по белому. Отжимали на набережной снежки. Бросали в замерзшую реку.
В булочных, благо они на каждом шагу, вытряхивали туфли и рукавицы.
– А знаете?.. Сессия кончилась… и я сегодня к своим… так соскучилась! Истосковалась вся как есть! Радуйтесь вместе со мною!
– Сегодня? Сейчас? За тысячу верст от Москвы?! – Лицо принца моментально осунулось.
– Я ненадолго. Две недели пролетят моментально… Вот и трамвай. Не провожайте, пожалуйста… Это, чтоб не грустили…
В карман опешившего художника сунули леденец-карамельку.
– Оставалось тосковать. Вы не забыли про «зов»? Не зов – наказанье земное. Завелся без умолку. Послушайте, как разошелся…
– Улицы, улицы, вереницы улиц. Пушистые хлопья липнут ко лбу. Усаживаются на одежду. Застилают глаза. Целуют. Влажные кружки дрожат на коже. Толпа плывет. Здания исчезают. А белое льнет и льнет. Оставляя холодок.
Знаю, что не встречу черную шапочку над родным взглядом и все-таки ищу всюду. Хлопья мешают смотреть. Хочется жмуриться. Но гляжу и ошибаюсь. Нахожу и теряю. Кружат снежинки. Таят надежды. Уехала.
Вдоль улиц и парков, в трамваях,
Прощая глазами, если лгут,
Ищу и ищу окликая,
И все ж отыскать не могу.
Везде неразрывные узы
Приказываю, зовут.
Завязан безжалостно узел.
Надежды сжимается жгут.
Заставить заветное сбыться
Из зоны возможного, за…
За заросли взглядов, сквозь лица
К единственно близким глазам.
Словом, снег сыпал. Зов изнывал в разлуке…
Пальцы принца пошарили машинально в пиджаке. Нащупали липкую карамельку. Сунули за щеку. И от приторной сладости во рту горе стало еще нестерпимей.
Из ладони в ладонь
– Жизнь такова – какой мы ее видим. И становится тем интереснее и яснее, чем лучше умеют смотреть. Одним она радостна, другим – грустна. Суть – в настроении. Стоит взглянуть ласково – и она улыбнется. Нахмуришься – и она сдвинет брови. Сказочная избушка на курьих ножках всегда поворачивается лицом к тем, кто хочет видеть лицо.
Послушные мысли укладываются в слова. Чувства немы. Они прячутся между строк. Аукаются в созвучиях. Трудно услышать их. Еще труднее быть услышанным. Только рядом красноречиво молчание. Как же докричаться вдаль?!.
– Так изливались в неотосланных посланиях к Золушке. Хвала Создателю, не слишком долго. Мелькнули каникулы. Люся вернулась.
Москва обнимала извилистыми переулками. Стелила под туфли снежную радужность. Согревала в гостеприимных магазинах.
Умом понимают, что не должно быть чудес, но сердцу хочется в них верить. И оно верит.
Жизнь наполнялась звуками, красками, ароматами, не имеющими ничего общего с затрапезностью прозы. Поэзия возникала во всем. Руки открывали радость в предметах, до которых дотрагивались. Помогая раздеться. Относя одежду. Черная шапочка, пестрые рукавички, неуклюжее пальто, становились близкими, платили взаимностью при всяком удобном случае.
За границами Царства время брело по-прежнему: бесконечные ночи, потолок надо лбом. Серый-серый, как застиранная реальность. Обыденный, наперед заданный без жизни.
Чай. Сборы. Дорога. Серые столбики серого шоссе. Серые фигурки спешащих на работу. Сквер. Газетный киоск. Аптека. Школа. Грязный чердак. Замусоренная мастерская. Стол, застеленный старыми газетами. И вот, в углу… словно по волшебству смявший газетную казенность, новоявленный холмик от платка, забытого Золушкой.
Принц, прикоснувшись, замирал от радости. Набрасывал на глаза, и действительность голубела. А слух жадно ловил волнующее стаккато крошечных каблучков по клавишам чердачного настила. Золушка показывалась, и музыка заполняла всю мастерскую. Всякую секунду встреченную вместе.
Делить пополам принесенное съестное стало естественным. Делиться новостями – потребностью.
– Вот, послушайте, в «Комсомолке» напечатали…
Гостья разгладила на коленях газетную вырезку и преобразилась неузнаваемо. Выпуклый светлый лоб заволокло облако волнения. Грусть тронула брови. Слева, над глазом, наискось к виску, вестником близкой грозы, врезалась узкая борозда складки. Затем замерло, затихло, даже дыхание. Секунды остановились. И тяжело, через силу, хлынул слова.
Художник слушал завороженный. А слова падали. Падали. Весомые, как истина.
Голос Золушки стал глухим. И вдалбливал, вдалбливал боль. В душу, до дна.
Принц перестал быть принцем. Он мучился вместе с комсомольцем в глухом захолустье: любимая покинула, любимая улетела в столицу. Оставалось жить, ждать и звать. Звать и любить до последнего вздоха. До гибели…
Листочки замолчали. Они не кричали больше. Не жаловались… Слушавший пришел в себя:
– Вы так читаете, словно вталкиваете в боль. В боль далекого чужого человека…
Царевна сильно-сильно стиснула кисть принца. Признательность стучала толчками. Бежала по жилам. От пальца к пальцу. Из ладони в ладонь.
А за стеклом переливались всеми соцветьями талые льдинки. Голубели. Змеились зеленым. Слепили белым.
Счастливца осенила. Руки проворно распахнули окно. Протянулись за сувенирами. Хрусталь дробился при всяком неловком прикосновении. Сверкал, переливался, силясь выскользнуть. Озарял мастерскую радужностью дрожащих искорок. Аромат марта врывался ветерком в открытые рамы.
Озорством и радостью загорелся взгляд Золушки. Гроза пронеслась. Гроза позабылась. Зеленая льдинка в зеленых пальцах разбрызгивала алмазы. И алмазы засияли в глазах. Росою рассыпались по бирюзе. Проказник-язычок умолк, вылизывая алмазную лунку.
Льдинку, с влажной проталиной посредине, возвратили дарившему.
Поцелуй в ладонях! Зеленое лобзание! Вы когда-нибудь обладали подобным?!
Поцелуй, полный спрятанной страсти. Поцелуй целомудренный, не способный оскорбить святыню!
Только истинная царевна, оставаясь недосягаемо чистой, может так награждать!
Принц пил и пил ласку. Из пылающих рук сыпался искристый бисер. Кожу жег ледяной холодок. И сквозь тающую преграду рука стремилась к родной руке.
Наконец пылающие пальцы соединились. Цвели льдинки, лица, сердца. Звенел весенний воздух, в вечном журчании, в птичьей перекличке. Взаимность праздновала. Взаимность завладела сезамом.
Из ладони в ладонь. Из ладони в ладонь. Бился пульс всесильной любви!
Так, во всяком случае, чудилось счастливцам на чердаке.
Мизантроп
После объяснения у мостков сеансы, естественно, возобновились. Само собой всё оставалось по-старому. Признание в прекрасных устах ничего срочного не означает и, уж конечно, ни к чему не обязывает. От нежных слов до желаемого продолжения мужчине еще нужно дожить.
Гостья, сияя глазами, взбиралась по лестнице в царство искусства. Где ласкали краски и пленяли слова. Где гипсы становились просто истуканами, а люди – богами. Где проза забывалась за ненадобностью, а поэзия безнаказанно резвились. Затем внизу, у раздевалки, злыми завистливыми глазками Золушку пронзал завхоз.
– Вредный старикашка! Так смотрит, словно я совершаю преступление против нравственности, переступая порог.
– Так это такой тигр. Патентованный привратник. Всё светлое и радостное он считает неуместными и наказуемыми в каземате знаний. Сумрак прямых коридоров с расчлененными диаграммами, строгими портретами, тоскливая одинаковость программ и распорядка охраняются с должной и, пожалуй, ненужной прилежностью.
– Нет, нет, это он так на меня… на нас с вами!..
– Всякий судит об остальном в меру собственной испорченности и ущербности. Не обращайте внимания. Ревностный поборник добродетели теперь без регалий. Бережёт для праздников и приезжих иностранцев. А раньше… каждый день в галунах у дверей швейцарил.
– Вы шутите. Швейцары в ресторанах.
– Шучу? А вы наберитесь воображения, представьте меня, ярого провинциала, перебравшегося с родителями в Москву. Нас поселили в светлый сарай. Везде, где теперь модернистые корпуса, врастали в грязь бараки. Попросту, по захолустному, самые истинные сараи. Но я числился с этого часа столичным и поневоле пополнял свой словарь. Мусору и отбросам угораздило загородить горизонт. Расширять кругозор в связи с этим оказалось значительно труднее. Но за этим дело не стало. За помойкой простирался пустырь. За пустырем стояли сосны. А за соснами… серый Наутилус. Самого современного конструктивизма, десятилетка. И в дверях ресторанный швейцар. В сиятельных галунах. Только и делал, что ел глазами. Меня придирчиво изучали колючие зрачки, точно я не новичок, а исчадие чистилища. Показывая образованность, надо бы сказать: «завзятый мизантроп», а без напускной изысканности – просто «заядлый злыдень». Но я как раз и заявился в столицу затем, чтобы запасаться образованностью.
Классы были просторно-светлые, способные вместить всю премудрость. От затасканной до самой последней. Вот вытянутая словно сухая макаронина математичка вносит в класс задранный до предела вверх набор из двадцати четырех ребер:
– Ну-с, девушки нашей страны, если не хотите страдать туберкулёзом, держите руки заведенными за спину, выпрямитесь, приподнимите грудь…
А вот истерик Круглов вкатывается к нам наполненной футбольной покрышкой. Отдуваясь, открывает кондуит. Отыскивает истого футболиста и просит рассказывать заданное.
Учебники, слава богу, печатаются достаточно четким шрифтом, а парты поставлены так, что подняться с места и рассмотреть текст, раскрытый соседом спереди, не составляет труда. С надежностью дружбы можно прожить без соображения.
– А «Динаме»-то сегодня припухло… – Начиналось обычное о вчерашнем матче.
Минут десять интересовались не историей, а вестями со стадиона. Потом четко, строчка в строчку, отвечалось только что прочитанное.
– Молодец! Садись!
Иногда, впрочем, после повалы следовало:
– А в каком году был такой-то съезд?
Но мы – ребята – давно нашли формулу, по которой следовали моментальные и лаконичные ответы.
Зато девчонкам, не знавшим указанной зависимости, оставалось вызубривать и заикаться.
А история, как спорт, требовала решительности и быстроты действий.
– Что такое мизантроп? – Вкрадчиво начинает, тычет в учебник ученица.
– Человек, делающий все в мизерных долях, – не задумываясь, разъясняет наставник.
– Но позвольте…
– Никаких но. Запишите задания на завтра…
– И это в московской десятилетке? И никто не занялся этим всерьёз.
– Не просто московской, а на весь район образцовой! А заниматься занимались. Не без этого…
Комиссия царственно уселась на свои места. Улыбаясь, вкатился Круглов. Поднял по обыкновению футболиста.
– Что вы, я не учил. Вчера исключительный матч…
Чемпионы, кроме исключительного матча, не перечисляли причин, отчего не выучено. Чинно вставали, отчеканивали «почему» и покачивались улыбчиво. Сиял и учитель, намечая очередного:
– И вы из-за матча не выучили? – Это уже по мою душу.
Я числился конечным в перечне парней и, заложив ладонями уши, спешил нашпиговаться книжной кашей.
– Матч матчем… оно отвечать… от чего же? И я начинал…
– Отлично, отлично… а теперь, пусть продолжит…
Меня прервали вовремя. Перед непрочитанным материалом.
– Вам повезло. А историку вряд ли поздоровилось?
– Именно здоровья и невозмутимости у него оказалось в избытке. Ну, покатали из десятилетки в десятилетку. Пока не догадались… сделать директором.
На одном из очередных «вечеров встречи», уже по окончании Отечественной, он показался мне идеально круглым и до чертиков накачанным. Так что… да здравствует здоровый оптимизм, и да изведутся на земле мизантропы!
– Мизантроп… мизантроп… мизантроп, – брезгливо взвизгивали из преисподней доски настила.
Дверь заскрежетала раздраженно, и на пороге вырос осклабившийся швейцар:
– Трудитесь… кхе, кхе… работаете… А мне рамочку подобрать. Помешал? Скажи, пожалуйста, важнее… времяпровождение…
Ящики бессмысленно скрипели. Выдернутые рамки харкали трухой. Бюсты выстукивали пустыми основаниями неуместные намёки.
– Мизантроп… – провожало швейцара чердачное ворчание.
Но дворец был забрызган грязью. Принц старательно скреб палитру.
– Тут душно, – нашлась Золушка. – Давайте подышим…
Краски тотчас же оставили засыхать. И школа с пошлым старикашкой-швейцаром шаг за шагом отошла.
Вдохновенная каторга
– Вы рисуете карикатурно преподавателей, чтобы развенчать профессию, которую я избрала? Значит, замечательных учителей не встречали?
– Встречал. Отчего же… Нашу столичную химичку невозможно забыть. Глаза! Пронзающие, созданные для гипноза. Заставят застыть и вызнают до изнанки. Светящиеся, немигающие…
– Вызовет? Не вызовет… Вызовет? Не вызовет… – изнывает пульс…
Черная, от стены до стены, доска. Черные глянцевые стены. Взамен чернокнижного Средневековья реторты, реактивы, формулы…
Приснится знакомое до озноба. И знаешь, что вызовут. И обязательно забыл вызубренное. Забывается за ненадобностью бездна узнанного. Ненужного в жизни.
Но вот… не во сне. Тишину нарушает шепот:
– Вы помните, что отвечали на экзаменах при окончании школы?
Это первый вопрос при встрече. Я заявился навестить учительницу этаким выжившим в сражениях сержантом. Она спрашивала полулежа, ушедшая в подушки, тяжело дыша.
– Помните? Нет? А я помню! Присаживайтесь… Этом меня машина сшибла в прошлый четверг. Сбившие не остановились. Унеслись от ответственности. Ничего… выжила. Вот отлеживаюсь…
Я уселся у изголовья. Стал вспоминать:
– Первый урок органики в московской десятилетке.
Раскрасневшийся, возбужденный, перед очередным матчем шлепаюсь на месте. Необходимо обсудить причины неудачи. Но… меня одергивают сразу с трех сторон. Трепачи на других уроках держаться на этот раз странно. Что за притча?
– Замолчи. Сейчас почувствуешь, – шепчут чуть слышно.
Появляетесь Вы. Не спешите начинать до абсолютной тишины. Притихшие дебоширы слушают органику, как концерт в филармонии. Спокойный голос во все вносит ясность. Разрозненные знания нанизываются на нужный стержень. Стоит шевельнуться, нарушить тишину слушанья, и тише, почти шепотом, начинает звучать речь. Внимание мгновенно мобилизуется, без постукивания по столу, сами собой.
– У Вас это так естественно получалось! Вера Александровна!
– Естественно, но не просто. Требуется адская выдержка, огромное напряжение, Боречка!
Вера Александровна говорила ровно. Неторопливо поправляла простыню так, словно не было боли, переломов, вынужденной неподвижности.
Я продолжал:
– Помните, Вы не вызывали меня к доске целых два месяца! А мне так не терпелось себя зарекомендовать. Господи, сколько стараний попусту. Я учил, учил одну органическую за счет всего остального. Изнывал от знаний, а меня не вызывали. Химия превратилась в любимую поневоле. Благо материал не нуждался в багаже изучавшего ранее о кислотах, щелочах и прочей чертовщине. Я стал поклонником Кекуле, Бутлерова, Менделеева. Читал, учил. Отчаиваясь чем-нибудь отличиться. Словом, напоминал кролика, удивлённого тем, что его слишком долго не желают глотать.
Затем… Затем мены вызывали раз за разом. Показав изрядные знания, я вздумал не заглядывать в заданное на завтра. Завтра подползло. Прозвенел звонок. По счастью, сосед справа попросил объяснить в нескольких словах самую суть темы. Пришлось наспех пересматривать с ним учебник. Вызвали не соседа, а снова меня. И снова я несся по доске с объяснениями, отчеканивая только что прочитанное. Вы, Вера Александровна, меня прервали и попросили начертить формулу. Вас, как хирурга, интересовало скрытое. Провалы и пробелы. Вы мастерски их обнаруживали.
Именно формулу я проглядел. Скользнул глазами, не замечая, не сознавая значения. Но прежде чем «не знаю» соскользнуло с языка, в мозгу воскресла страница со всеми замысловатыми знаками. Я воспроизвел на доске эти, возникшие в сознании, знаки, и до меня, как во сне, донеслось спасительное:
– Садитесь.
У Вас нельзя было позволить себе даже мизерного незнания. В зимние каникулы Вы составляли расписаний занятий и вызывали нас к себе в химический кабинет человека по четыре. Реторты и формулы. Формулы и реторты. И вопросы градом, шрапнелью по всему материалу. Раскрываешь рот, и раз: «Хорошо, правильно!» И… очередной вопрос. А потом, потному от напряжения: «Идите отдыхайте, Вы не успеете позабыть этого до экзаменов». И действительно, на выпускных… Как сейчас помню обстановку торжественности. Гости, профессора из Тимирязевки поздравляют вас. Уверяют, что даже на втором курсе академии студенты могли бы позавидовать знаниям, показанным тут, в этих стенах. Профессора предлагают троек не ставить. Но одну вы всё-таки ставите, несмотря на протесты.
– Так ведь это ж Бомзе. Ей же не знания нужны были, а замужество.
Вера Александровна стала вспоминать класс во всех подробностях.
Слабости, интересы, запросы своих выпускников, известные ей наизусть.
– Вы помните?..
Но я помнил только, что вопросов было пять. Что лучший, чтобы отличиться, я оставил «на закуску». Отчеканил четыре, и бородатые профессора наклонили головы:
– Довольно, садитесь!
«Садитесь!» А я собирался блеснуть! Не останавливаясь, шествую не спеша на место, я рассказывал, рассказывал, рассказывал…
Вера Александровна улыбалась. Поболтали ещё. О товарищах. О грядущем. Прощаясь, я обещал навещать.
– Вот видите, – отозвалась Золушка. – Стать настоящей учительницей так заманчиво.
– Заманчиво? Чепуха. Вон моя мать до трёх ночи проверяет тетради. Это страшнее монастыря, если по призванию. Для старых дев и уродов это не профессия, а спасение. Красавице – терновый венец. «Вдохновенная каторга!» – как выразилась одна заслуженная и уважаемая служительница «поголовного наробраза». Прямо на педсовете при всех каторгой окрестила. Во! У самой на груди орден!
– Вдохновенная каторга! Это здорово! Это не в брось, а в самую сердцевину. Вы всегда такое скажете.
– Совсем это не я. Я сам…
– Но оставим влюбленных наедине. Хоть на несколько секунд без присмотра. Ведь не только сами они, но и смотрящие со стороны долго не догадываются, что вдохновеннейшая из всех неволь – влюбленность. Не догадывается… А надо бы!
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































