Текст книги "Художник и время"
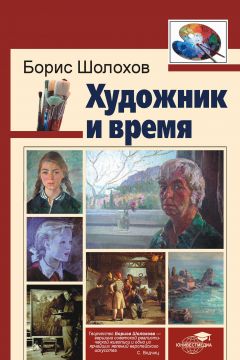
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Память
От точки на горизонте,
До мерцающих звезд над нами, —
Видите ль,
слышите ль,
тронете ль.
Всё остается в памяти.
Как это там помещается?
Сколько нужно места?
Что она – наше счастье?
Или, скорее, бедствие?
Живописец, ожидая Золушку, выхаживал у школы. Досужие до наваждения «неужели?» кружили тут же. И каждое переживалось. Женщине положено задерживаться. Иначе не выскажешь расположения. Возможностью ожидать награждаются надёжные и не чужие.
Тридцать трамваев продемонстрировали безрадостные номера. Тридцать первый широко распахнул двери.
– Извините…
Лицо царевны цвело удовольствием. И бесполезное прозябание сразу забылось.
– Память – это непостижимо, – ожил художник.
Мир должен жить во времени,
Сменяя закаты мраком.
Ей довольно мгновения,
Чтоб целую жизнь оплакивать.
Жизнь, какой дважды не вынести,
Сто раз бывает прожита!
Хватит все небо вымостить
Лун, что в нее уложены!
Но бесчисленные луны провалились. Сознание заполнили глаза. Удивленные, внимательные, милые-милые…
Ревнивее всякой женщины
Карает за все измены.
Огромное – делает меньше,
Малость – такой бесценной!
Радость росла. Расходилась радужными кружевами. От центра, в котором дрожала крохотная подрисованная родинка. Черная крапинка, слева над светлой улыбкой.
Топим в угаре винном,
Рады забыться снами…
Где-то, в своих глубинах,
Прячет порою память:
Эхо эпох звериных,
Отсветы глаз любимых…
Скольких она столетий
Была и будет свидетелем?
В самом деле, скольких? Стало быть, события способны двигаться вспять. Пусть в сознании, но все-таки способны? Они не стираются. Они отступают. Отступают и остаются. Совершившееся – неистребимо. Что из того, что не достать. Память-то дотягивается…
Неслышно подошла школа. Забрала в коридоры. Заставила застыть у стенда выпускников десятых классов.
– Где ж ваши однокашники, покажите?
– Выше, выше… небольшой выпуск, всего два класса. Вон! Покрупнее, вверху, преподаватели: шарообразный истерик, точеная математичка… в центре директор… возвышается лишенной пушистых излишеств макушкой. Заклинательницу кислот не показываю, узнаете без запинки, по глазам. Слева лицо фасолиной – милейшая, добрейшая «Дойчшпрахе»…
Фасолина склоняется над журналом, выкликает фамилию, и я – вон тот, стриженый ежиком, в кружке, отличник – волочусь к учительнице. Волочусь, потому что ничего не выучил, волочусь, рассчитывая получить построчный перевод из чьих-то щедрых рук. Прически, запечатленные на карточке, печально покачиваются. Бреду приговоренным. У первой парты последний косой взгляд, молящий о помощи. Курносая, задорная, вон та… из центра фотографии, протягивает шпаргалку. Комкаю. Раскрываю учебник и по складам. Заикаясь, читаю. Неразборчивый почерк на полученном клочке калечит до чертиков перевод. Но немка… светится всей своей фасолиной:
– Вот видите, мне ясно, – мне стоило стольких усилий, а ей яснее ясного, – статью Вы не успели просмотреть заранее. Но какие успехи! Незнакомый текст понят правильно!
Фасолина умилялась. А я?.. Совсем не со злого умысла. Просто страдал отсутствием способностей к иностранному. И баста. А столько предстояло успеть!
У дядюшки-художника я оставался каждое воскресенье и рисовал, рисовал. Гипсовые носы, маски. Переписывал пособие по перспективе. Переносил с картона на полотно контуры орлов. Для дядюшкиной композиции. Замысел этот возник в зоопарке. Выполнялся заказ на панно с павлинами, а попутно… рисовались стервятниками. Голошеие, страшные.
Только что смолк гул Халхин-гола. Отдымила Аддис-Абеба. Стихла Гвадалахара. А радио непрерывно каркало:
– Гамарник, Убаревич, Якир, Корк… приговариваются…
По Садовому, приплясывая, с песнями, двигались демонстранты.
– Хорошо-хорошо, замечательно! – голосили по-деревенски с улицы.
А я рисовал носы. А на подрамнике, рядом, три орла, в зареве пожарищ, предвещали недоброе. И становилось не по себе от визгливого:
– Замечательно-о-о… и-и-и-и…
– Кар. Кар. Кар, – каркало радио тревожно и надрывно.
Вечером приходилось отправляться к репетитору. Дядюшкиному давнишнему приятелю. Лингвисту и дилетанту буквально во всех областях искусства.
Переулки Арбата. Грязные беспросветный коридор. Дверь. За которой «та-та-та ти-то…» Значит, застал, раз там «та-та-та». Стучу.
– Входите! Открыто.
Пользуясь разрешением, просовываюсь в каморку. В комнате: неприбранная кровать и заваленный всякой всячиной стол. Посреди хозяин с камертоном в руках.
– Та-та-та ти-те… Садитесь, пожалуйста, вот сюда. – Указывается на единственный, весьма опасный для непоседы, стул.
Опускаюсь, с предосторожностями вытаскиваю заданное на завтра. Хозяин устраивается на незастеленой постели. Протирает пенсне:
– Так-с. Посмотрим текст…
И вдруг, спохватившись, несется к примусу. Присев, высовывая язык, прочищает чадящий засоренный бензинник.
Я праздно глазею по сторонам: свободное поле стола исписано и изрисовано до предела. Остальное заполнили толстые словари, продукты, фигурки Афродит, выструганные из прогорклых сырков. На стенах пастельные наброски с соседской девчонки-подростки: «Кланечка читает», «Кланечка капризничает», «Кланечка скучает» и так до бесконечности.
– Правда, очаровательно? – Мой репетитор возвращается от примуса. – Тринадцать – возраст Афродиты. Расцвет красоты.
Я словно слон соглашаюсь наклонами головы. Верчу и начинаю читать учебник. Времени для перевода в обрез.
– «Фло», – выдавливаю, еле слышно, название.
– Nichtgut. Schlechter.
– Гедихьт фом Гёте…
– Sehrgut. Гёте. Сын пятидесятилетней матери. Вам известно сие? Запрещение ранних браков просто несуразно…
Сверкают неопровержимые аргументы и остроты. Я терпеливо рассматриваю вытертые, расстегнутые брючишки, зажившийся пиджачок, пожелтевшие манжеты и слушаю всяческую всячину, в учебнике не значащуюся.
Пословицы по-латыни. Высказывания на семи языках. Опусы символистов. Каскады сарказмов. Сотни забытых дат… «Как это там помещается? Сколько же нужно места?» Впрочем, вопросы праздные. Эрудиция превратила череп репетитора в огромную грушу, корешком к пиджаку.
Грушу, перезревшую, размякшую. Обшитую ветошью, расползшуюся по шву, от щеки до щеки. Украшенную шарообразным носом посередине и невесомой пляской волос у висков. Грушу, с шумом опустошающуюся, но лишенную утешительного опустошения.
– Да вурде зайне гешвистер… – бормочу я.
– Geschwister? Братья и сестры. Проще, вообще родня. Bei Hofe war hoch grosse können. При дворе стала высокой знатью. Пошла в гору, как говорится. Точно, как сейчас Кагановичи…
Мне начинает чудиться уличное: «Замечательно-о-о…» и я перестаю понимать, где кончается урок и начинается умопомрачение. А ведь кроме стихов полагается перевести статью.
– Irrenhaus – это что по-вашему? – взывали к моей сообразительности.
И я, не задумываясь, изрекал:
– Конечно, наш дом…
– Какая прелесть! Не в бровь, а в глаз. Безусловно наш! Вообще… всех умалишенных. Совершенно, совершенно верно.
«Ш-ш-ш», – шипел ошпаренный примус. Я откланивался и, весь как есть засыпанный парадоксами, спешил к дядюшке. Встречала Ночь и орлы на мольберте. А утром каркало радио: «Приговариваются».
И трамвай, переулками, тащил в школу. Хочешь – не хочешь, учись.
– Эхо эпох звериных… Хорошо, очень хорошо! – шептала Золушка.
А принц продолжал:
– В перемены резались до одурения на волейбольной площадке. Вон та курносая задорная комсомолка так умела получить и послать пас, словно исполняла балетное соло.
Я любовался. Я пасовал только в ту сторону, где извивалась волейболистка. Слушал ее задушевно-восторженное:
– А ну-ка песню нам пропой, весёлый ветер…
И Дунаевский становился прекрасным, и действительность светлела. Орлы, суровость, хандра – пропадали, растворялись в радости…
– Отсветы глаз любимых… – Золушка оглядела волшебника с ног до головы. – Вы стали лучше, и даже моложе, чем тот стриженый, в кружочке… У вас теперь рыжая грива. И вообще…
Пальцы коснулись на секунду волос, скользнули по лицу, и прошлое ушло, перестало тревожить. Счастливцы поднимались по лестнице словно на крыльях.
Повивальная бабка
Люся принесла из института вопросы, заданные Марксу в молодости. Всё интересное доставлялось сейчас же под самые небеса – живописцу. И с жаром обсуждалось.
– Любимый герой. – Спартак.
– Важнейшее в мужчине? – Сила.
– Маркс представлял себе силу во всех ипостасях. Не единственную – мускульную, – спешила расшифровать Золушка.
– Почему же? – возражал художник. – Мужество не нуждается в снисхождении. Оно прекрасно само по себе! Все остальные добродетели есть и у слабого пола. Только сила там не уместна. И Маркс последовательно отстаивает красоту слабости, ее естественность, нужность для женщины. Кого ж защищать, кого ж жалеть, кому служить, если влюбился в скалу? Интеллект, эрудиция потребны в определенном кругу, в известных условиях. Бицепсы ценны во всех ситуациях. Независимо от цивилизации. Недаром народ боготворит богатырскую удаль!
– Мой супруг силен. Очень силен для своего роста. Осенью, в грязь, он носил меня на руках, представляете?
Воображение обожгло художника. Он представил соперника с бесценной ношей. Силен? А как же жалкое ожидание – там, у железнодорожного полотна? И глаза, в которые врезались рельсы? Слабость, страдание, мольбу изливал взгляд. И бессилие остановить надвигающееся. Значит…
Но он не признался самому себе, что сила совсем не в бицепсах. Он занес руку, собираясь ударить, и она повисла не встретив сопротивления, не обнаружив враждебности соперника. За освобождение Золушки не суждено было сражаться. Требовалось просто перегрызть добровольно и безропотно повернутое к зубам горло. Хищники и те в таких случаях пасуют. Пасовал и живописец. Топтался на месте и пасовал. Сила немыслима без сопротивления. Подлинная сила всегда спесива и по сему пассивна. То ли дело – насилие! Свою слабость оно с избытком компенсирует агрессивностью, не стесняясь в средствах. Восславим насилие, курносые! Прогресс и преуспевание основаны на насилии.
Но живописцу мешала врожденная мелкобуржуазность.
– Повивальная бабка – как бы не так. Повивальная – должна облегчать, а не калечить! – горячился он. – Насилию по плечу только мертворожденное. Недоноски, выкидыши!
– Но согласитесь, в направлении исторического развития насилие прогрессивно, – спасала Маркса Люся.
– А вы пробовали тянуть картофель за ботву в направлении роста?
– Сравнение убийственное, но истина…
– Истина многостороння, и, отыскав нос, нельзя усомниться в существовании затылка. Остановить поиски скрытого. Я рос и отыскивал. Рос в среде… рос среди… попробуй разберись! – растерялся принц. – Вернее, рядом с тремя братьями, приходившимися мне дядьями и отцом.
Младший – коммунист – отстаивал справедливость. Действовал на стороне исторического прогресса и, естественно, вместо преуспевания оставался неисправимым бессребреником. Рыцарем без страха и упрека. Веселым, красивым, сильным.
Высокий, сутулый дядюшка-художник не признавал компромиссов. Страдая изрядной прямолинейностью, он высился перстом, указующим в единственную на свете истину – искусство. Призывал к тому, что признавал. И признавал только то, к чему призывал. Ратовал за искоренение ересей. Требовал «генерального направления» в творчестве. Нужный же курс устанавливался им самим, по настроению. Прежде рисовалось «Строительство», имевшее шумный успех. Потом «Похороны героя». Теперь – «Стервятники». Мрачность рождалась не сразу. «Строительство» пользовалось известностью. Его даже собирались приобрести… за известную мзду. Взяточнику отказали. Произведение изрезали на куски и без сожаления записали.
«Похороны» прошли три тура, но не дождались вернисажа. Из-за чрезмерной суровости. Та же участь постигла «Стервятников». Писать «пасхально» дядюшка не спешил. Слишком грозно сверкал заревом горизонт.
– Петр чересчур мрачен! – сокрушался добродушно старший среди троих – отец.
Сам он светился несравненным спокойствием истинного оптимиста. Старался все острые места в спорах округлить. Выискивал объяснение всех событиям и находил оправдание таким поступкам, которые прочих приводили в минорное настроение.
– Все во благовременье… – любил повторять он.
Но время вершило и крушило окружавшую жизнь без должного благодушия.
– Гамарник, Убаревич, Корк… – каркало радио.
– Хорошо-хорошо, замечательно – вторили хором демонстранты.
– Время требует… – утверждал младший из дядюшек.
– Может быть, этого в самом деле невозможно избежать, – сожалел отец.
Дядюшка-художник упрямо пророчески рисовал зарево и орлов. А я отправлялся к репетитору переводить «иностранный». И репетитор, на корточках прочищая примус, цитировал:
– «Когда враг не сдается – его уничтожают…» Чье изречение, а?
Я вертел в руках неоконченный как обычно перевод, и всей физиономией изобразил: «Не знаю».
– Горького, дружок, Горького, – неслось от примуса.
Затем наставник вскакивал и приплясывал, направлялся в мою сторону:
– «Били, бьем и будем бить». – Кулачки учителя стучали по учебнику: – Nicht gut… lesen sehr bitteweiter…
А в окна мастерской смотрелась весна и делала Золушку нестерпимо обольстительной. Нет ничего почетнее и несчастнее, чем удел человека, Человека, поднявшегося над животным, ценою отказа от беззаботности и безнаказанности божества. Личность – это величественно и до чертиков непрактично. Палачей и прочую нечисть вечно чеканят в достаточном количестве. Подлость беспредельно эталонна. Там, где начинается человек, типичность оканчивается.
Золушка и волшебник изо всех сил отстаивали людское достоинство. А Любовь переполняла Голубую обитель, колыхала на волнах желания, тащила неудержимо к блаженству и обновлению.
И для обновления имелось всё. Всё, за исключением Повивальной бабки. Без жестокости, к сожалению, даже блаженство недостижимо.
Будет так!
Весна, поэзия, необычность обстановки связывали рассказчика с Золушкой все теснее и теснее. Художник почти ежедневно выхаживал у школы, ожидая появления любимой. Она приходила озаренная радостью. Раздаривая радость. И лестница поднималась над улицей, людьми и сутолокой дел в беззаботно-заветную голубизну. С беспечностью птичьей переклички и мелодичным урчанием чуть покачивающегося топчана.
Болтая туфельками, Золушка весело надувалась:
– Право же я ужасно похожа на лягушку.
– Скорее, на царевну, сбросившую лягушачью кожу. Царевну, возникновение которой предсказали, растрезвонили сказки.
Вот посылают свои стрелы умные братья. Куда летят они? Следом за трезвыми, заведомо осуществимыми желаниями. Боярский и купеческие дворы – это как раз то, что им по плечу, то, о чем они так настойчиво пекутся. Там сосредоточены доступные их пониманию блага жизни. О других, каких они не знают, они и не помышляют.
Ну а дурачок? Дурачок мечтает о таком счастье, какое и во сне не снится! Таком… которого нет поблизости. Но которое обязательно просто запропастилось, и должно обнаружиться. Хоть за тридевять земель, а должно! Ибо для чего же жизнь, если нет нигде такого вот… несбыточного?.. Ну помечтать, положим, может даже и прожженный рационалист, со скуки, так сказать. А вот верить, что есть, искать и не отступаться… нет, для этого нужно быть непременно того – «тронутым». Ну помечтать, положим, может даже и прожженный рационалист, со скуки, так сказать. А вот верить, что есть, искать и не отступаться… нет, для этого нужно быть непременно – «тронутым». Потому-то и летит третья стрела, минуя расписные терема и золоченые чертоги, прямо в болото.
– Туда ей и дорога!
Каждый беззаботный мечтатель рано или поздно приземляется или плюхается в уготованную лужу. Ведь, как ни много на Руси этих самых фантазеров, болот куда больше.
Если Иванушка лишь несколько «не в себе», то действительность запросто его образумит. И он начнет понимать, что почем, вместе никчемных мечтаний. Ну а если… вязкая грязь не оказывает отрезвления, отсутствию всякого рассудка остается просто позавидовать.
– Что ж, мол, пусть в болото попал и умом не наделен, и отражение просто уродливо, пусть. Все равно найдется царевна, причем самая-разсамая раскрасавица и умница, которая вот такого полюбит!
Именно за эту несметную глупость, за безграничную веру в чудо! Вот тут-то:
– Ква… Ква… – И появляется Она.
– Вам не нравится голос?..
Но дурачку он звучит неземной музыкой. И пробовать спорить, пытаться доказывать – бесполезно. На красоту вкусы издавна расходятся. Каждому одержимому кажется, что он осчастливлен и уже невозможно рассуждать. Да и нужно ли?
Сказочная, зеленая, лягушачья кожа, как часто прячет она от праздного взора лучшую из всех красавиц – человеческую душу! Найти, разглядеть, разрушить злые чары единым волшебным словом: «Люблю». Не значит ли это – стать царевичем, стать обладателем царевны?!
Искони русский Иванушка-дурачок идет «куда глаза глядят» по необъятному миру в поисках счастья, а патентованные умники сидят и копят добро, жиреют, стареют, посмеиваясь над чужой глупостью и не замечая своей. Да полно, глупость ли это – верить, что там где-то томится принцесса? Глупость ли, шагать, искать, побеждать опасности?
Где-то там, за тридевять земель,
За горами, в царстве тридесятом,
Счастье снилось разве не тебе ль,
И не я ль в удачу верил свято?
Много тысяч лет тому назад
Дурачок вот так же верил в это.
Шел и шел, куда глядят глаза,
За своей царевной. На край света…
Что ж, нашел?
– Нет, ищет до сих пор…
И не хочет делаться умнее.
За морями,
за стеною гор
Он ее отнимет у Кащея!
Будет так!
И если бы пришлось
Ждать того еще тысячелетья,
Он глазами, светлыми от слез,
Впереди далекий свет заметит!
– Будет так!.. Будет так!.. – клокотало в жилах волшебника.
– Будет так! – глухо отозвалась Золушка. И тут же, предупреждая безудержную нежность, отшутилась: – Тысячелетья! Обещать проще…
– Докажите же, что вы можете ждать… Это самое нужное и самое важное в нашем положении…
Просто помешан
Любят за муки… но совсем не в том смысле, как представлялось бесспорному классику. Любят… из-за мук, вызванных безмерной фантазией. От соседства с красотой, от кокетства, ревности, изнывая в разлуке. Словом, от всего арсенала варварских средств истязания, известных с незапамятных времен.
Изломанные образы Достоевского, колючие линии Боттичелли вонзаются болезненно и навсегда.
Ожидая сеанса, живописец по-прежнему сторожит на остановке. Люся не появляется. Остается единственное – звонить.
В телефоне слышится глухое:
– Вы меня сейчас не захотите писать…
Принц не расспрашивает. Он срывается с места в поисках транспорта. Колеса крутятся недостаточно быстро. Сердце рвется в груди. Стремится опередить. Так и есть! Оказывается… Золушка нездорова. Нездорова из-за… но пусть все-все объяснят стихи:
Я надеждой себя не тешу,
Что за вздор о любви говорить!
Просто, кажется, я помешан,
Просто… вынужден боготворить!
Двести грамм человеческой крови
Можно мерить стаканом, как квас.
Цвет лица стал намного лиловей
И румянец чуть-чуть погас.
Да немного глаза потемнели.
Блеск их ярче стал и нежней.
Чуть слышнее локонов шелест.
Чуть беспомощней линия шеи.
Там во сколько стакан оценили?
Я за каплю отдал бы жизнь
И… бессилен помочь. Бессилен…
Было очень больно, скажи?
Муж доволен был ли подарком?
Праздник стал от того веселей?
Пусть себя тебе мучить не жалко,
Но меня… пожалей! Пожалей!
Пальцы тонкие в синих чернилах,
Обувь стоптанная на ногах —
Отчего мне всё это так мило?
Почему ты мне так дорога?
И зачем ты ко мне явилась,
Вот такой, что нельзя забыть?
Ну скажи мне, скажи на милость,
Как же дальше-то,
дальше как быть?
Я надеждой себя не тешу,
Что за вздор о любви говорить!
Просто, кажется, я помешан.
Просто… Вынужден боготворить!
– А что, собственно, она совершила такого, чтобы это вот так воспевать? Разве призывал героизм или заставляла необходимость? Разве не из-за пустяка… Разве не ради дурацкого подарка супругу Золушка решилась стать донором? Но это-то отсутствие веских обстоятельств и заставляло нестерпимо страдать, поражало, жалило воображение одержимого.
Если из-за пустяка вот так… то какого же самопожертвования нужно ожидать в дальнейшем?
Художник уже не рассуждал, он шагал помешанным, обожая радужно и безнадежно.
– Помешан, помешан, помешан, – шептали подошвы.
– Помешан, – шелестели локоны на шее Золушки.
– Помешан, – шуршала одежда…
– Помеша-а-н… помеша-а-н… – дышала в бирюзовом вырезе зовущая белизна.
Свобода, свобода…
– Усатый бюст всей своей массой высился над бренным мусором, над несносной пассивностью матрасов. От отстаивал достоинство с той поистине абсолютной свободой, которая диктуется необходимостью.
Волшебник был вылеплен из более податливого материала. Он предпочитал не замечать проглоченного крючка и ласковой лески, вытаскивавшей его из спокойной повседневности на жаровню обожания. Он представлял себе свободу совсем не с той стороны, где она еще существовала.
Свобода,
свобода,
свобода,
свобода
Магнитом манит смельчаков издали.
Вотще ее ищут. Стремятся бесплодно.
Затем лишь, чтоб крылья мечты опалить.
Она ненасытна… Во имя, во имя…
Растут пирамиды из жертв в ее честь.
Пора б образумиться… Но… и поныне
Идут одержимые гордо на крест.
Свобода поступать в соответствии с обстоятельствами устраивает трезвых и разумных. Иванушкам нужно невозможного. От того-то они вечно в дурачках. Иначе не получается. Впрочем… сами они не устают надеяться. В этом их счастье, если хотите.
Итак, Повивальная бабка в Голубую комнату не заглядывала. Она любила дела и не выносила славословия и сантименты. А живописец в обществе Золушки без славословия не оставался. Он перешел со школьных воспоминаний на институтские:
– Бесконечное «отличничество» увенчалось получением позолоченного аттестата. Сие указывало на изрядные груз бесполезных знаний, забивших мозги, и безнадежное невежество в постижении окружавшей жизни. Последним, слава богу, пятибалльная система выяснения «зрелости» не интересовалась.
Стремясь к самостоятельности и свободе, я отправился продолжать образование в легендарный Ленинград. После самого ужасающего конкурса был зачислен на подготовительные классы при Академии художеств и… естественно, продался в рабство классикам. Город-дворец, город-крепость, город-казарма гордился суровой прямолинейностью и носил, не снимая, неиссякаемую серость. С классиками и вовсе было не до смеха. Бетховен и Бах заставляли часами выстаивать на хорах в консерватории. Достоевский – забывать об обеде и сне. Что касается Тинторетто, то тот отличался величайшей деспотичностью и требовал: работать, работать, работать.
Достоевский не столько тиранил, сколько истязал. Образы резали сердце на куски, власть заставляя искать по закоулкам маленькую любящую Нелли. И последняя… появлялась. Но не на улице, а в болезненно-изогнутых линиях Боттичелли. Словом, мне было не до танцулек. А объяснения на скамейках с настоящими женщинами казались непростительной тратой времени. Я боготворил… принцессу Сибиллу, работы Кранаха. Правда, нас, о историческая несправедливость, разделили Средние века! Рыжие, жирные курфюрсты торжествовали. Трубами Вагнера вгрызалась ревность. Напрасно Средние века закрывали дорогу в романтику. Серые проспекты устремлялись в ясность прописных истин. Я оказался в западне. В казенном музее с заспиртованным, закупоренным прошлым. В котором остается самому стать экспонатом среди экспонатов. Тоска по московской сутолоке становилась к весне просто нестерпимой.
На праздники мы, студенты, выстроясь гуськом, из всех сил стремились протиснуться сквозь гроздья праздных к Александровскому столпу. В будни, с вымазанными масляной краской блузами, шокировали аборигенов на Невском, в консерватории, в картинных галереях. Классики ко всему этому относились снисходительно. Почившие добродушно разрешали шалости, но малейшее проявление индивидуальности подавляли без промедления. Своеобразие они признавали только за собой. Современность попросту презирали. Живые деспоты, даже женщины требуют, в первую очередь, ритуала преклонения. Классики настаивают на пресмыкательстве бескорыстном и искреннем. Оставалось рисовать и восторгаться. Восторгаться и рисовать.
Не принесла спасения и Москва. Каникулы не избавили от плена. В Музее изобразительных искусств меня представили Корину. Последний милостиво согласился стать моим наставником в рисунке. Выбрали для штудирования «Лаокоона». Со временем я гордился, что проработал четыре месяца подряд. Не догадываясь по молодости, что «работа» и «раб» происходят от одного корня.
Корин приходил редко. Слова отыскивал с трудом:
– Так. Неплохо… – Это была высшая похвала, на какую его хватало. – Теперь начинайте рисовать… – А я-то считал шедевр оконченным. – Вон, видите, – он указывал на запрокинутую, изрезанную завитками волос голову. – Не бойтесь натурализма… приступайте…
Я старался дней десять, в нестерпимую жару, справиться с непокорной шевелюрой…
– Так. Потрудились… Только это пока «дамское рукоделие»… Дайте уголек… так.
Рука энергично крошила черное, и из крошева неожиданно рождалось живое и в то же время нечто очень логичное.
– Так. Лет через пять вы станете понимать эту «штуку»… Я видел удивительную логику плоскостей в непримиримой борьбе с природным темпераментом. Любил первую Боготворил второй. И предоставлял времени разъяснить мне эту самую «штуку». Я жаждал освобождения и оказался в беспросветном рабстве. Ведь свобода всего-навсего осознанная или неосознанная замена хозяина.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































