Текст книги "Художник и время"
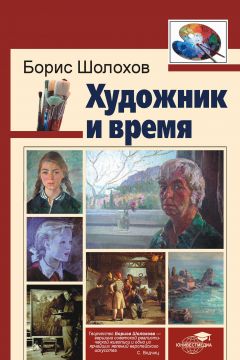
Автор книги: Борис Шолохов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Голубая комната
Сердца упрямо твердили о встрече. Рок тем временем не дремал. Ретивого пожарного перевели на другую работу. Директор постарался. Снять пломбу с кладовой, следовательно, было дело плевым.
Художнику вручили ключи от чердака. Усы снова потеснились. Палитра и мольберт вернулись наверх. Правда, на чердак вскарабкалась и старость. Влезла и затаилась.
А столярке тревожили: заглядывали кому не лень. Чердак отпирали редко. Разве забрать украшения, да матрасы. Украшения – в праздники. Матрасы – для приезжих экскурсантов. В каникулы. Деревянному настилу, стало быть, нашлось дело: предупреждать о всех посторонних треском и грохотом заблаговременно. Раз что-то твердо решив, Рок страдает предусмотрительностью.
Страсть спряталась так старательно, что о ней не подозревали. Художник блуждал в джунглях живописи. Носился в синеве воспоминаний. А Люсе все доставляло удовольствие: и завидная новизна обстановки, и краски, и рассказы, и старание сохранить святость.
Сохранять святость – естественно… в детстве. До греха требуется дорасти. Это непросто, раз провалился в прошлое. И не вытаскивают, не спасают. Остается рассказывать и расти, расти и рассказывать.
– Теории, – преображался живописец. – Теории, просто узурпаторы. Им следуют слепо. И всегда стадно. Родители верили: «Переутомлять ребенка – нездорово. Развивать раньше времени – вредно». Рамки разрешенного простирались нешироко: от «нельзя!»… до «успеется». От «успеется»… до «нельзя».
Но, слава богу, была бабушка, не знавшая новшеств. Простая и добрая. Она не прятала секретов. Разговаривала, как с равным. Для дружбы лучшего не нужно.
– О-о-о-х, – стонал я. – О-о-о-х…
– Ты чего, внучок?
– Влюблен.
– В каво?
– В Антонину Поворинскую.
– Ну спи, спи…
И я, успокоенный, засыпал. Очередная страсть проходила.
Конечно, я выбирал. Но разве просто?! Квартирантки. Родные. Подруги тех и других. Всем по семнадцать. Все ласковы. И тискают, тискают. Много ли надо? Улыбнуться, спеть, почесать пятки… Приручить взрослого нетрудно, раз приручили ребенка. Разделять радость просто.
А вот если не по себе. Если тополь облетел полностью и в стекла тоскливо хлещут капли, а по крыше однообразно барабанит. Если серость прокрадывается со двора в закрытые двери. Словом, если не по себе… остается единственное:
– Б-а-а-бушка, ску-у-у-шно… Баб-у-у-шка ску-у-у-шно…
– Ну кштош. Сыграем прунды…
У нее были большие, толстые губы. Они дергались, выбрасывая все согласные сразу. И становилось совсем… хоть «святых выноси»!
– Б-а-а-бушка, ску-у-у-шно…
– Какого ж тебе рожна?!.
Вытаскивалась расческа. Лепился лист. Слюнявился и… дребезжание надрывало сердце.
– Ску-у-шно, – скулило следом.
– Вот этто, кысь, так?! – удивлялись постоянству песни. – Кыд такое дело, полезай на печь…
Бабушка сдвигала с волос на нос старые-престарые очки и по складам, не торопясь, произносила таинственные замысловатые фразы. Не все оседало в сознании с одинаковой стойкостью. «Войну и мир», например, со временем все же пришлось перечитывать. Но «Трехсотлетие дома Романовых» утвердилось намертво. Со всеми красочными картинками.
– Бабушка, это что за буква?
– Это? Это – «А-а-а»…
Я сжимал карандаш, как сапожник шило, и ковырял каракули. От правой руки к левой, не оставляя просветов между словами. Поправлять не собирались. Наоборот, одобряли:
– Вот этто, кысь, так! Лутче маво, право слово…
И я забывал, что тополь голый. Что за стеклами слякоть и в леи льет.
– Полезность слова, на мой взгляд, изрядно недооценивают. Слово успокаивает. Слово вселяет силы. Слово лечит, морочит, уничтожает, омолаживает…
Волшебный шепот! Самое основное… не забыть заклинания, ценности интонации, своевременность и «сезам» обязательно откроется!
Кстати, о Сезаме… пристрастие к таинственному не всегда стирается с возрастом. А Рок прокудлив…
Живописец условился встретить свою «позировщицу» в пятнадцать часов. «Позировщицу»… было приятно коверкать слова следом за Золушкой. Договорились в три. Не раньше. Лекции потому как. Это «потому как» – опять-таки излюбленное Золушкино. Неожиданно обнаружился недюжинный талант подражания. Надо же!
И вот, в ожидании блаженства, художник упражнялся. Упражнялся в подражании, а в ушах жужжало:
– Ждет. Уже ждет, ждет же!.. Вот наваждение! Не может. Не должна ждать! Договорились же…
Часы часто-часто стучали, не насчитывая почти ничего.
– Десять десятого, – рассуждал художник. – Значит до встречи, добрых…
– Уже ждет, ждет же! Ж-ж-ж, – жужжало предположение.
– Раньше чем через четыре часа проверять закрытую чердачную дверь – кретинизм, – ворчал здравомыслящий дощатый настил.
Ворчал… но дверь все равно проверяли. И… не обнаружив царевны, возвращались.
– Напрасно и бессмысленно… – вторил разум.
Выдавливались краски. Наливался в масленку растворитель… Живопись не желала засиживаться на холсте.
– Может, ждет. Может, ждет. Может, ждет, – драл до грунта мастихин.
– Ждет же, ждет… – скребло по сердцу.
И снова отправлялись на чердак. И снова… безрезультатно. В который раз принимались работать. И сдирать. И проверять: не пришла ли?
– А что если Золушка на улице? Если не вошла в школу, не решилась?
Палитру оставили. Оделись. Вышли. Я не оговорилась: вышли – влюбленный и всесильная Глупость. Глупость вела и болтала без умолку:
– Чудеса случаются часто-часто. Вот сейчас… Через черный ход, поперек двора, в калитку, не поднимая глаз. Теперь направо. Раз, два, три… Смотрите!!!
Взглянувший опешил: желаемое ожило!
– Здравствуйте! – Вздрогнули брови.
– Наконец-то! – шевельнулись уголки губ. – Я вас уже целый час жду. Хожу и жду…
Это было неожиданно, хотя ожидалось всеми силами души. Мечта – осуществилась, стала действительностью. Она дышала и хорошела в алмазной звездности зимнего воздуха. А из глаз в глаза скользила признательность:
– Просто не состоялась лекция, вот и все. И я настроилась. Вас встретить. С утра…
– Просто не состоялась… Просто настроилась… Просто закралось необъяснимое беспокойство в мастерскую, и я спустился сюда… Чудо до чего просто!
Но… стоит ли объяснять все странности на свете? Случай часто нелеп… в отдельности. В связи с остальным он естественен. Без него остальному не обойтись.
Чудесное снимает обязанность доискиваться ясности и смысла. Праздность разума дарит радость. А разделенный восторг – удесятеряется.
И темный таинственный чердак, и теплые повстречавшиеся руки, и ожидание чего-то несбывшегося, и свет… голубой свет, хлынувший из-под самой крыши – обрушились на вошедших блаженством!
– Голубая комната… – прошептала Золушка.
И, о волшебная сила слова, все вокруг стало голубым.
Узоры на заиндевевших стеклах. Стены и потолок. Пылинки, осевшие на рухляди. Воздух. Весь мир!
Сезам открылся. Пропустил избранных.
Любезный домовой
Свет заставляет видеть. Свет ослепляет. Красота всего-навсего маска. Будь иначе, истину не пришлось бы искать. Только прятаться от правды приятнее, чем заниматься напрасными поисками. Раз играют, вовсе не нужно настоящего дворца. Его мастерят из карт, коробков, радости. Осторожно, восторженно.
Голубая комната!.. Звездное, созданное фантазией, оказалось произнесенным.
Голубая комната… это воспоминания детства. И новизна возникшей близости. И близость заветного, неизведанного доселе…
– Знаете, у меня экзамен завтра, а я здесь, – призналась Золушка. – Глупая я, да?
– Глупая? Безусловно. И да здравствует Глупость! – цвел принц. – Садитесь за стол, занимайтесь. Буду писать вас с опущенными глазами. Студентка в сессию. Договорились?..
Над стопкой листков склонилась сама Стройность. Прическа на сей раз оказалась завязанной узлом на затылке. Тростинка изогнулась под выросшей ношей. Непослушный пушок мешался на шее, за ушами и выше лба. В бирюзовом вырезе застыла белизна. Зябкую спину заслонила от сырой стены косынка. Цвета осыпи листьев осинника. Шевелились лишь пальцы с нацеленными на них ресницами. Да изредка вздрагивали дуги бровей.
Незаметно подкрались сумерки. Заработались допоздна. Уже не спрашивали, провожать ли? Просто шли, взявшись за руки. Вдоль улиц. Сквозь зиму и сумрак. Над обыденным.
Мелькали светляки ламп. Искрились крупинки пурги под фонарями. Золушка слушали. Принц рассказывал. Всю дорогу, без перерыва:
– Если слышалось: «Ш-ш-ш… батюшка», я замирал зачарованный. Таинства созданы для детства. Детство – просто способность восторгаться. Ожидание и жажда чуда. Состояние встревоженности и надежды. Возможность невозможного…
Вздымалась ряса с сияющим крестом. Властно басил голос. Кольцами клубился ладан. Во все стороны. Во все стороны… Я не сводил взгляд с меди кадила. Сила блистания! Нимбы богов. Венцы царей. Шлемы завоевателей. Звон бронзы, возвестивший цивилизацию, доносился в детство…
Медный отдушник над сундуком чадит, когда топят. Побелка около в черных трещинках. Оттуда дым…
Взрослые не заметили сходства. Взрослым забота: замазывать. Повязываю косынку. Вместо косм и рясы. (Малость фантазии – и все сойдет!) Забираюсь на сундук. Тянусь на цыпочках к отдушнику. Звоню цепочкой в заглушку, призывая зрителей замереть. Спускаюсь. Расхаживаю важно-важно. Не спеша машу щеткой, с длинным волосом на солидной скалке:
– Го-о-о-с-по – о-о-ди-и-и поми-и-и-луй…
Стараюсь басить, пресекая серьезностью нестерпимый соблазн паствы прыснуть.
– Кем собираешься стать? – тормошили шутники.
И слышали решительное:
– Батюшкой!
Взрослые, забавляясь, взирали благосклонно:
– С возрастом сам сообразит…
Не все все-таки. Помните дядю? Да, того самого, о котором вздыхали тридцать пять лет. Являясь с комсомольских собраний, он гнал священника из дому и выкидывал в окно иконы. Я разыскивал и приносил на место святых. Становясь за спину заступниц, высовывал язык, дразня супостата. Дядя в долгу не оставался.
Зимой у собора он не снимал мне «черепятки» (перчатки не выговаривались), чтобы перекреститься. Стоял около и хохотал, наблюдая, как я силился вызволить пальцы, заливаясь слезами.
Суд и расправа творились по возвращении:
– Связался черт с младенцем. Да пра… Сладил. Спасибо тебе, сядь: Со стены снималось полотенце. Скручивалось и…
– Ах ты, домовой любезный! Прости меня грешную…
Следовал взлет полотенца… И снова «любезный домовой», и снова взлет…
За святых не вступались. Бабушка безропотно уступила, смирилась. За меня стояли стеной. И сила полотенца казалась неоспоримой, поскольку и шлепки, и «любезный домовых опешивший супостат сносил терпеливо.
В своем стремлении искоренять веру, дядюшка не был одинок. «Нести свет в массы» было делом безотлагательным и как нельзя более коллективным. Следы просветительства хранит городок и по сей день.
На месте красной Сретенской церкви у базара теперь простирается пустырь. Новый собор превращен в несуразный коробок, без определенного назначения. Казанская высится просто-напросто сиротой. Покосившаяся, облезшая. А исторический Старый собор, где по преданию Петр I собственноручно мастерил люстру, чернеет грудой развалин. Помню, как стальными тросами валили колокольню. Старики крестились и ждали чуда… Но поплясав несколько часов, крест, вместе с шатром перекрытия, рухнул, устилая улицу обломками…
Теперь страсти остыли, и старина, слава богу, не полностью стерлась с лица земли. Даже дождалась бережного отношения. И, неисповедимы пути Господни, стала историческим источником! Хотя около уцелевших колоколен и летают галки и торчат очереди с куличами.
– А на месте храма Христа так и не удалось построить дворец. Есть, стало быть, высшая сила! – отзывалась Люся.
– Зато устроили бассейн. Самый красивый…
– А место осталось святым. И вода там целебная – это точно! – не унималась слушательница.
– Вы сами как относитесь теперь к вере? – следовал вопрос.
– Убежденность, мне кажется, заслуживает большего уважения, нежели нигилизм. Убежденность без жертвоприношения. Без вознаграждения. Крестись или доказывай полезность безверия, но не за зарплату. И не грози…
Обращать в свою веру не терпится с детства. Мое стремление стать священником наталкивалось на отсутствие паствы. Взрослые – заняты. А распевать «Господи, помилуй» для мебели – тоскливо.
Озарение пришло не сразу. Поначалу вылавливались мухи. Начинялись в спичечные коробки. Христианской вере во здравие. Хозяйки радовались: «Занялся полезным делом!» Напрасно радовались между прочим. Рано.
Однажды в деревне мать взяла меня в гости к своей скупой тетке. Не просто скупой, а жадной неподражаемо. Если оделит яблоком, обязательно гнилым. И вспомнит после сто раз событие, при случае и просто так, из жалости к яблоку.
В тот день был престольный праздник. На лавке, во всю длину, отдувалась старательно уложенная сдоба. Горячая, прямо с жару. Прикрытая сверху рядном.
Гости уселись в столовой точить лясы. (Хозяйка на слова не скупилась.) Про меня попросту забыли. А в кухне? Мухи! Махать не перемахать…
Но если ясна цель. Если во славу православия…. Словом, население всех стен было рассажено по коробкам и крещено. Простенок за сдобой сдался последним. Самые неуязвимые язычницы восседали там. Махание не помогало. Если и находились пугливые, то, полетав, спускались за лавку. Ересь упорно держалась насиженного места. Крайние меры просто требовались.
Нажав на пирог, неожиданно обнаруживаю, что он пружинит. Я ж не тяжелый!
Осторожно, не дыша, шагаю дальше. Вылавливая и воодушевляясь. Боже! Можно ли ждать осторожности от одержимого? В раже совершались прыжки. Сдергивалось рядно. Рядом дребезжа дрожали жбаны. Разговорам в горнице не предвиделось перерыва…
Торжественно неслось: «Господи, помилуй!» Жужжала усаженная паства. Только подавленное на лавке уже не пружинило. Пышность ушла в прошлое. А тетка? Явилась и остолбенела… Мама пыталась сослаться на детское незнание. Мне совсем не сразу удалось восстановить истину во всех подробностях. Знаки и оттаскивание за локоть не подействовали. Правда восторжествовала! Оставалось… извиняться и краснеет. И вспоминать раз за разом сию историю при встречах со злополучными родичами.
За разговором добрались до перрона. Рассказчик на этот раз переступил порог электрички. Колеса взвизгнули и понесли, понесли. Мелькали перелески, мосты, станции. Только глаза сияли около. Круглые-круглые. Удивление, любовь, величие вселенной колыхались в их глубине. Непослушный пушок под шапочкой не решался больше шевелиться. Брови улеглись словно сама внимательность. Золушка слушала. Золушка умела слушать.
– С мухами не повезло. Это заставляло искать неустанно. Красные солдатики? Рыжие жуки? Кот! – Поистине меня осенило. Снимаю с себя серебряный крестик…
– Кысанька. Кыса. Кыса… – Насовываю. – Красиво!!! Господи помилуй.
Мурчит. Навострил уши, слушает… Тороплюсь радовать:
– Ба-а-а-бушка!
– И что тебе там неймется? Какого рожна… Ды пра. Ну иду, иду… Ах ты, домовой любезный! Прости господи… – С себя сняла святыню: – На! Носи! А он… на кота! Удумал, спасибо тебе, сядь…
Полотенце кружилось жгутом… Боли не было. Была обида. Видано ль, наказывать за изобретение? Усевшись на сундук, рисую, рисую. Кошек с крестами на всех местах.
Поиски спасения в чудодейственной силе искусства – не новость. Они инстинктивны. Не с радости становятся живописцами. Чистую бесхитростную веру унесло без следа…
– Обида. Скольких бы бед избежало человечество, будь властители не столь ревностны в искоренении ересей, не столь непростительно своевольны!
Колеса незаметно успели смотать все расстояние до Люсиной остановки. На платформе стоял супруг. С глазами… в которые врезались рельсы. Явился засветло, и стоял до последнего в расписании поезда.
– Меня встретили. Не беспокойтесь. До завтра. – Золушка помахала ладонью и скрылась.
– Встре-тил. Встре-тил. До зав-тра, – хрустел припорошенный перрон. – Хруст, хруст, хруст…
Грусть принялась за работу. На асфальте оставались проталины следов. В блокноте чертились каракули:
Электричка, колес перестук
И мельканье в окне перелесков,
И тепло повстречавшихся рук,
И во взгляде мелодия блеска…
Мелодия?.. У кого мелодия, у кого рельсы. Длинные-длинные. И уместились!
Метель хлестала по лицу белым полотенцем. Звенела. Взывала. Измывалась:
– Любез-з-з-ный…
Вывески
Счастливые не замечают часов. Сокровенный смысл изречения состоит в том, что только потеряв всякое чувство ответственности, погружаются в блаженство.
Люди спешили, опаздывали, печалились, боялись. Но все это там, за стенами Голубой комнаты, в сутолоке суетной вселенной. Тут… солнце касалось золотыми пальцами промерзлых стекол. Ласково улыбалось:
– Пишите? Ну, пишите, пишите…
Пылинки, поплясав в воздухе, садились на седины забытых бюстов, ластились к пьедесталам. Цитаты не нацеливали. Лозунги не призывали. Безделье и беззаботность, зато не знали запрета. А воспоминаньям не возбранялось залезать куда вздумается.
– Вы как думаете, для какой цели домовому понадобился титул «любезного»? – интересовалась Люся.
– Я сам долго ломал голову, отыскивая смысл. Пока взрослые покрикивают: «Чертаны», «Черти», ребятам разрешается вытворять все. Но если: «Поди-ка сюда, любезный», значит, зарвался. «Чисто домовой носишься!» В переводе с бабушкиного: «Ну и шустрый!» Полотенце скручивалось только после «любезного». Необъяснимо… Впрочем, исключительность, чрезвычайность лучше не подчеркнешь!
А парадоксы вывесок? Пройдемтесь городком, в котором я рос, посмотрим. На главной улице, над одним из зданий, красовалось: «Оздоровление». Аптека? Вытрезвитель? Дудки! Не угадали… Винно-водочный магазин!
Животики надорвешь. А устроители, со всей ответственностью, рассуждали примерно так:
– При капитализме – всякие градусы зелье. У нас… особая статья. Напротив «Оздоровления» – «Борьба», промысловая артель по производству закусок…
– Заправляйся назло буржуазии. Тортом по Чемберлену, не иначе! Это для вас – студентов нэп – отступление. А я рос… росли сады, пасеки, базары, где всего возами. Маяковский с историками пусть басят себе сколько влезет. Смысл благосостояния – в заветном «всего возами».
Над стилем мебели головы не ломали. Стол и стул различались величиной. Одевали – для тепла. Лишь бы видели – мальчики. Валенки – ладно. Но летом… во все места – босиком. Ценилась приспособленность ступни. Бахвалились, если давили стекло и не бинтовали лапу:
– Подошва – высший сорт! Спиртовая.
Про старые ворота говорили: «Трухлявые». «Гнилым» называли интеллигента.
Если у нас собирались гости, интеллигента я узнавал сразу: маленький, щуплый, в золотом пенсне. Последнее – основа основ. Отец носил обычные очки.
Хаживали сослуживцы. Вечерами, после работы. Читали по очереди стихи собственного сочинения. Папины я слишком знал. Лучшими казались у обладателя золота… Про Ангару с Енисеем, про любовь…
Отец одобрял или говорил, что исправить. Читавший слушал. Согласно кивал:
– Неудавшиеся – мои «больные дети». – И покашливал, протирая потные стекла.
С суждениями отца считались все, хотя совсем неискусная оправа украшала самый простой нос. И мне было странно, что не тот – в пенсне – за старшего. Ведь я судил по вывеске.
Вывески, вывески… Кино – «Модерн». Театр – «Нардом». Народный… чего ради? Народ – на базаре. Гуляет – «публика». Гуляют «от нечего делать». По «Большой» – главной улице.
Остальные закоулки пылили, лежали в лопухах, или лезли в грязь невылазную. Милые улицы! Они пели:
– Са-ха-а-р морожн-ы-ы-й!..
Поскрипывая, катилась тележка со льдом и сладким, застывшим, молоком в вафлях. С выдавленными «Валями», «Олями», «Толями»… Оставалось, выпросив пятак, нестись следом. А затем сиять и слизывать, слизывать, слизывать… пока «Оля» и «Толя», сблизившись, не таяли окончательно.
Или… если в ладошке уцелела мелочь, лететь на «Большую» к «Борьбе», за ирисками. Копейка – штука. А какие диковинки можно вылепить из тягучей, клейкой, разжеванной массы! Вот уж где действительно удовольствие растягивается непомерно.
За прилавком, в ослепительно белом, лоснится довольством Кузмич. Он учтив и улыбчив. Что же, женился же… на двоюродной сестре отца. Красавице, умнице, тете Насте. У самого – лысина, заплывшие глазки и… за молодость далеко перевалило. Только… эклеры, с вареным кремом, и липкие тянучки, тоже у него, в руках.
Протягиваю, согретые горстью, гроши. Улыбка обливает меня с головы до ног. Ирисок… не вобрать в пригоршню! Считаю. Пересчитываю. Что за притча? Подешевели – жуть! Если на неделе выпросить гривенник, это ж… не изжевать!
Каждый прожитый день приближает желанное. Надежды – радужны. И… не надежны. Лопаться мыльными пузырями, оставляя плевок разочарования, свойственно всему светлому на свете. Зато… целую неделю над головой солнце и захватывающая музыка иллюзий. Какого ж еще рожна?
И вот, свершилось! Гривенник выпрошен! Спешу на «Большую». К Кузмичу. Считаю… Только десять?! Лицо вытягивается. А над прилавком колышется пышный хвост, лоснясь достоинством и удовольствием. Женятся не каждый же день. К сожалению…
– Тетя Катя?.. Умерла вскоре. Кузмич печалился очень-очень. Но… лысина не могла долго блистать без ласки, и милые пальчики нашлись. Только мне до этого не было дела…
– Вы злой, – заключила Люся.
– Злословить о лысине я не собирался. Так получилось, нечаянно. Лысина в детстве не казалась мне недостатком. Скорее вывеской стабильности, довольства и постоянства.
Муж моей тетки по отцу, Михаил Алексеевич, после бабушки старшая в нашем доме, естественно, не мог снизойти до ношения шевелюры. Он восседал Саваофом, весомо, солидно. И лысина над столом курилась, словно сопка. Папироса доставалась за папиросой. И дымились, дымились всюду. В саду у обязательных клумб. За преферансом. Над листками финансовых сводок. Я не мыслил себе главы семейства без облаков и… супруги. Раисы. Ведь если собирались в картишки, Миша добродушно дирижировал, а жена тут же… «ночевала у него в картах».
– Нет, ты обозгоди, обозгоди, греха сколько. – Это его излюбленное, это бесчисленное количество раз. – Не мухлюй, не мухлюй, обозгоди. Райка! Райка! Греха сколько…
А у Райки… прямой тонкий нос, строгая прическа и гордости на десятерых. Говорят, в молодости влюбилась она в сына лесничего. Кавалер не угодил чем-то. В мелочи… Закрылась. Не пустила к себе объясняться. И вскоре раз: вышла замуж за кряжа. Начальника своего по службе. Тот жену схоронил. Двое детей от первого брака. Теперь – четверо. Двоюродные братья, ровесники мои. И те, старшие: парень и девушка. Семейство – залюбуешься. Душа в душу живут. Лучше где уж… За стеклом в горке всевозможные вазы. Дюжина ножичков медных, яблоки резать.
Словом, семейное счастье казалось мне само собой разумеющимся. Несомненным.
– То-то вы и поторопились обзавестись собственным.
И Люся, не дожидаясь ответа, принялась рисовать фигурки. Разъясняя смысл надписями: —
Обременен семейством я.
Смотрите, вот моя семья:
Жена – пикантная особа
И с ней два сына. Рядом оба.
А это вы, такой заласканный и довольный…
Листок заполнялся чудными человечками дальше и дальше:
Причесан, сыт, одет, женат,
Готовлю сам себе салат.
Исчерпывающий перечень черт супруга, как вы считаете, а? И вообще, как правильнее: обрученный или обреченный?
Пальцы не останавливались, чертили и поясняли суть нарисованного.
– Любуйтесь! – Следовали два профиля, фас, затылок, виды сверху и снизу, на этот раз самой Золушки: —
Жена под стать одной сове.
Гуляет ветер в голове.
Смотрите в оба! Здесь она
В шести проекциях дана.
Принц радовался. Золушка для него оставалась Золушкой. Самой лучшей, самой волшебной. А шаржи – забавными, несуразными вывесками, смыслу назло.
И солнце невольно любовалось Голубой обителью, ласково золотя льдинки у стекол.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































