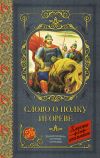Текст книги "Спасти князя Игоря"
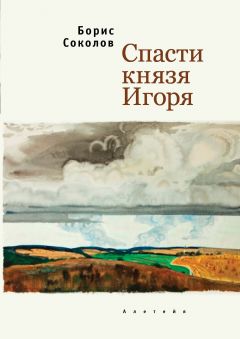
Автор книги: Борис Соколов
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Смотр-парад
Белó в городе было от снега: от сумеречного света его казалось, что, спутав время года, опустилась с неба, легла на улицы белая ночь.
Но стоял декабрь. И черное небо висело над самыми крышами огромной маскировочной сетью, накрывшей город. Колючий Балтийский ветер разгуливал по улицам и переулкам Васильевского острова, заворачивал в подворотни, залетал в глухие, мертвые каменные дворики. Немного встречал он людей на своем пути, но уже не был им так страшен, как в первую блокадую зиму: кончался сорок третий год, и в людях, оставшихся в городе после всех смертей и эвакуаций, теплились новые надежды на освобождение.
По Гаванской мимо темных безжизненных домов легким колеблющимся строем, стараясь бодрей отбивать шаг, шли юнги – целая рота.
Эх Ладога! Родная Ладога…
Ломкие голоса подростков складывались в нестройный хор, но это было неважно. При виде редкого прохожего они нажимали на все педали.
Одеты: кто в бушлаты, кто в шинели не по росту, мешковато – нельзя сказать сидевшие – скорее висевшие на их костлявых фигурах, в ботинках не по ноге (что делать? с обмундировкой в нужный размер было туговато) – они двигались пустынной, будто вымершей улицей.
Сейчас их никто не видел. А днем смешны и жалостны на вид показались бы юнги глазу повстречавшегося военного человека: шапки едва на ушах держатся, тонкие шеи торчат из несоразмерных воротников…
Но он был бы неправ, тот прохожий – сами юнги ничуть не унывали, их молодые сердца были устремлены в будущее, сулившее им всё, о чем они мечтали, подсчитывая дни до окончания своей школы юнг. Впереди были морские сражения с ненавистным врагом, подвиги во славу Отечества. Что касается вида юных моряков, тут причин для расстройства и вовсе не было: новенькая парадная форма уже ждала своего часа. В тумбочках, называемых по-корабельному рундуками – сложенные аккуратными стопками – уже лежали новые тельняшки, форменки, матросские воротники, а брюки, с тщательно расправленными штанинами, «отглаживались» под матрасами… Вся рота жила завтрашним днем: будет баня, потом построение, смотр, который будет принимать сам шеф школы – потомственный моряк, капитан первого ранга Бутаков.
Недаром Ладога родная
Дорогой жизни – названа!
У Илюши Алехина, как и у каждого из пацанов, одетых в морскую форму, была своя дорога жизни, которая привела его в школу. И дорога эта была похожа на десятки других: отец Алехина воевал, и уж больше года от него не было никаких вестей – наверно, погиб; мать умерла – он остался один. И настал такой день, когда пошатываясь и дрожа всем телом – его бил нутряной голодный озноб – он брел по улицам, не понимая, куда идет и зачем. Он знал одно: он дошел в жизни своей до последней точки, когда остается как-нибудь умереть. Он думал тогда: если случится артобстрел, он не станет бежать и прятаться – пускай убивают – ему всё равно. Глубоко в душе таилась глухая обида на взрослых. Сами не могут отогнать от города фашистов, а таких как он, которые могли бы воевать, не берут в армию. А он, между прочим, ходил в школьный стрелковый кружок и был чемпионом школы, в десятку попасть ему ничего не стóит. И он мог бы отомстить и за отца, и за мать, и за город… Так думал он тогда и, повернув за угол, столкнулся с каким-то мужчиной. И не сразу понял, что говорит ему этот широкоплечий человек в черной морской шинели…
Эх Ладога! Родная Ладога…
Юнги пели песню уже не в первый раз, хотя прохожих не попадалось и мертвые дома хранили к пению полное равнодушие. То была любимая песня мальчишек, готовящихся стать воинами, – песня, связавшая их с оставшейся за кольцом блокады Большой Землей, с мирным прошлым, которое сейчас казалось таким далеким.
Теперь юнги жили буднями осажденного города – кончался обыкновенный, один из многих, блокадный день. С утра они работали на разборке развалин дома, в который попал снаряд. Специальные команды, составленные из взрослых, откапывали завалы, уносили убитых и раненых, а юнги растаскивали обломки, расчищали улицу от битого кирпича.
Работая вместе со всеми, возле пролома в стене Илюша увидел торчавшее из-под груды кирпича лицо мертвого человека – оно было почти таким же белым, как снег, слегка припорошивший шапку с завязанными на подбородке тесемками. Глядя на это мертвое лицо, Илюша невольно вспомнил то страшное пятно на обоях и другое лицо – лицо Шурки Неглинского, прибывшего к ним в школу из-под Луги, из партизанского отряда. В свои шестнадцать лет он был для других пацанов героем: там, на оккупированной территории, он ходил к немцам в разведку, участвавал и в боях. Шурка гордо носил на форменке новенький, сиявший алым, орден «Боевого Красного Знамени», иногда даже разрешал потрогать его. А когда Неглинский заявил, что награжден еще именным пистолетом, Илюша не поверил, а Лешка Опенкин – при любом разговоре вертлявая его голова оказывалась тут как тут – стал ходить по пятам за Шуркой и канючить – покажь да покажь. У Лешки так горели глаза, точно он умрет, если не увидит пистолета.
И однажды Неглинский – в увольнение он ходил к своей тетке – позвал Илюшу и Лешку с собой.
Тогда, в ту ужасную минуту (дело было в теткиной комнате), Шурка как раз повернулся к ним от фотографии, висящей на стене, там он был снят с отцом – снимок был довоенный. Илюша ждал своей очереди, а Лешка, разглядывая, вертел в руках пистолет из вороненой стали – как вдруг оглушающе грохнул выстрел, подпрыгнула Лешкина рука и, будто ужаленный, мотнул головой стоявший у стены Шурка. Случилось всё в один короткий миг – Илюша видел: и Лешкина рука, державшая пистолет, и голова Шурки дернулись вместе, точно связанные какой-то невидимой нитью, – и он всем телом рухнул на пол. И там, где стоял Неглинский, на стене как большая чернильная клякса расплывалось темнокрасное, почти черное, пятно.
На оглохшего до звона в ушах Илюшу нашло оцепенение. Ему показалось, что он вроде заснул на минутку и увидел такой страшный сон, но сейчас же проснется, и тогда всё станет на место: матюгнет Шурка недотепу Опенкина, потом даст Илюше подержать пистолет…
Пуля, оказавшаяся в стволе (наверно, Шурка раньше баловался с оружием и забыл разрядить его), попала несчастному прямо в лоб – на похоронах Илюша не мог смотреть на его белое как мел лицо.
Потом уж, когда похоронили Неглинского, Илюше уже по правде несколько раз снился этот жуткий сон. Но тут было и другое: он будто бы знал, что должно случиться. И ему хотелось крикнуть, кинуться к Лешке, вырвать у него пистолет, но вместо этого он стоял в каком-то столбняке и не мог ни двинуться с места, ни закричать. Он мучился от этого бессилия и невозможности остановить беду, спасти Шурку – раздавался роковой выстрел… А однажды приснилось ему уж совсем жуткое: пистолет оказался в его руке и он проснулся от собственного крика. Лежал он тогда на своей койке и думал, глядя в темноту: вот люди умирали от голода, погибали от бомб и снарядов, тут понятно всё – на то и война. Но почему же Неглинский, который воевал, прошел через такие опасности – ему ведь и немцев приходилось видеть глаза в глаза! – почему же он погиб так глупо?
Ответа не находилось, сколько Илюша о том ни думал. И его еще долго мучил этот трагический случай, пока нелегкая блокадная жизнь не покрыла туманной дымкой прозрачное стекло его памяти…
Эх Ладога! Родная Ладога…
Передние ряды вдруг замешкались, юнги сбили шаг, замолкли с открытыми ртами… Впереди, шмыгнув через дорогу, в ближайшую подворотню метнулась серая тень. Кошка! Каждый из увидевших ее теперь хорошо знал, что всех собак и кошек в городе либо съели, либо они сами сдохли с голоду. А тут… Первая после стольких дней блокады кошка! Живая! Выходит, где-то находила же она жратву!
Слегка поотставший ротный старшина заметил непорядок, услыхал, как замирает, истаивает в задних рядах песня.
– Рота! Дер-р-жать строй! За-а-певай!
Колонна дрогнула, юнги подравнялись, выправили шаг. Илюша, тоже заметивший кошку, подумал: «Ага-а… Не взять нас немцу-то, скоро придут наши».
И вот настал этот день.
Полторы сотни пар молодых глаз, со всей тщательностью выверенных по ранжиру, все сразу, увидели, как в дверь стремительно вошел морской офицер в полной парадной форме. Перед юнгами явилось живое воплощение мечты каждого: черное как ночь сукно мундира, серебро и золото погон и нашивок, сияние кортика в ножнах. Капитан первого ранга был высок и строен, рыжая борода пламенела над белоснежной полоской воротнничка. Он быстро окинул взглядом строй, весело поздоровался.
Юнги бодро грянули в ответ на едином выдохе.
Бутаков прошелся вдоль замершего строя: вскинутые подбородки, торчащие в стороны мальчишечьи уши, восторженно и преданно блестевшие глаза… Кое у кого матросские воротники оказались подозрительно небесно-голубого цвета. Капитан первого ранга знал: по их понятиям совсем новые темносиние воротники носят салаги и – чтобы придать им вид бывалый – юнги травили их хлоркой.
Бутаков нагнул голову, пряча в бороде улыбку.
Мешок травы для кормилицы
1
Огромный, слегка дымящийся багровым паром, шар медленно выкатывался из-за горизонта как раз в том месте, где меж станционными постройками был ничем не заполненный просвет и небо и земля встречались, как им и положено. Прислонясь спиной к стенке сарая, Мишка следил, как, начавшись ярким лоскутом, светило оформлялось, зрело на глазах в горячий правильный, словно очерченный циркулем, круг.
Сегодня, когда мать, как обычно, разбудила его до света и сунула в руки кружку, спать хотелось так, что он даже не мог разлепить веки. «Пей, пей, сынок»., – из далекого-далека проник в сознание голос матери; Мишка машинально выпил теплое вспененное молоко и повалился на подушку. Но сон уже не был так тёмен и крепок, и тело Мишкино медленно пробуждалось по мере того, как наполнялся серым светом прямоугольник окна.
Теперь здесь, на воздухе, и будто бы вместе с отделившимся от земли солнцем с Мишки и вовсе слетели остатки сна.
Он вернулся в дом, умылся. Собираясь на работу и укладывая в небольшой вещмешок хлеб, картофелины «в мундире», пару луковиц, несколько вареных яиц, бутылку с молоком, сахар, соль – она уходила на станцию дежурить на целые сутки, – мать делала Мишке последние наставления.
– Да чего ты, мам! Вроде я не знаю…
Мишка смеясь проводил ее на крыльцо, и она, устыдясь своей докучливости, благодарно улыбнулась сыну и с легким сердцем вышла на улицу.
Оставшись один, Мишка вздохнул – теперь он хозяин в доме до следующего утра.
К своим обязанностям он привык с тех пор, когда мать привела на двор рыжую в черных пятнах телушку, и он сразу и крепко подружился с ней. Мишке нравилось самому кормить и поить ее, и она так привязалась к нему, что, бывало, бегала за ним, как собачонка, а однажды – он не мог без улыбки вспоминать об этом происшествии – она даже лизнула его в щеку. Бывший Мишкин любимец, кот Жмурик, до глубины души был оскорблен таким предательством и брезгливо отворачивал голову, когда видел их вместе.
Когда телка подросла, Мишка на веревке выводил ее за околицу, на травку, и привязывал к вбитому в землю колышку – чтоб не сбежала. Оно и верно – телка была бедовая, как-то сорвалась да принялась носиться за домами, потом влетела во двор, оборвала веревку с бельем, запуталась в ней и явилась перед случайными зрителями в белой попоне и с чьим-то лифчиком на голове. Соседка, тетка Настасья, тогда такой крик подняла, будто конец света пришел, хотя белья-то у нее на той веревке почти не было. А одноногий муж ее, портной дядя Пантелей долго хохотал и обозвал телку Модисткой – так под смех и крики кличка к ней и прилепилась.
Теперь-то Модистка стала, можно сказать, солидной коровой, молоко давала вкусное и жирное, как сливки; бывают дни, когда Мишка с матерью едят хлеб да молоко, да творог, да сметану – им хватает.
В дни дежурств матери, если не считать утренней дойки, Модистка полностью на Мишкином попечении. Первое и каждодневное его дело – встречать ее на закате, и к этому времени у него всегда бывает припасен туго набитый мешок повилики, любимого ее лакомства. Возвращаясь с пастбища, Модистка каждый раз так торопится, что не может идти шагом по улице и припускает тяжелой трусцой, а добежав до Мишки, тычется влажной мордой в его ладони, захватывает подсоленную краюху хлеба шершавым, как наждак, языком. Мишка скребет пальцами за ее ухом – большим, похожим на толстый лопух, – и Модистка, жуя и сладко жмурясь, подворачивает к нему голову, чтоб чесать было удобней. От нее пахнет солнцем, молоком, пылью…
Вторая Мишкина обязанность – в те дни, когда нет матери, ходить на выгон за два километра к небольшому, затянутому ряской пруду и доить Модистку. Теперь он вполне управляется с этим, и никто не обращает на него внимания, а в первый-то раз бабы сбежались поглазеть, как на чудо какое, и отпускали всякие шуточки.
Тогда Мишке было не до шуток. Едва он протянул руки и с некоторым страхом дотронулся до вымени, Модистка повернула голову и вытаращилась на него в немом изумлении. Она даже жвачку жевать перестала и смотрела на Мишку так, будто видела его впервые. Кормить, поить, встречать, чистить хлев – вот привычная для нее Мишкина работа. Но доить… Модистка подтянула заднюю ногу под брюхо, оттерев Мишку от вымени, и – он не успел отскочить, потому что не ожидал от нее такой выходки – дрыгнула ногой назад с такой силой, что он отлетел в сторону. Подойник с громом покатился по земле.
Мишка вскочил на ноги, пораженный такой подлостью. А она как ни в чем ни бывало – будто каждый божий день таким вот манером отбрыкивается от приставал – равнодушно отвернулась и продолжила мерную работу челюстями. Явно наплевательское отношение к нему – как к какому-нибудь вовсе чужому человеку – возмутило Мишку еще больше. Он в сердцах перетянул Модистку подвернувшейся хворостиной и тут же пожалел об этом: глаза ее округлились и вместе с испугом с них мелькнул укор – как же он мог? Мишка даже разозлился: «Видали недотрогу? Ей можно, а мне – нельзя!».
В конце концов сердобольные женщины помогли кое-как сладить с коровой, но строптивая животина лишь прикинулась покорной и задумала тонкую месть. Она терпеливо дождалась окончания этой странной для нее дойки и хорошим пинком – чистым футбольным приемом – поддала ведро: всё молоко вылилось в пыль.
Но прошло время и упрямице пришлось смириться, хотя долго еще в ее глазах сидело недоумение.
С выгона Мишка обычно возвращался не торопясь и где-то на полпути делал остановку для отдыха, сходил с дороги в сторону, ставил на ровное место ведро с молоком и ложился на траву. Высокое небо над ним было пустым, бездонным, воздух над разогретой степью горяч и дрожал прозрачным студнем, и высоко в ласковой синеве беззвучно трепетал крыльями жаворонок.
Приморившись, Мишка иногда засыпал под настороженный посвист сусликов, а подремав немного, поднимался и шел дальше. Скучно было одному преодолевать однообразный, знакомый до мелочей путь.
А недавно у него нечаянно появился добровольный провожатый – шестилетний соседский пацан, Ванятка, сын дяди Пантелея. Произошло это после случая на пустыре. В тот раз собралась там сборная компания: из-за линии привел свою ватагу Рваный, прозванный так за надорванную мочку уха – то был след разорвавшегося в руках найденного запала от мины. Из-за нехватки игроков футбольная встреча проходила с одними воротами, в которых стоял Ванятка. Поселковые повели в счете, и Рваный вдруг заподозрил вратаря в том, что он нарочно пропустил мяч, чтобы подыграть своим. Он подошел к Ванятке и, не говоря ни слова, понизу подсек его ногой, сшиб на землю да потом еще поддал ногой в бок.
Мишка вступился за малого – пришлось драться с Рваным по всем правилам, пока их не растащил Сергей Найденов, Мишкин одноклассник. Мишка ушел домой с расквашенными в кровь губами и подбитым глазом – похоже, ему больше досталось. А Ванятка, перепуганный тем, что из-за него всё вышло, – дал стрекача.
Но на следующий день, отправившись в очередной поход к Модистке, Мишка заметил, что за ним, на одном и том же расстоянии, движется незадачливый вратарь. Мишка, хохоча, подозвал его, и они пошли рядом – так было положено начало дружбе, для которой разница в возрасте не имела большого значения.
2
Отец Мишки Кораблева не вернулся с войны, потому и остались они с матерью вдвоем. Великая беда, смерчем пройдя по земле, отняла у них главу семьи, оторвала от родных мест и забросила сюда, в небольшой пристанционный поселок в степном краю у Дона – в деревянный домишко, в котором они заняли комнату с отдельным входом. От прежнего жильца достался им еще сарай во дворе. Там раньше хранились дрова, но после того как в поселке провели паровое отопление, сарай сделался как будто вовсе не нужен. Вот тогда Мишкина мать по старой своей деревенской привычке и возмечтала завести корову и долго копила деньги, прежде чем во дворе объявилось еще одно живое существо.
Двор, образованный составленными по периметру сараями, – этот пыльный кусочек вселенной, – жил привычной обыденной жизнью, и каждый обитатель его выполнял свою, назначенную ему роль.
Усталый, чумазый – голубые глаза ярко выделялись на его темном лице – паровозный машинист в черной лоснящейся тужурке, с чемоданчиком в руке, проходил через двор и скрывался за дверью своей квартиры, чтобы появиться через какое-то время чистым и отдохнувшим. Он был здесь редким посетителем, на работу уходил, как правило, на несколько дней, а возвращаясь, больше отсиживался дома. Чаще во дворе бывала его жена, тихая, молчаливая женщина, всегда озабоченная то кормежкой кур, которых она держала, то стиркой, то озорством трех своих мальцов-погодков, старшему из которых было четыре года. Мальчишки были с вечно мокрыми носами и феноменально похожи один на другого: синеглазы, курносы и одинаково неровно острижены ножницами. Держались они вместе, словно соединенные одной невидимой бечёвкой, и самый младший, семеня сзади неверной походкой, всегда торопился не отстать от братьев. Одежонка, доставшаяся ему по наследству от старших, болталась на нем, он то и дело подтягивал штаны. Оба младших во всем подражали старшему.
Кроме братьев, были тут еще постоянные дворовые жители. Едва ли не под ногами у братьев и совершенно игнорируя троицу, лениво прохаживались или самозабвенно барахтались в пыли куры. Иногда они устраивали настоящие куриные демонстрации: по резкому гортанному крику красавца петуха, вытянувшись за ним в колонну, они неслись к раскрытой двери сарая. Переполох объяснялся просто – в безмятежном небе вдруг обнаруживался степной коршун. Невозмутимый Жмурик, презрительно щурясь, свысока посматривал на кур зеленым глазом с крыши сарая («я, конечно, воспитан, но это не значит, что кое-кому можно меня совсем не замечать»).
По вечерам во дворе появлялись белая тонконогая коза и Модистка, но они долго не задерживались, расходились по своим «квартирам».
Во всем поселке было еще несколько коз, коров не держал никто, и, когда у Кораблевых появилась телка, среди местных жителей поползли разговоры. Как же, из старожилов здесь ни один не завел корову, а Кораблева не успела как следует обжиться и туда же… Мишке тоже досталось: кое-кто из пацанов, с которыми он гонял мяч, прозвал его «коровьим начальником». Он молча игнорировал насмешки – знал бы кто, что она такое, Модистка!
А из ближнего окружения особенно распалялась тетка Настасья – появление коровы рядом, по соседству с ее козой, она восприняла как личное оскорбление.
3
Шло время, и в поселке попривыкли к Модистке, привыкла как будто и тетка Настасья. Однако, когда она узнала, что Ванятка ходил с Мишкой на выгон, она пришла в ярость и заперла сына в квартире на целый день.
Сегодня, переделав с утра кое-какие домашние дела, Мишка встретил Ванятку впервые после «ареста». Тот спрятал глаза и так виновато шмыгнул носом, что Мишка не смог удержаться от смеха.
Но разговор их, едва начавшись, прервался – из-за угла дома на весь двор и во всю мощь зычной своей глотки дядя Пантелей зачинал свою любимую: «И-эх… дороги, пыль да ту-у-манн».
Отец Ванятки был мастером своего дела – он шил костюм даже самому начальнику станции, – но жизнь дяди Пантелея была поделена на периоды. Неделю-другую он работал, почти не показываясь, но потом вдруг у него начинался запой – сейчас был как раз такой период – и тогда никому прохода не было: во дворе только и слышались его сиплый голос и причитания тетки Настасьи, в очередной раз прощавшейся с «иродом» и «кровопийцей». В такие дни дядя Пантелей вывешивал на грудь все свои награды и размашисто прыгал по двору на своей деревяшке с таким видом, будто он командовал войском. Удивительное дело: чем сильнее он напивался, тем труднее ему было управиться со здоровой ногой – и было похоже, что как раз деревяшка удерживает его в вертикальном положении и спасает от падения.
Однажды он схватил подвернувшегося под руку Мишку за плечо и задал ему такой вопрос:
– Вот ты мне скажи – кто ты есть?
И не дожидаясь ответа, выдохнув Мишке в лицо вместе с перегаром «Ты есть человек!» – легонько оттолкнул его от себя, выровнялся на деревянной ноге.
– А я вот был до войны… да весь вышел, да.
В такие дни сын его прятался от отца где придется, и теперь, заслышав трубный голос, распевающий песню – так зайчишка, наверно, слушает звук охотничьего рога, – он умоляюще заглянул Мишке в глаза.
Мишка молча потащил его к себе на крыльцо, потом в комнату.
– Ты вот что, Ванятка… посиди тут, а я пойду доить Модистку. Не бойся, я скоро. Можешь брать книжки с этажерки – там есть картинки…
Прихватив подойник и повесив на наружную дверь висячий замок, он отправился на выгон. Там он столкнулся с удивительной вещью. Несмотря на то что Модистке тяжело было стоять (огромные бока ее выдавались наружу – она должна была скоро отелиться), она не ложилась на землю, ждала Мишку и встретила его довольным, ласковым мычанием.
Он подготовил вымя и принялся доить. Звонко запели на дне подойника первые струи теплого молока, потом звук стал глуше и, наконец сделался нутряным, гаснущим во взбитой пене. Модистка, блаженно прикрыв веки, мерно пожевывала…
Но молока было мало, и обратный путь Мишка отмахал, почти не останавливаясь. Ванятку он застал сидящим на сундуке и уткнувшим нос в книгу – он изучал рисунки так внимательно, будто намеревался запомнить их на всю жизнь.
Мишка развел примус, нарезал вареной картошки и слегка обжарил ее на сковородке до оранжевой корочки. Потом высыпал картошку в большую миску, накрошил луку и щедро полил всё постным маслом. И они с Ваняткой знатно пообедали, завершив трапезу кружкой молока с черным хлебом.
Потом вышли из дому и улицей, минуя двор, по ближайшему проулку прошмыгнули к пустырю.
До вечера была уйма времени и впереди был футбол – для любого пацана что может быть прекраснее? И что за беда, если под ногой вместо настоящего – вытершийся, омытый всеми дождями, обесцвеченный резиновый мяч, отзывающийся на удар утробным, ёкающим звуком? Поглядели бы вы, как он влетает в самодельные – из воткнутых в землю прутьев – ворота!
4
Поселковые проигрывали, счет уже был ноль – три, и Мишка знал: еще один гол – и тогда уже не отыграешься. Вместе с Сережкой он пытался завести ребят, но игра не клеилась. Пройти дальше середины поля удавалось нечасто, мяч перехватывали, и начиналась лихорадочная суета возле своих ворот.
Мишка нервничал, поглядывая на солнце, – оно опускалось всё ниже, а ему надо было успеть до возвращения стада сходить за повиликой (километр – до лесопосадки, километр – обратно, да там час провозишься, набивая мешок). Проводив взглядом мяч, выбитый далеко за пределы поля, он собрался уходить. Запаленно дыша, к нему подбежал Найденов.
– Слышь, уйдешь – нам хана… Ну это ж смех, Мишка! Цельный день она в поле, не помрет один раз без травы твоя корова…
Мишка оглянулся (Рваный-то: руки в карманах клешей, кепка-восьмиклинка спущена до бровей, рот до ушей – небрежно поплевывает сквозь зубы, довольный) – и остался. Не было никаких сил бросить своих ребят.
И словно чудо свершилось. Серега прорвался к штрафной и, видя, что ему не пройти, с ходу ударил. Мяч застрял в ногах Рваного – тот завалился на спину, оступившись, – а после выкатился тихонько в сторону ворот, на миг игроки его потеряли из виду. Это было потрясающе: мяч видели только Мишка – его даже озноб пробрал – да ихний вратарь, но ему уже было не успеть. И Мишка врезал – мяч пошел как по струне, вратарь даже не шелохнулся…
Это был перелом. Почти сразу же Серега один за другим забил два мяча, ребята воодушевились и разгромили «железнодорожных».
5
Встретив Модистку из стада, Мишка дал ей побольше хлеба, но, когда закрывал дверь сарая, поймал ее обиженный взгляд.
– Ладно-ладно, бочка бездонная, – пробурчал он сердито. – Завтра получишь свою траву…
Дома он наскоро поужинал и взял с этажерки «Зверобоя». И так углубился в книгу, что забыл обо всём на свете. И когда открылась дверь и он увидел на пороге моргающего на электрическую лампочку Ванятку, Мишка не сразу пришел в себя.
С волнением солдата, доставившего полководцу важную новость, Ванятка сделал движение рукой в сторону:
– Там это… На двор я пошел, а дверь открыта, и в сарае пусто…
Мишка похолодел – вспомнил, что забыл закрыть наружную задвижку. Модистка – уж это она умела – поддела, видно, рогом щеколду и вышла из сарая. Он опрометью выскочил наружу и бросился со двора.
– А ты домой давай, домой! – прикрикнул он на бегу, заметив, что Ванятка припустил было за ним.
Разлитая вокруг тьма будто придавила весь мир и лежала тяжелым густым слоем. Над крышами домов яркие звезды прокалывали ее полотно, и от этого всё, что было внизу, у земли, казалось еще чернее. И черно и страшно было на душе у Мишки – ему мерещился кто-то с вилами, заставший Модистку у своей копны сена.
Он не знал, что уже разминулся с Модисткой и бежал теперь напрасно и что вообще было уже поздно и бежать, и терзаться переживаниями.
Объездчик, возвращаясь с полей домой позже обычного, обнаружил ее за потравой набиравшей силу озими. Рванув поводья, он налетел на корову на всем скаку и погнал ее, охаживая кнутом, вдоль дороги. Он видел, что корова стельная, что ей бежать тяжело, но от этого странным образом зверел еще больше и вкладывал в удар всю свою силу. Корова, кося распахнутым от боли и страха глазом, вздрагивала под кнутом всем телом и прибавляла бег из последних сил. Так, матерясь и злобно скаля зубы, верховой догнал ее до первых домов поселка, где и нашел ее не послушавшийся Мишку Ванятка.
Когда Мишка вернулся, на дворе стоял истошный крик тетки Настасьи, которая в сильных выражениях проклинала корову («чтоб она сгинула, проклятая»), соседей («малое дитя заставляют»), Ванятку («еще раз увижу – прибью»), свою жизнь («да что ж за несчастная я – сгубила свою молодость») и вообще весь белый свет.
Мишка подождал, пока хлопнула дверь и всё стихло.
Модистка уже была в сарае, и он постоял в темноте, со страхом слушая ее тяжкое шумное дыхание, потом сбегал за спичками. Желтый огонек выхватил из темноты огромные влажные глаза Модистки и погас. Мишка зажег еще одну спичку, увидел исполосованную кнутом спину…
Ночь он провел в полусне и слепой, ничего не признающей надежде, что всё обойдется, что при белом свете дня всё будет по-другому. И он был уже на ногах еще до звонка будильника. Как обычно, – в такое утро, когда матери нет дома, – он должен был подоить Модистку и проводить ее в стадо. Теперь он, внутренне сжавшись, подходил к сараю.
Модистка лежала, уронив голову на солому. Хриплое дыхание ее, начавшись где-то в глубинах ее чрева, с клокотанием, свистом и бульканьем трудно выходило наружу, истаивало, замирало…
Мишка кинулся бегом на станцию.
К концу дня всё было кончено. У Модистки случились преждевременные роды – двойня, после чего она уже не могла подняться. Вызванный матерью ветеринар велел прирезать корову, и, услыхав об этом, соседки попрятали по домам своих детей.
Словно тень огромного черного крыла прошла над двором – наступила настороженная давящая тишина. Сбившись в одну плотную кучку, вытянув шеи, безмолвно стояли возле своего сарая куры. Жмурик со вздыбленной шерстью, дико сверкнув глазами, спрятался под крыльцо.
Приехавшие на грузовике мужики погрузили Модистку в кузов и закрывали борта. В оцепенении, как в страшном и ярком, запоминающемся навеки сне, Мишка увидел заляпанные грязью и кровью доски, безжизненно откинутую голову Модистки и ее тусклый, остекленелый и как будто удивленно глядевший на него, Мишку, глаз.
А в углу сарая на сухой подстилке лежали два совсем махоньких теленка, мокрая свалявшаяся шерстка их была бурого цвета с черными, глянцево блестевшими пятнами. Один из них силился поднять голову, но это ему плохо удавалось. Мать, стоя перед ними на коленях, снизу ладонью подхватила его за шею. Она плакала, и слезы капали на ее руку, на круглую мордочку теленка. Неожиданно он поймал губами руку матери и, торопясь, причмокивая, принялся сосать палец, омытый солеными слезами.
У Мишки вдруг закружилась голова и к горлу подступила тошнота, он двинулся вдоль стены сарая, хватаясь за шершавые доски. Горячая пелена накрыла его глаза, и контуры соседних построек размылись, помутнели, как это бывает, когда смотришь на мир сквозь кисею мелкого, как дым, дождя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!