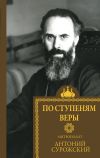Текст книги "Годы жизни. В гуще двадцатого века"
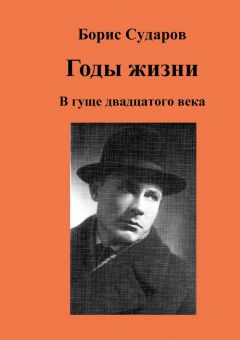
Автор книги: Борис Сударов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
* * *
Ранним утром в начале августа мы прибыли, наконец, в пункт назначения – город Чкалов.
По распоряжению местных властей эвакуированных ждали уже колхозные подводы. На одну из них мы погрузили свой жалкий скарб, сами сели и отправились в неизвестность.
Поздним вечером въезжали в глухую уральскую деревню Сенцовка, где правление колхоза определило нас на квартиру к пожилой супружеской паре. Хозяева любезно предоставили в наше распоряжение маленькую каморку с полатями во всю ее ширину.
Стояли жаркие дни. Не желая лишний раз беспокоить хозяев, мы не торопились селиться в своей каморке, а расположились в сарае на сеновале.
Была решена проблема питания. В счет будущих трудодней мы получали в правлении хлеб и молоко. Молоко, правда, сепараторное. По нынешним меркам – однопроцентной жирности. Но мы были рады и этому.
Пока активная уборочная кампания не началась, для нас работы в поле не было.
Как-то в деревню приехал топограф, в помощь которому надо было выделить человека. И жребий пал… на Еву.
Папа с мамой засомневались, можно ли ее, девчонку, отпускать в степь с незнакомым молодым мужчиной.
– Ладно, папа, я поеду, – сказала Ева. – Ничего со мной не случится, не волнуйся.
Но, когда через три дня вернулась, она заявила, что больше в степь с этим мужчиной не поедет.
Беспокойство мамы с папой было, видимо, не напрасным.
Я очень скоро перезнакомился с местными ребятами и девчонками, ходил с ними на вечерние посиделки, которые устраивались на краю деревни. Там играла гармошка, девчонки пели какие-то незнакомые мне песни, частушки, у всех в кармашках были семечки, с которыми они ловко расправлялись.
Рядом со мною всегда оказывалась рыжеволосая, симпатичная Раечка, которая уделяла мне внимание, угощала семечками.
Трактористы, работавшие в поле, встретили там однажды незнакомого парня. Когда спросили его, кто он и как оказался в степи, незнакомец молчал, ни словом, ни мимикой не реагировал на вопросы. Это насторожило трактористов, и они привели его в правление.
Старик, участник Первой мировой войны, побывавший у немцев в плену, решил, что это может быть шпион. Зная несколько слов по-немецки, пытался что-то прояснить, но тщетно. И тогда в помощь старику позвали меня.
Мы сидели с ним вдвоем, пытаясь добиться от незнакомца хоть слова. Но он молчал.
Правление, между тем, окружила толпа любопытных. Толкая друг друга, взрослые и дети заглядывали в окно. Сенсация! Поймали шпиона! Поймали дезертира!
После звонка в район, оттуда вскоре пришла машина, парня увезли. Кто был этот странный незнакомец, мы так и не узнали.
Но я стал местной знаменитостью.
* * *
Приближалась осень. Утешительных известий радио не сообщало. Оставаться на зиму в этой глухой деревне, в ста километрах от железной дороги не хотелось. Здесь не было простейшего медпункта, врача, школы.
И вот тогда папа с мамой решили, что нам надо перебираться в большое село Буланово, где все это было.
По приезде туда, мы с папой отправились искать квартиру. Но везде получали вежливый отказ. По совету эвакуированных, ранее обосновавшихся здесь, мы направились в правление местного колхоза. И нас сразу определили на квартиру, где жила довольно большая семья: старики-родители, их дочь с мужем и четырехлетней девочкой.
Нам выделили темную, маленькую каморку с полатями для сна во всю ее ширину, как в Сенцовке.
Рядом на полу находились наши вещи, в том числе увезенный из Мстиславля мешок с мукой. Наш «золотой запас».
Однажды ночью я проснулся от непонятной боли в ухе, в котором что-то неистово тарахтело. Я испуганно заметался на полатях, потом соскочил на пол и волчком завертелся, схватившись за ухо.
Все в доме проснулись, переполошились.
– Ну-ка, наклони голову! – на пороге каморки стоял в одних трусах старик-хозяин. В руках он держал стакан с водой.
– Подставляй ухо. Смелей, смелей! Нальем туда малость воды, и клоп, как ошпаренный, выскочит оттуда.
Я подставил ухо, старик плеснул туда немного воды.
– Теперь попрыгай, выливай воду! – командовал старик.
Я покорно следовал указаниям хозяина, и клоп действительно вскоре вместе с водой выскочил из уха. Постепенно все угомонились, и дом вновь окутала привычная ночная тишина.
Утром мы узнали о другой неприятности, связанной с ночным происшествием.
Нашу каморку освещала бутылочка с керосином и фитилем, которая стояла на маленькой полочке, укрепленной на стене. От испуга, ночью вскакивая, я в темноте задел рукой эту бутылочку. Она упала прямо на мешок с мукой. Испеченный из нее хлеб есть нельзя было, но мы ели. Давились, но ели.
В Буланове я однажды неожиданно встретился с рыжеволосой Раечкой из Сенцовки. Хозяева, у которых мы остановились, были ее родственниками, и она навещала их. Меня она опять угощала семечками.
Вообще, семечки – это национальное лакомство у местного населения. В Буланове, помню, по вечерам вся семья усаживалась вокруг огромного таза с семечками и до ухода ко сну опустошала его. Шелуху сплевывали прямо на пол. Меня ни разу не приглашали в свою компанию. Проходя мимо, я только по-детски облизывался.
С первого сентября, как в доброе мирное время, начались занятия в школе. У меня не было ни учебников, ни тетрадей. За помощью я обращался к местным ребятам.
Домашние задания мы обычно готовили вместе с Олегом Хованским, жившим по соседству. О нем у меня остались самые приятные воспоминания.
Я окончил седьмой класс с отличными оценками. Только по Конституции в аттестате стояло «хорошо». Этот предмет преподавала у нас пожилая еврейка, эвакуированная с Украины. Вид у нее был, прямо скажем, незавидный, неряшливый. Ребята подшучивали над ней, дисциплина на ее уроках оставляла желать лучшего. И в конце учебного года она отыгралась на нас. Отличные оценки поставила только двум девчонкам-тихоням.
Как-то в очереди за бесплатной баландой, которую порой выдавали эвакуированным в местной столовой, папа оказался рядом с ней и спросил про меня.
– Это ваш сын? – удивилась она. – Вот не знала.
Если бы знала, подумал я сейчас, наверное, поставила бы мне отличную оценку.
В начале 1942 года по комсомольской мобилизации Ева уехала в Новотроицк на строительство металлургического комбината. Мы остались втроем.
* * *
Как-то по радио я услышал о наборе ребят, окончивших семь классов, в специальную артиллерийскую школу. Посоветовавшись с папой, я решил поступать в эту школу.
Из Буланова в Чкалов ходили грузовые машины, водители которых за определенную плату брали пассажиров. И вот жарким июльским днем мы стояли с папой на остановке. Не без волнения, как я позже понял, папа провожал меня в дорогу.
В узелке у меня было немного хлеба и чекушка водки, чтобы при надобности задобрить водителя. Горячительные напитки тогда высоко ценились. В свободной продаже их не было. Уж не знаю, как эта чекушка оказалась у папы.
До Чкалова было довольно далеко. Мы выехали в полдень, а в город въезжали поздним вечером, было уже темно. Пассажиры постепенно отпочковывались, где кому удобно было.
– А тебе, парень, куда надо? – спросил меня шофер, когда кроме меня в кузове никого не осталось.
Я назвал адрес женщины, который дала мне хозяйка дома в Буланове.
– О, это где-то на другом конце города, – сказал шофер. – Поедем-ка, друг, ко мне. Переночуешь, а утром уж пойдешь к своим знакомым.
Другого выхода у меня не было. Искать ночью в темноте, в незнакомом городе нужную мне улицу я не рискнул. И принял предложение водителя.
Жена шофера, полная, грудастая женщина сочувственно отнеслась к нежданному позднему гостю, пригласила к столу. Вкус поданной ею на огромной сковороде картошки, жареной на сале, я еще долго потом ощущал во рту. Такого сочувствия со стороны незнакомых мне людей в трудные военные годы сейчас не припомню.
Утром я сразу направился по указанному в объявлении адресу, где располагалась приемная комиссия спецшколы. Зачисление в это полувоенное учебное заведение прошло быстро, без осложнений. Осмотрела меня врач, симпатичная женщина, потом по математике что-то спросили; попросили сформулировать теорему Архимеда «на погруженное в жидкость тело»…
Сказали, что школа будет располагаться в селе Илек, на берегу Урала, отъезд туда ориентировочно назначен на начало августа, точнее мне заранее будет сообщено.
Делать мне в Чкалове больше нечего было, и я решил возвращаться. Выйдя на шоссе, стал голосовать. Попутная машина подобрала меня лишь во второй половине дня, и в Буланово я приехал на следующий день рано утром. Все еще спали. Не спалось только папе.
Я заметил его издалека, подходя к дому. Он сидел на скамейке и курил махорку, которой его изредка угощал хозяин. Подойдя ближе, я увидел в его глазах слезы: он тревожился за меня, две ночи не спал и вот сейчас расслабился.
Заканчивался июль, а из Чкалова никаких вестей не приходило.
В начале августа из Новотроицка приехала Ева. Она решила всех нас забрать к себе. Правление колхоза и особенно хозяева дома, которые нас приютили, были этим очень довольны. Для проезда до Чкалова нам любезно предоставили транспорт в одну лошадиную силу.
И вот погожим августовским днем, погрузив на телегу свои нехитрые пожитки, мы отправились в путь. Молодая лошадка безропотно тянула нагруженную телегу. Во второй половине дня мы остановились на обочине дороги, чтобы перекусить и дать отдохнуть коню. Мама оставалась сидеть на возу.
Вдруг лошадь, испугавшись проезжавшей машины, понеслась по дороге. Мы с папой бросились за ней. Она остановилась только тогда, когда телега перевернулась, и вещи вместе с мамой полетели на землю.
– Ничего, ничего, все хорошо, – поспешила нас успокоить мама, когда мы подбежали к ней.
Поздним вечером, неподалеку в степи, мы остановились на ночевку. Папа стреножил коня и пустил его пастись. Перекусив чем бог послал, мы расположились у телеги на еще не остывшей после дневной жары земле и вскоре уснули.
Проснулись, чуть стало светать. Папа первым делом глянул, где лошадь. Вблизи ее не оказалось. Углубились в степь, но и там ее не обнаружили. Мы все всполошились, наконец, в сером утреннем сумраке, километрах в двух от нашей стоянки, мы с папой увидели нашего коня. Видимо, папа неумело его стреножил и он, освободившись от пут, пошел бродить по степи, с аппетитом пощипывая сочную зеленую травку.
Часа в два мы въезжали в Чкалов. Остановились на постоялом дворе, который колхоз специально содержал для нужд своих людей, по разным делам приезжавших в город.
Я сразу пошел выяснять, когда школа выезжает к месту своего пребывания. Оказалось, отъезд назначен на завтра.
Сейчас пишу эти строки и невольно думаю: как много в жизни может значить Его величество случай. Случайно я услышал по радио о наборе в спецшколу, теперь вот, случайно оказавшись в Чкалове, узнал, что завтра школа выезжает в Илек. Не будь этих двух случайностей, совсем по-иному могла сложиться моя жизнь. Лучше или хуже, но не так, как она сложилась.
На следующий день, не без слез, я прощался с родителями.
– Глупенький, что ты плачешь? – улыбаясь, сказала Ева.
– Да, тебе хорошо. А мне теперь, когда еще доведется увидеть папу с мамой? – ответил я, вытирая глаза ладонью.
Детское сердце чувствительно, его не обманешь. Через полгода папы не стало. Он скончался в Чкаловской больнице в апреле 1943 года. Ева о том не сообщила мне, не хотела травмировать детскую душу. Написала только, что папа в больнице, чтобы я больше не писал письма на его имя, так как их ей не будут отдавать. Я догадывался о случившемся, но еще на что-то надеялся.
В спецшколе
Школа, в которой мне предстояло провести следующие два года, была эвакуирована в Чкаловскую область из Киева. Ее первые две батареи комплектовались еще там, на Украине. И по своим моральным качествам украинские ребята резко отличалась в лучшую сторону от ребят нашей, третьей батареи, которая формировалась уже здесь, на Урале. Состав ее был весьма разношерстный: наряду с эвакуированными ребятами в ней было много местных – чкаловских и из других соседних городов, среди которых выделялась небольшая группа шпанистых, жуликоватых парней. С одним из них мне довелось «познакомиться» в первый же вечер после прибытия в Илек.
Тогда, после утомительного восьмидесятикилометрового перехода всех ребят пригласили на ужин. В самом его начале, когда в столовой ненадолго вдруг погас свет, какой-то ловкач стянул у меня кусок хлеба, который лежал рядом с тарелкой.
– Ты, что ли, хлеб взял? – обратился я к соседу – лобастому парню, сидящему рядом.
– Какой хлеб? – удивленно выпучил бесцветные глаза сосед, нагло глядя на меня, – Хм, хлеб кто-то у него взял, – уже явно переигрывая, добавил он, уставившись в свою тарелку и косо поглядывая на меня.
Его по-воровски бегающие глаза говорили о многом, но я не стал больше с ним говорить. Не буду же я тут, в столовой, выяснять отношения из-за какого-то куска хлеба, ставить себя в смешное положение перед незнакомыми людьми.
«Так тебе и надо, – с укоризной подумал я про себя, – В следующий раз рот не разевай!».
После ужина всем были розданы постельные принадлежности. Каждый получил одеяло, две простыни и матрасник с наволочкой, которые предстояло набить соломой. Стог ее стоял у края двора. В лучах заходящего за горизонт огненного солнечного шара он высился в сумерках, словно вылитый из бронзы монумент.
Жить нам предстояло в помещениях местной школы, которую в связи с этим перевели куда-то в другое место. В основном двухэтажном здании разместили первую и вторую батареи. Нашей батарее предоставили оборудованный для проживания спортивный зал: здесь были установлены двухэтажные нары, в углу стояла огромная, до самого потолка, круглая, обитая черной жестью, печь.
Раньше других забежав в свое помещение, я на облюбованное мною место у печки положил одеяло и простыню, а с матрасником и наволочкой направился к стогу соломы. Там уже копошилась толпа ребят. Тесным кольцом окружив стог, пыхтя и фыркая от пыли, они старательно набивали соломой свои матрасы и наволочки.
Подойдя поближе, я в нерешительности остановился: сквозь плотный заслон пробиться к стогу было непросто – места покидавших это живое кольцо, словно оно было из воды или теста, моментально заполнялись другими. Заметив, наконец, в этой сплошной стене человеческих тел появившийся на мгновенье просвет, я юркнул в него, присел на колени и стал заполнять матрасник и наволочку жесткой, колючей мелко нарезанной соломой.
– Потуже набивай, – советовал сидевший рядом на корточках рыжий парень, – через месяц вся эта солома превратится в труху.
Прислушавшись к совету, я затолкал в матрасник еще немного соломы, ногами утрамбовал ее, добавил еще, затем встал, взвалил матрас за спину, взял в руки подушку и пошел в свою батарею.
Войдя в помещение, еще с порога увидел, что мое место уже занято. На туго набитом круглом, как рядом стоящая печь матрасе, возлежал мой недавний знакомый, лобастый блондин, который за ужином в столовой сидел рядом со мною. Заложив руки за голову, он неуклюже вертел задом, пробуя, удобно ли будет ему спать на своем матрасе.
– Что ж ты занял мое место? – Я остановился перед ним, снял с плеча матрас и поставил его на пол.
– Чего-о? – зло нахмурив брови, вызывающе спросил лобастый.
– Здесь лежали мои постельные, – сказал я.
– Ничего не знаю, место было свободное.
Я стоял в нерешительности, не зная, как поступить: уступить или нет.
– … а твои шмотки, – продолжал лобастый, – вон где.
Он кивнул в сторону, где у самого окна на нарах лежали мои вещи.
Мне не хотелось уступать, но и ввязываться в драку я тоже не решался. Лобастый был явно сильнее меня.
Я положил матрас с подушкой на свободное место и вышел во двор: хотелось побыть одному, остыть, успокоиться после неприятного разговора с этим вороватым субъектом.
Был теплый летний вечер. Солнце уже закатилось за горизонт, и на свою космическую вахту заступила луна.
Я бродил по темному опустевшему двору, перебирая в памяти все, что случилось за минувший год со мной, с нашей семьей.
Как там мама с папой, как Ева? Я присел на какое-то бревно у забора, задумался, что ждет меня здесь, в этом чужом для меня окружении?..
* * *
Наступил сентябрь. Однако занятия, против ожидания, не начинались, школа готовилась к зиме: утеплялись жилые помещения, на склад завозились продукты, теплые вещи.
А вскоре вся наша батарея во главе с комбатом – лейтенантом Хруцким выехала на лесозагатовки.
Первый день ушел на обустройство. На возвышенном месте, на небольшой сухой поляне разбили палаточный лагерь, в новые зеленые армейские палатки ребята натаскали сухих сосновых веток, прикрыли их брезентом, поверх положили свои одеяла. Оборудовали палатку для хранения продуктов, место для котла, в отдалении за густым кустарником соорудили нехитрый туалет. Были укомплектованы бригады из трех человек, указаны участки, определена норма.
И на следующий день зашумело, загудело вокруг. Заскрипели пилы, застучали топоры, с треском и хрустом падали деревья, тревожно голосили перепуганные птицы.
К вечеру выяснилось – выполнить норму удалось немногим, не под силу она оказалась и мне. В последующие дни ребята стали ловчить: чтобы штабель был выше и дров казалось больше, сучья на бревнах оставляли подлинней, а в середину штабеля запихивали толстые ветки; некоторые таскали бревна из штабелей, сданных уже накануне.
Во всех этих хитростях особенно преуспевала бригада лобастого, Валерия Курдюкина, которая уже к обеду умудрялась выполнить норму, и отправлялась в лагерь на отдых. На вечерней проверке, когда подводились итоги дня, Курдюкину и его подельникам под дружный хохот всей батареи неизменно объявлялась благодарность.
Доверчивый, как ребенок, комбат и мысли не допускал, что его могут обманывать, и поэтому каждый раз в таких случаях с недоумением смотрел на резвившихся в строю юнцов, вопросительно сверля их единственным глазом (второй он успел потерять на фронте).
«Тут что-то не так, – решил он, наконец, – надо будет посмотреть за работой этих шустрых ребят». Последующие дни комбат постоянно находился в бригаде Курдюкина, даже брался за топор, помогая освобождать стволы деревьев от веток. Но выполнить норму к обеду, как ни старались «ударники», так и не могли. Мыльный пузырь лопнул…
Была та ранняя осенняя пора, когда ночи становились уже все более прохладными, но дни еще стояли солнечные и теплые. Когда листья на деревьях кое-где уже желтели позолотой осеннего увядания, но лес не утратил еще свежести и зеленого убранства, а стал еще более привлекательным.
Я по утрам вставал раньше других, с наслаждением вкушая необыкновенную прелесть лесного аромата, который после спертого воздуха в палатке казался еще более приятным – чистым блаженством, – убегал в чащу и там занимался физзарядкой.
Еще в Буланове у Олега Хованского мне на глаза попалось пособие по спортивной борьбе. И вот сейчас, здесь, в лесу, я пытался освоить отдельные простенькие приемы, о которых рассказывалось в этой книжке.
Заканчивалась третья неделя нашего пребывания в лесу, когда однажды в полдень к нам неожиданно нагрянуло школьное начальство во главе с зампохозом. Нам привезли продукты, газеты, письма. Хозяйственники побывали в рабочих бригадах, прикинули, сколько заготовлено дров, и укатили обратно.
Вечером, вернувшись в лагерь, ребята стали разбирать разложенную на самодельном столике почту.
Я не ждал так скоро писем от своих из Новотроицка и был приятно удивлен, когда увидел на конверте знакомый папин почерк.
Папа сообщал, что они втроем живут пока в огромной – на 70 человек – землянке, но им обещали что-то другое, что он получил деньги за проданные мною домашние вещи, которые я послал им по прибытии в Илек. Еще он посчитал нужным напомнить мне про неприглядный случай с блинчиком, который произошел у меня в Буланове.
…В тот день хозяйка нажарила к обеду блинчики с мясом. Огромная, как тазик, полная миска их стояла на столе в столовой. Проходя мимо, я не мог устоять от соблазна попробовать один блинчик. Старик-хозяин стоял во дворе и через окно видел это.
Вечером с папой они сидят вдвоем в столовой, курят махорку, о чем-то беседуют. Я решил выйти погулять во дворе и, проходя мимо них, услышал ядовитый голос хозяина:
– Ну как, блинчик – вкусный?
Я покраснел, ничего не ответил и вышел во двор. Папа сразу понял, в чем дело. И потом в каморке провел воспитательную беседу со мной.
И вот сейчас, в письме, упомянув историю с тем злополучным блинчиком, он выразил озабоченность моим нынешним поведением.
Ах, папа, честнейший человек! – подумал я. – Ты опасаешься, что я могу не выдержать возникшие трудности и встану на скользкую дорожку. Не волнуйся, я не опозорю своим поведением ни тебя, ни себя.
Примерно так я позже и написал папе.
Начинался ужин. Все устремились к батарейному котлу, где повар разливал уже в протянутые алюминиевые котелки картофельный суп.
Затем под общий одобрительный гул всем было роздано по три блинчика с мясом – подарок труженикам леса от заведующей столовой, привезенный сегодня начальством. Подогретые поваром на костре, горячие и пахучие, они буквально таяли во рту. И ребята, почти не жуя, проглатывали их, до конца как следует даже не прочувствовав их вкуса. Некоторые, желая продлить удовольствие, оставляли третий блинчик, чтобы съесть позже или завтра, бросали его в котелок и уносили в палатку.
Расправившись со вторым блинчиком, я взялся, было, за третий, но остановился. – Какая-то сила удерживала меня от величайшего соблазна отправить его в рот, и этой силой была вдруг возникшая мысль – использовать третий блинчик, как… приманку, на которую можно поймать воришку. Благо, поводов было достаточно.
С некоторых пор в батарее участились случи мелких краж. У кого-то стащили кусок хлеба; Веню Горшкова как-то навещала его мать, эвакуированная с сыном из Севастополя в Чкалов, – привезенными ему гостинцами еще до того, как мы уехали в лес, тоже кто-то поживился.
Я интуитивно чувствовал, что ко всем этим неблаговидным делам имеет отношение мой лобастый «друг» Курдюкин и два его дружка – Митя Дроздов и Паша Макаренко. Но доказательств у меня не было, и я ни с кем не делился своими подозрениями.
И вот сейчас решил пожертвовать блинчиком, чтобы, наконец, выявить воришку. Ополоснув котелок, я у всех на виду положил в него нетронутый блинчик и пошел в палатку; взяв в своем вещмешке огрызок химического карандаша и маленький перочинный ножичек в виде каблучка – его мне подарила в свой последний приезд к нам Рита, – я направился в ближайшие кусты и там, развернув блинчик, настрогал в него карандашную пыль; затем сложил его и, вернувшись в палатку, поставил котелок с приманкой у изголовья рядом со своим вещмешком, небрежно, лишь наполовину, прикрыв котелок крышкой. Теперь оставалось только ждать и гадать, кто же попадется в расставленную ловушку. Сидя с ребятами неподалеку на спиленном дереве, я искоса поглядывал за входом в палатку, видел, как Курдюкин и его дружки заходили туда, но проверив, убедился, что блинчик они не трогали.
Утром глянул в котелок – наживка была на месте. «Неужели зря испортил блинчик?» – подумал я с огорчением.
Я вышел из палатки и, как обычно, после пробежки полчаса занимался гимнастикой и отработкой приемов борьбы. А когда вернулся, первое, что бросилось в глаза, – открытый котелок, крышка валялась рядом.
«Эврика! – мысленно воскликнул я. – Попался голубчик!». Я сразу глянул в угол, где спали Курдюкин и его дружки, но никаких признаков, что отличился кто-то из них, я не отметил; все трое лежали с закрытыми глазами, у всех лица чистые, как у новорожденных. Я окинул взглядом лица других, но чернильных следов ни на одном из них не обнаружил.
«Кто-то взял блинчик, но съесть его не успел, – понял я. – Ладно, подождем».
Я сложил свое одеяло, взял полотенце и вышел из палатки.
Повар уже разжег костер и готовил завтрак; в конце поляны разминался комбат. «Надо рассказать ему про блинчик», – подумал я и подошел к лейтенанту.
– Хм, ну что ж, посмотрим, кто попадется в ваши сети», – сощурив в полуулыбке единственный глаз, сказал комбат, выслушав меня.
Вскоре несколькими ударами в висевшую на суку снарядную гильзу дневальный известил о подъеме. Жмурясь после сна от яркого света, ежась от утренней бодрящей прохлады, ребята лениво выходили из палатки и бежали по утренней росе в дальние кусты, а затем тянулись к прикрепленному на дереве единственному умывальнику.
Один из них, Сережа Деточкин, сутулый, нескладный ленинградец, вытянулся перед стоявшим в стороне комбатом.
– Товарищ лейтенант! У меня кто-то блинчик стащил.
– Хорошо, я разберусь, идите, – только и мог сказать комбат. «Кто же это, черт возьми, промышляет тут?» – подумал он.
Он стоял злой, всматриваясь в проходящих мимо ребят, надеясь на лице кого-то из них найти ответ на свой вопрос. Но перед ним вот уже дважды (туда и обратно) прошла почти вся батарея, а малейшего подозрения никто не вызвал.
Комбат хотел было уже оставить свой пост, когда внимание его вдруг привлек пробегавший мимо к умывальнику Паша Макаренко: губы его, щеки были все в чернилах.
«Наконец-то!» – подумал лейтенант и подозвал Пашу к себе.
– Что это у вас лицо в чернилах? – спросил комбат.
– Не знаю, – с искренним недоумением ответил Макаренко. Он провел ладонью по щекам, потом посмотрел на руку.
– Как же это вы не знаете?
– Не знаю, – повторил Макаренко, еще не догадываясь, что же произошло.
– Ну что ж, тогда я вам объясню. Вы только что там, в кустах, съели блинчик, в который был настроган химический карандаш. Все очень просто, как видите.
Макаренко стоял, опустив глаза, подавленный, не зная, что сказать. Проклятый блинчик! И все из-за Валерки!
Маленького роста (в строю он стоял на самом левом фланге), слабого, его опекали физически крепкие Курдюкин и Дроздов. Все трое были из одного города – Орска. Еще там знали друг друга и здесь держались вместе.
Сегодня утром, когда все еще спали, спрятав головы под одеяла (так теплее), Курдюкин решил пошарить по котелкам, и, поживившись двумя блинчиками, один из них удружил рядом лежащему Макаренко.
И вот сейчас ему надо что-то говорить, оправдываться. А что он может сказать?
– Вы только, это самое, не думайте, – блинчика я не брал.
– Вот тебе раз! Блинчика он не брал!
– Не брал, – упрямо твердил Макаренко.
– Как же он попал вам в рот? Вам что – насильно кто-то его впихнул туда?
Бедный Паша ничего вразумительного сказать не мог. Он стоял, опустив голову, весь вспотевший от волнения, с лицом в чернилах и молчал.
– Ну вот что, Макаренко, у меня нет ни времени, ни желания с вами возиться, – терял терпение комбат. – Или вы сознаетесь во всем и скажете мне всю правду, признаетесь, что и блинчик, и все пропадавшее в батарее дело ваших рук…
– Я ничего не брал ни у кого, и блинчика тоже не брал, – дрожавшим голосом лепетал Паша.
– … Или вы будете за воровство отчислены из школы.
Для Макаренко было самым страшным и самым обидным с такой формулировкой в документах уехать домой; его глаза наполнились слезами, но он никак не мог решиться назвать имя того, кто дал ему этот злополучный блинчик.
Лейтенант интуитивно чувствовал, что он действительно не виноват, что блинчиком его кто-то угостил. Тогда кто же? Им мог быть только Курдюкин, его дружок. Но в таком случае Макаренко должен его назвать.
– Я вас последний раз спрашиваю, Макаренко: если не вы взяли блинчик, то кто вам его дал? Не признаетесь, будете отчислены из школы за воровство.
Макаренко продолжал молчать.
– Ну что, нет мужества назвать имя своего дружка? Это ведь Курдюкин вас облагодетельствовал, не так ли?
– Да, – тихо выдавил, наконец, Макаренко.
Между тем, прозвучала команда старшины приготовиться к утреннему осмотру, и батарея потянулась к месту построения. Проходившие мимо ребята не обращали внимания на комбата и стоящего перед ним Макаренко, – мало ли о чем говорят. Я стоял неподалеку, все видел и слышал, но подходить не стал, – надо будет, – комбат позовет.
Курдюкин же, выйдя из палатки и увидев своего дружка, стоящим перед лейтенантом, насторожился и, проходя мимо, замедлил шаг. Комбат заметил его и подозвал к себе.
– Что же это вы, Курдюкин, друга своего подвели, а?
– Я, а что? Я ничего, – большие на выкате бесцветные глаза Курдюкина под белыми выцветшими бровями и столь же почти невидимыми белесыми ресницами бегали, смотрели то на Макаренко, то на комбата.
– Ну, как же ничего? Угостили вот его блинчиком, а в нем оказалась пыль от химического карандаша. Теперь ваш друг никак не может отмыться. Нехорошо получается, Курдюкин, нехорошо.
– Каким блинчиком? Вот еще новости! До конца не сознавая, что попался, Курдюкин делал вид, будто он не знает, о чем идет речь.
И лишь когда Макаренко, виновато глядя на него, тихо сказал: «Валера, он все знает», – Курдюкин понял, что отпираться бесполезно. Он укоризненно посмотрел на друга, дескать, «Эх, ты!».
Комбат заставил его в то утро перед строем батареи извиниться и дать слово, что больше он вещи у ребят таскать не будет.
А вечером, уже уснувшего Курдюкина разбудил дневальный: «Комбат вызывает».
И как только сонный, встревоженный, он вышел из палатки, на голову ему ребята накинули одеяло, повалили на землю и изрядно поколотили.
Но урока из этого он не извлек. Потом в селе он сменил только объект своего воровского внимания, – стал воровать у местного населения.
Сельчане, надо сказать, в большинстве своем жили довольно комфортно. У всех были добротные дома, многие содержали коров, другую живность. Отсюда – молочные, другие продукты. Сложности были только с одеждой, обувью. До города, где можно было что-то приобрести, – далеко, туда не наездишься.
И ребята, получив военную форму, легко сбывали населению на деревенской толкучке свою домашнюю одежду и обувь, что кстати, сделал и я.
Но Курдюкин с Дроздовым на базаре не появлялись. У них была разработана другая тактика сбыта своих вещей. Они заходили непосредственно в дом своей жертвы. И пока Дроздов торговался в комнате с хозяйкой, Курдюкин шарил в сенях. А там можно было поживиться многим. На полках стояли кубатки (такие глиняные емкости) кислого молока, мясо, сало, масло… Курдюкин хватал что-то и убегал.
Сельчане быстро разгадали нехитрую тактику воришек. И как только на пороге появлялся кто-то из наших, хозяин с кочергой выскакивал в сени…
Курдюкин долго ходил с фонарями под глазами.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?