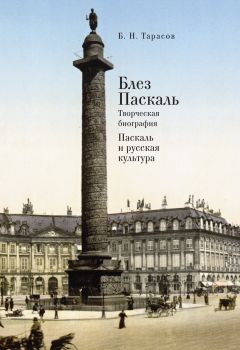
Автор книги: Борис Тарасов
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 38 страниц) [доступный отрывок для чтения: 12 страниц]
Конечно, дуэль – дело дурное, и казуист Наварр придерживается того же мнения: лучше вообще не прибегать к дуэли, а тайком убить своего врага – ведь таким образом не подвергаешь опасности собственную жизнь и оказываешься непричастным к “греху, который совершает наш враг поединком”.
Но ведь это изменническое убийство, восклицает “порядочный человек”. Отнюдь нет, возражает “добрый патер”. Узнайте-ка из Эскобара, что значит убивать изменнически: “Называется убить изменнически, когда убивают того, кто не имел никакого повода опасаться этого. Потому-то и не говорится про уничтожившего своего врага, что он убил его изменнически, хотя бы и напал на него с тыла или из засады”.
Удивленный автор узнает из трудов казуистов, что убийство дозволяется не только при оскорблении действием, но и при простом жесте или знаке презрения, при сплетне (конечно, надо только соответственно направить намерение, оперевшись на правдоподобное мнение ученого, “пользующегося высоким авторитетом”). Движимый всевозрастающим любопытством, он спрашивает у “доброго патера”: “Отец мой, позаботившись так хорошо о чести, не сделали ли вы чего-нибудь и для благосостояния… Мне кажется, что можно хорошо направить намерение и убивать для сохранения его”. Конечно, отвечает “добрый патер”, надо только, чтобы, по Регинальду и Таннеру, “вещь стоила больших денег по оценке благоразумного человека”.
Благоразумные люди встречаются так редко, замечает собеседник, почему же они прямо не назвали суммы? “Как! – восклицает патер. – Вы думаете, легко оценить жизнь человека и притом христианина?! Здесь-то вот я и хочу заставить вас почувствовать необходимость наших казуистов. Поищите-ка у всех древних отцов Церкви, за какое количество денег разрешается убить человека? Что скажут они вам, кроме Non occides! – “Не убий!”?” – “А кто же дерзнул определить эту сумму?” – спрашивает автор. “Наш великий и несравненный Молина, слава нашего общества, – отвечает патер, – по своей бесподобной мудрости он оценивает ее “в шесть или семь дукатов, за которые можно убить, хотя бы похититель и обратился в бегство”. Эскобару эта стоимость кажется почему-то высокой: “Можно справедливо убить человека за вещь стоимостью в один дукат…”.
“Порядочный человек” признается, что он получил “совершенно особые озарения” относительно человекоубийства у дворян и выразил уверенность, что уж служители Церкви наверняка должны воздерживаться убивать тех, кто наносит ущерб их чести или состоянию. “Добрый патер” разубеждает его в этом, напомнив, что главное – направить намерение в хорошую сторону. Так, известный отец Лами пишет в этой связи: “Духовному лицу или монаху разрешается убить клеветника, который угрожает огласить скандальные преступления его общины или его собственные, если нет никакого другого способа воспрепятствовать ему в этом”. А знаменитый защитник “общества Иисуса” Карамуэль своеобразно решает на основе этого начала такой вопрос: могут ли иезуиты убивать янсенистов за то, что те называют их пелагианами? Ответ Карамуэля звучит несколько неожиданно, но закономерно для развиваемой в письме логики казуистов: “Нет, потому, что янсенисты не более затемняют блеск общества, чем сова затемняет блеск солнца; они, наоборот, возвысили его, хотя и вопреки своему намерению”.
Тем не менее, автор письма замечает, что жизнь янсенистов, поскольку она зависит от вреда, наносимого репутации иезуитов, все-таки в небезопасности: ведь “если станет сколь-нибудь правдоподобно, что они вредят вам, их можно уже будет убивать без всякого препятствия”. И вот вывод, который он делает из всего разговора: “По правде говоря, отец мой, все равно, иметь ли дело с людьми, не имеющими вовсе религии, или с людьми, которые обучены в ней до этого направления намерения включительно, так как в конце концов хорошее намерение наносящего рану не облегчает участь того, кто получает ее; он не чувствует этого скрытого направления, а ощущает лишь направление наносимого ему удара. Я не знаю даже, не менее ли досадно быть убитым грубо рассвирепевшими людьми, чем сознавать, что тебя добросовестно закалывают люди набожные”.
В восьмом письме “добрый патер” продолжает знакомить любопытного собеседника с правилами, которые под благовидным предлогом потворствуют продажным судьям, ростовщикам, банкротам, ворам, падшим женщинам. Не упущены из виду и колдуны, которые не всегда обязаны возвращать деньги, заработанные ворожбой: если они прибегали к астрологии, то должны их вернуть (астрология – способ обманчивый), а если пользовались услугами дьявола, то не обязаны, так как с помощью дьявола можно гадать наверняка.
В девятом письме речь идет о различных облегчениях, придуманных иезуитами, чтобы можно было избежать грехов среди сладостей и удобств жизни без всякого труда и напряжения, о правилах, смягчающих и извиняющих зависть, чревоугодие, скупость, честолюбие, различные вольности девиц, светские беседы, интриги и ложь. Удивительно помогает в этом, замечает “добрый патер”, “учение о двусмысленностях” и “мысленных оговорках”, являющееся своеобразной модификацией учения о правдоподобных мнениях и направлении намерения. Вот, например, Санчез утверждает: “Можно клясться, что не делал чего-нибудь, хотя в действительности сделал, имея в виду, что не сделал этого в определенный день, или прежде чем родился на свет, или подразумевая другое подобное обстоятельство. Это очень удобно во многих случаях и всегда справедливо, когда необходимо или полезно для здоровья, чести или благосостояния”.
В конце письма “добрый патер” переходит к облегчениям в исполнении дел благочестия, являющимся, по мнению его собеседника, “наилучшим средством, которое придумали эти отцы для того, чтобы всех привлекать и никого не отталкивать”. По мнению казуистов, не грешно отсутствовать на обедне духом, лишь бы наружно соблюдалось благоговейное положение, при этом можно даже и смотреть на красивых женщин с нечестивым побуждением. Величайшую снисходительность проявляют они и к таинству покаяния, о чем речь идет уже в десятом письме. Если вы совершили тайный проступок и хотите вместе с тем не говорить о нем своему духовнику, чтобы сохранить о себе хорошее мнение, то по совету Суареза можно иметь “двух духовников – одного для смертных грехов, а другого для простительных”.
Легко у них и получить отпущение греха, так как, по отцу Бони, “можно отпустить тому, кто сознается, что надежда на отпущение вовлекла его во грех с большей легкостью, чем если бы он был лишен этой надежды”.
Да и вообще область греха значительно сокращается с помощью “святых и благочестивых хитростей”. Вот, например, такой: “Нельзя назвать ближайшим поводом ко греху, когда грешат лишь редко, например раза три-четыре в год, по внезапному увлечению женщиной, с которой живешь в одном месте”. Более того, по отцу Бони, грех иногда становится добродетелью: “Всякого рода людям разрешается посещать места разврата с целью обращать там падших женщин, хотя и довольно правдоподобно, что они будут там грешить: как не раз уже испытано, что вовлекались во грех видом и ласками этих женщин. И хотя есть ученые, не одобряющие этого мнения и считающие, что нельзя разрешать добровольно подвергать опасности свое спасение для помощи ближнему, тем не менее я охотно принимаю это оспариваемое ими мнение”.
Но это еще не все. Касаясь “самого важного пункта их морали”, автор узнает, что у иезуитских духовников легко освобождаются не только от грехов, но и от любви к Богу. “Когда мы обязаны действительно чувствовать любовь к Богу?” – спрашивает Эскобар. На этот счет у казуистов различные мнения, на любой вкус: перед смертью или на смертном одре, каждый год или раз в пять лет, в праздничные дни и т. п., даже “можно спастись и никогда не любивши Бога”.
Здесь ирония “порядочного человека” переходит в гнев: “Нет такого терпения, которого бы вы не истощили, и нельзя без ужаса слушать вещи, которые я только что выслушал”. “Ведь это же я не от себя”, – поясняет “добрый патер”. “Я это отлично знаю, отец мой, но вы не питаете к ним отвращения; и не только не ненавидите авторов этих правил, но чувствуете к ним уважение… Откройте, наконец, глаза, отец мой; и если вас не трогали другие заблуждения ваших казуистов, пусть эти последние отделят вас от них своими крайностями. Я желаю этого от всего сердца для вас и для всех ваших отцов и молю Бога, чтобы он соизволил научить их, насколько обманчив свет, ведущий к таким пропастям, и чтобы он наполнил своей любовью тех, кто осмеливается освобождать от нее людей”.
После этого автор оставляет патера и не видит более необходимости дальнейших бесед с ним: “Я достаточно читал их книги, так что могу вам рассказать столько же о их морали, а о их политике, может быть, еще больше, чем он сам”. Так автор расстается с “добрым патером”, который помог ему познакомить читателя с общими принципами и многочисленными частными примерами снисходительной морали казуистов. По свидетельству современников, “добрый патер” весьма похож на Эскобара, чаще всего упоминаемого Паскалем. Наивный Эскобар очень радовался, что его имя много раз встречается на страницах “Писем к провинциалу” и что резко повысился интерес к его сочинению (в 1656 году срочно выпустили новое издание). “Популярность” Эскобара благодаря Паскалю стала настолько высокой, что с этих пор во французском языке начал свое существование глагол escobarder (“лицемерить”), образованный от его имени.
Казуистика как приспосабливание общих положений теологии, морали и юриспруденции к рассмотрению сложных жизненных ситуаций и конфликтов совести человека сообразно с местом, временем и индивидуальными обстоятельствами не была изобретением иезуитов. Она имела гораздо более древнее происхождение и стремилась разрешать действительно затруднительные для средневекового человека вопросы: можно ли ему поститься при серьезном заболевании, защищаться при нападении бандита, умирая с голоду, взять чужой хлеб, убивать на войне и т. п. Многие из казуистов (например, тот же Эскобар) вели безупречную нравственную жизнь. И Паскаль в “Письмах…” ни единым штрихом не касается их личностей (в отличие от своих противников), а целиком опирается на их труды, которые незаметно превращались в болезненно самоупоенную и крючкотворную софистику. В софистике этой и появлялись чисто иезуитские понятия (наподобие “пробабилизма” или “двусмысленных оговорок”), приводящие через неуловимые различительные тонкости рассуждений и бесконечного дробления целостности восприятия к набору правил для нарушения духа нравственных законов при сохранении их буквы.
Основной порок подобной диалектики Паскаль видел в релятивизации нравственности, в забвении абсолютов в духовном мире человека и разрушении его совести.
Совесть, по Паскалю, дар понимания человеком сообщаемой ему вести о его греховности, вине, духовном несовершенстве. Этот дар превращается в своеобразный орган духовной жизни человека, позволяющий ему различать добро и зло, сдерживать страсти и своекорыстные расчеты, видеть незначительность своих заслуг. Совесть связывает воедино всех людей, выводит их из состояния тяжеловесной эгоистичной замкнутости. Она мучает (это ее основное свойство) человека, мешает ему быть самодовольным и подвигает его на бесконечное совершенство.
Юридическое комментирование казуистами нравственной жизни, оставлявшее как можно меньше места для самостоятельных суждений, вело к тому, что ее центром становилась не совесть человека, а авторитет “важного лица”, “мудрого духовника”. “Важные лица” и “мудрые духовники”, подкладывая “подушки под локти грешников”, тем самым убаюкивали, а в конечном счете и губили свободную совесть, воспитывали безответственность.
Зачем все это было нужно “дружине Иисуса”? Ответить на подобные вопросы стремился Достоевский в “Братьях Карамазовых”. Для “простого желания власти, земных грязных благ“, считает Алеша Карамазов; чтобы дать людям “тихое, смиренное счастье, счастье слабосильных существ, какими они созданы”, признается великий инквизитор. А для этого необходимо успокоить невыносимые муки совести и разрешить несовершенному человеку грех, но только “с нашего позволения”.
Действительно, подобно де Мере, но по-другому и на иной основе “важные лица” и “мудрые духовники” стремились осчастливить своих духовных чад, создав им внешние декорации и “минимум” нравственной жизни за счет потакания “естественному” ходу вещей. “Естественный” же ход вещей вел к тому, что “минимум” сползал до нуля.
Как Паскаль, не занимавшийся основательно теологией, мог так быстро постигнуть основные принципы, тонкости и нюансы моральной доктрины иезуитов? Прочитать столько трудов, выбрать из них необходимое и так ярко подать его? Помогали ему в этом Арно и Николь, снабжая соответствующими сочинениями и цитатами, давая к ним дополнительные комментарии. Николь, вспоминая совместную работу с Блезом, писал, что в его великолепной памяти “вещи запечатлевались лучше слов” и уже никогда не ускользали из нее, будучи хоть один раз схвачены рассуждением. “Меня спрашивают, – говорил Паскаль, – читал ли я сам все те книги, которые цитирую. Я отвечаю, что нет: потребовалось бы провести всю мою жизнь за чтением очень плохих книг, но я дважды прочел старика Эскобара. Что касается остальных, их читали мои друзья; но я не привел ни одного отрывка, не прочитав его сам в той книге, из которой цитировал, и не вникнув в вопрос, которого он касался, а также не прочитав того, что отрывку предшествовало, и того, что за ним следовало, дабы не ошибиться и не процитировать вместо возражения ответ, что было бы несправедливым и достойным упреков”.
А “читать”, “вникать”, “цитировать” становится все труднее из-за постоянно усиливающихся полицейских мер. Паскаль, рискующий, как когда-то его отец, попасть в Бастилию, вынужден переезжать с места на место – в Пор-Рояль, к герцогу де Роаннец, а одно время живет под именем господина де Монса в небольшой корчме “Царь Давид”, расположенной как раз напротив иезуитской коллегии. Еще остававшийся в Париже Флорен Перье также селится в этой гостинице. Однажды Перье посещает его дальний родственник, иезуит Фрета, и сообщает ему, что Паскаля подозревают в сочинении “Писем к провинциалу”. Перье убеждает Фрета, что его зять не имеет к упоминаемому делу никакого отношения. А в это время на постели Перье, едва прикрытой пологом, просушиваются экземпляры восьмого письма. Увлеченный своим рассказом, иезуит ничего не замечает и не чувствует запаха типографской краски, а когда наконец-то уходит, Перье облегченно вздыхает и бежит в комнату Паскаля, жившего этажом выше, и они долго смеются над случившимся.
Со стороны иезуитов письма вызвали множество пасквилей, памфлетов, обвинительных проповедей и речей, в которых анонимного автора называли “безбожником, шутом, невеждой, скоморохом, обманщиком, клеветником, еретиком, переодетым кальвинистом, одержимым легионом дьяволов, сочинителем романов” и т. п., обвиняли в осмеивании священных предметов, в отсутствии любви к ближнему, в несдержанном тоне, искажении содержания выдержек и т. д. Так защищались иезуиты – клеветой на личности вместо примеров и доказательств, обвинениями вместо цитат – и тем еще более дискредитировали себя среди непредвзято настроенных людей.
Следующие шесть писем, которые выходят с 18 августа по 4 декабря 1656 года и в которых “простак” и “порядочный человек” превращаются в гневного проповедника, представляют уже прямой авторский монолог, ниспровергающий несправедливые обвинения иезуитов и осуждающий их клеветнические приемы. “Письма, которые я написал до сих пор, – предупреждает автор, вводя цитату из Тертуллиана, – только игра перед настоящей битвой”. Я еще только забавлялся “и скорее указывал раны, которые можно наносить вам, нежели наносил их сам”. Я просто приводил ваши выдержки, почти не размышляя над ними. “И если они возбуждали смех, то сами предметы их возбуждали его”.
“Меня спрашивают, – говорил Паскаль, – почему я назвал авторов, чьи отвратительные предложения я цитировал. – Я отвечаю, что, если бы я находился в городе, где имеется двенадцать фонтанов, и знал бы наверняка, что один из них отравлен, я был бы обязан предупредить всех не брать воду из отравленного фонтана. А так как можно было принять это за мой чистый вымысел, я был бы обязан как можно скорее назвать того, кто его отравил, чем подвергать опасности целый город”.
Выдвинутое иезуитами обвинение в искажении цитат для Блеза – особенно больное место: “Отцы мои, нет ничего, что я ненавидел бы более, чем малейшее нарушение истины, и потому всегда избегал с особенной заботливостью не только подмены (это было бы ужасно), но изменения или искажения смысла какой-либо выдержки”. Автор приводит спорные тексты и доказывает несостоятельность наветов. (В записях Паскаля есть такой отрывок: “Я один против тридцати тысяч? – Нет. Пусть на вашей стороне будет двор, обман, на моей стороне истина: она – вся моя сила; если я ее потеряю, я погиб. Не будет недостатка ни в обвинениях, ни в преследованиях. Но истина у меня, и посмотрим, кто победит”.)
Методически отпарировав восклицания иезуитов, автор сам переходит в атаку и показывает, что они обвиняют его как раз в том, в чем сами грешат более всего.
По учению иезуитскому можно лгать и пребывать одновременно “в состоянии благодати”. Согласно этому учению клевета – простительный грех, когда речь идет о чести ордена, отождествляемой с честью церкви. А в таком случае можно со спокойной совестью отрицать самые очевидные вещи и оскорблять противников. Однако оскорбления не выясняют разногласий, клевета служит лишь мощным оружием насилия и подавления истины. Но сила этого оружия относительна, подобно относительности “силы” щегольского платья, министерского дворца, устремления к счастью или количественного доказательства. “Страшная это и продолжительная война, – как бы подводит Паскаль итог своей полемики с иезуитами, – когда насилие пытается подавить истину. Все старания насилия не могут ослабить истины, а только служат к ее возвышению”.
Между тем, поправившееся было положение янсенистов опять ухудшается. Подготовлен новый проект формуляра, осуждающего пять положений Янсения, который должны подписать все духовные лица. 16 октября 1656 года папа Александр VII, сменивший Иннокентия X, снова осуждает пять положений, признав их извлеченными из книги Янсения. Хотя булла еще не распространена во Франции, чувствуется приближение новых преследований. В этой обстановке иезуиты усиливают свои атаки, типографии обыскиваются еще усерднее (формы семнадцатого письма после набора восьми страниц пришлось разбить, строчки в конце письма были кривыми, буквы расползались), и королевский духовник, отец Анн(, выпускает брошюру, в которой подробно говорит о пяти положениях и признает янсенистов и автора “Писем…” несомненными еретиками, подготавливая почву для новых гонений.
Семнадцатое и восемнадцатое письма, датированные соответственно 23 января и 24 марта 1657 года, Паскаль адресует уже не всему ордену, а его влиятельнейшему представителю – отцу Анна. “Ваше преподобие, – обращается он с иронией к королевскому духовнику, – если вам трудно читать это письмо, потому что оно напечатано недостаточно изящным шрифтом, вините в этом только самого себя. Я не пользуюсь такими привилегиями, как вы. Вы имеете привилегию опровергать даже чудеса, а я не имею права даже защищаться. Беспрестанно рыскают по всем типографиям. Вы и сами не посоветовали бы мне продолжать писать при таких обстоятельствах; ведь очень затруднительно, когда приходится печатать в Оснабрюкке” (один из городов Германии; чтобы отвести от себя подозрения, издатели часто ставили на выпускаемой продукции названия других городов).
Анонимный автор хочет оградить своих пор-рояльских друзей от нападок и просит не распространять многочисленных наветов против лиц, не замешанных в споре. Он заявляет, что не принадлежит ни к одной общине, ни к отдельным лицам, кем бы они ни были, и один отвечает за свои письма: “Напрасно вы стараетесь задеть меня в лице тех, с кем, по вашему предположению, я нахожусь в тесном союзе. Все влияние, которым вы пользуетесь, бесполезно по отношению ко мне. От мира я ничего не ожидаю и ничего не опасаюсь… Я не нуждаюсь ни в чьем богатстве, ни в чьей власти. Таким образом, отец мой, я неуловим для всех ваших происков. Как ни пытайтесь, вам не удастся подступиться ко мне ни с какой стороны. Вы, конечно, можете затронуть Пор-Рояль, но не меня. Можно выжить людей из Сорбонны, но меня из моего дома не выживете. Вы можете употребить насилие против священников и докторов богословия, но не против меня, так как я не имею этих званий… человек свободный, без обязательств, без привязанностей, без связей, без отношений, без занятий; человек, достаточно знакомый с вашими правилами и твердо решившийся основательно расследовать их, насколько я буду считать себя призванным на это… и никакие человеческие соображения не могут остановить моих исследований”.
Дав себе такую характеристику, автор письма возвращается, по существу, к обсуждению тех вопросов, которые затрагивались в первых трех письмах. Пройдя круг, полемика возвратилась к своему началу. И, несмотря на то, что Паскаль обещал не останавливать своих исследований, “дуэль” с королевским духовником и вообще печатание писем прекратились, хотя существовал набросок 19-го письма, адресованного тоже отцу Анна. Почему это произошло? Возможно, потому, что полемика сделала все, что была способна сделать, и исчерпала себя. Возможно также, что тревожная обстановка и надвигавшиеся репрессии заставили янсенистов избрать тактику молчания. К тому же, далеко не все руководители Пор-Рояля одобряли саму затею публичной перепалки. Так, например, Сенглен и Анжелика Арно считали, что истину следует защищать лишь смирением и послушанием.
Действительно, в интонации “Писем…” иногда встречаются нотки ядовитой иронии, вероятно, внутренне присущие самому характеру Паскаля, не переносившего спокойно ни малейшей фальши в тех вопросах, которые он считал важными для себя и окружающих людей. К тому же Блез – человек активного, так сказать, атакующего плана, чем и объясняется своеобразие “Писем…”, вполне соответствующее, по его мнению, предмету и задачам обсуждения.
Как и во всех своих предшествующих трудах, Паскаль здесь ясен и точен в формулировках, последователен в выводах. Однако в “Письмах…” во всем блеске проявляется и собственно писательское дарование Паскаля, сумевшего мастерски обрисовать несколькими штрихами персонажей и построить диалоги между ними, использовав комедийные приемы, своевременно менять темы, ритм и интонации повествования, общедоступно излагать сложные догматические проблемы, что, по существу, до него не делалось. “Меня спрашивают, – говорил Паскаль, – почему я воспользовался стилем приятным, ироническим и развлекательным. – Я отвечаю, что, если бы я написал стилем догматическим, книгу читали бы только ученые, а они в этом не нуждаются, ибо знают об этом столько же, сколько я. Поэтому я думал, что надо написать так, чтобы мои письма читали женщины и светские люди и уяснили себе опасность всех максим и предложений, которые распространялись тогда повсюду и воздействию которых легко поддавались”. Искусство убеждать и даже побеждать слушателя помогло ему с блеском выполнить поставленную задачу. Но для этого пришлось вложить немало сил. Большой том писем был написан едва ли не за год, и каждое письмо, выпускаемое в среднем с промежутком в две-три недели, он оттачивал до предельной ясности и совершенства и нередко неоднократно переделывал. Впоследствии Арно, отвечая на вопрос знаменитого теоретика классицизма Буало о том, как работал Паскаль над “Письмами…”, вспоминал, что Блез читал готовое сочинение перед большой аудиторией отшельников; если все восхищались, но находился один, кого письмо не затрагивало, Паскаль искал новые варианты, одобряемые единогласно. Буало сравнивал седьмое письмо с дуэлью на рапирах, которая постепенно оживляется, “становится все более блестящей, поднимаясь до головокружительного крещендо. Появляется желание крикнуть: “Задет, задет!””
Влияние “Писем к провинциалу” на последующую французскую литературу огромно: оно чувствуется и в некоторых пьесах Мольера (особенно в “Тартюфе”), и в проповедях знаменитого оратора Боссюэ, и вообще в изменении самого языка, становившегося менее прециозным и тяжеловесным, приобретавшего черты ясности и четкости, которые обыкновенно приписываются французскому духу.
В “Мыслях” Паскаль пишет, что ненавидит равно шутовской и напыщенный слог, который рассчитан на “ухо”, а не на “сердце”; ему не нравятся фальшивые красоты Цицерона, форсированные антитезы, представляющие собой “ложные окна для симметрии”: авторы подобных антитез не говорят правдиво, а лишь “делают верные фигуры”. И хотя, как замечает Блез, для писателя нет никаких общих правил, автор “Мыслей” формулирует для себя некоторые частные установки, от сугубо технических (если в речи встречаются одинаковые слова и невозможно никак их избежать без потерь для ее смысла, то такие повторения не являются ошибкой в данном месте, а, напротив, совершенно необходимы) или более сложных (разный порядок слов дает различные смыслы, а различные смыслы приводят к разному эффекту) до принципиальных: писатель должен понравиться читателю, но делать это так, чтобы приятное (в широком смысле слова, как соответствие вкусу) сочеталось с реальным и вытекало из истинного. Достигнуть всего этого можно лишь при трудноопределимом соединении спонтанного и продуманного, дающем естественный стиль, когда “автор” растворяется в “человеке”. “Люди всегда удивляются и восхищаются, если видят естественный стиль, ибо, ожидая встретить автора, они находят человека”.
Искренность и прямота, простота и ясность, стремление к возможно более точному соответствию различных порядков бытия их словесному выражению – таковы основные эстетические принципы Паскаля-писателя, четко обозначенные в “Мыслях” и характерные для стилистики “Писем к провинциалу”. Эти принципы (правда, на совершенно иной интонационной основе и при решении других задач) еще четче проявляются в стиле главного произведения Паскаля.
В 1657 году разрозненные письма были собраны в сборник, изданный в Кёльне под псевдонимом Луи де Монтальта (более полутора веков они выходили под этим псевдонимом). Фамилия, вероятно, была выбрана не случайно, так как в ней содержатся различные фонетические, морфологические и смысловые намеки на фамилию родственников по материнской линии, на родной город Клермон, на “высокую гору” Пюи-де-Дом. В 1658 году под псевдонимом Гийома де Вендрока Николь перевел книгу Паскаля на латинский язык и снабдил ее обширными комментариями. В 1659 году вышло последнее прижизненное издание “Писем к провинциалу, или Писем Луи де Монтальта к другу в провинцию и к отцам иезуитам о морали и политике этих отцов”. В этом же году стало более или менее широко известно имя настоящего автора. Таллеман де Рео писал, что долгое время сочинитель оставался неизвестным и что он сам никогда бы не заподозрил Паскаля, считая несовместимыми математику и изящную словесность. Ничего не подозревала и бывшая шведская королева Христина, когда, оказавшись в Париже, с любопытством читала наделавшие столько шуму письма: подобно Таллеману де Рео, она не могла и предположить, что их автор – тот самый прославленный ученый, который несколько лет назад так ловко делал ей комплименты и восхвалял империю ума в таком непохожем на “провинциальные” письме.
“Письма…” имели европейский резонанс, но далеко не всеми принимались благосклонно. Еще когда Паскаль работал над последними двумя письмами, “Газета” сообщила, что парламент Экса приговорил первые шестнадцать как клеветнические и опасные для общества к сожжению у позорного столба на городской площади. Издателям же грозили галерой. Но “Газета” ничего не сообщила о том, что вместо “Писем…” сожгли какой-то альманах, ибо никто из судей не захотел отдавать для казни свой личный экземпляр. Вскоре по настоянию королевского совета был сожжен латинский перевод “Писем…”. Продолжались и преследования издателей. Один издатель оказался в тюрьме, другой едва избежал наказания кнутом и был приговорен к пяти годам ссылки. В сентябре 1657 года “Письма к провинциалу” были осуждены папой Римским и внесены в Индекс запрещенных книг. Когда Паскаль узнал об этом, он воскликнул: “Если мои “Письма…” осуждены в Риме, то ведь то, что я осуждаю в них, осуждено и на небе”. Он никогда не раскаивался в написанном и позднее заявлял, что, если бы ему пришлось писать снова об иезуитской морали, он сделал бы это еще сильнее.
Но удар, нанесенный иезуитскому ордену одним из самых мощных его противников, и так был силен. Уже после седьмого письма парижские кюре собрались на свою ассамблею, чтобы рассмотреть вопросы, поднятые в сочинениях неизвестного автора, и осудить либо казуистов, либо их хулителя. В то же время руанские кюре потребовали осуждения нравственных правил иезуитов и просили своих парижских собратьев присоединиться к ним. Осенью 1656 года в Париже состоялся съезд духовенства, созванный по инициативе руанских кюре, на котором говорилось, что чтение иезуитских книг привело слушателей в ужас. “Письма…” вызвали во многих французских городах широкое движение протеста против морали иезуитов. В ответ на это движение в конце 1657 года появилась анонимная “Апология казуистов против янсенистов”, принадлежавшая другу Анна – ректору иезуитского Коллежа де Клермон отцу Пиро. “Апология…” произвела скандал неловкой защитой наиболее уязвимых положений казуистов (о человекоубийстве и т. и.) и клеветой, и парижские кюре постановили представить ее на суд парламента и богословского факультета Сорбонны.
О ней стали с неудовольствием высказываться сами иезуиты, а в 1659 году она была зачислена в Индекс запрещенных книг. В 1665 ив 1679 годах папами Александром VII и Иннокентием XI были осуждены многие из тех положений, которые отмечены Паскалем в “Письмах к провинциалу”. В качестве одного из основных мотивов роспуска (временного) ордена иезуитов в конце XVIII века в папской булле указывалось вредоносное влияние иезуитских казуистов.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































