Текст книги "Господа офицеры"
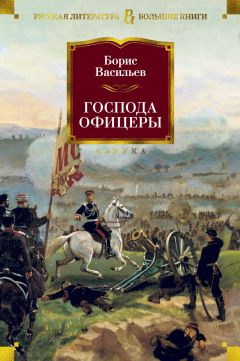
Автор книги: Борис Васильев
Жанр: Советская литература, Классика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 19 (всего у книги 67 страниц) [доступный отрывок для чтения: 22 страниц]
– Так ведь я не Бога православного имею в виду, – улыбнулся капитан. – Вы ехали в Сербию через Будапешт, а я через Бухарест, причем значительно раньше вас. Настолько раньше, что мне пришлось задержаться в Бухаресте. Я скучал, шатался по городу, читал запоем и однажды… – Брянов вдруг замолчал.
– Говорите, я слушаю.
– И однажды выучился читать по-болгарски. И прочитал… новую молитву: «Верую во единую общую силу рода человеческого на земном шаре – творить добро». Ну а раз есть новая молитва, значит есть и новая вера, Олексин. Вера возникает раньше молитв, если это действительно вера.
– И что же дальше в этой молитве?
– Не помню, поручик.
– Не хитрите, Брянов.
– Право, не помню.
– Жаль, – вздохнул Олексин. – То ли мне постоянно что-то недоговаривают, то ли я безнадежно туп и чего-то не понимаю. Жаль!..
Он замолчал. Брянов искоса внимательно глянул на него, сказал негромко:
– Кажется, у вас в роте служит некий Карагеоргиев?
– Да, в болгарском отряде. Вы знаете его?
– Поговорите с Карагеоргиевым об этой молитве, – сказал капитан, так и не ответив на прямой вопрос. – Он более компетентен, нежели я.
– Слушайте, Брянов, зачем вы прячетесь? У вас есть какая-то тайна? Так либо доверьтесь мне, либо не намекайте.
– Не сердитесь, Олексин. – Брянов улыбнулся. – Просто мне не хочется подвергать вас неприятностям, только и всего.
– Каким неприятностям?
Брянов долго шел молча. Поручик не повторял вопроса, но все время поглядывал на командира, чувствуя, что капитан колеблется.
– Как вы считаете, Олексин, справедливо устроено наше общество? Да, мы освободили мужика, мы стремимся дать образование юношам всех сословий, мы учредили гласный суд и самоуправление земства. И все равно богатый помыкает бедным, мужику не хватает земли, а мы, дворяне, пользуемся привилегиями, которых лично не заслужили.
– Это… – Поручик неуверенно пожал плечами и замолчал.
– Это обычно, вы хотели сказать? Но обычай еще не есть справедливость. Обычай может устареть, вам не кажется?
– Я как-то не думал об этом.
– Понимаю. А я думал. И думы эти привели меня однажды к людям, которые думают так же. Кстати, их много, и не только в России.
– Например, мой Карагеоргиев?
– Он многое понял и многое узнал.
– Он не любит русских.
– А вам непременно нужно, чтобы вас любили? – насмешливо спросил Брянов. – Какая девичья обидчивость! Не предъявляйте векселей, которые давно просрочены.
– Батарея, к стрельбе готовьсь! – вдруг совсем рядом почти пропел веселый голос. – Наводить по ориентирам…
– Тревога! – ахнул Брянов и, подхватив саблю, первым бросился наверх, к батарее.
Когда они выбежали на поляну, где стояли пушки, Тюрберт, согнувшись в три погибели, проверял прицел второго орудия.
– Ма-лад-ца! – нараспев с гвардейским шиком кричал он. – Первому расчету по глотку из моей фляжки, а второму аж по два! Сподобились, орлы-орелики!
– Что случилось? – задыхаясь, выкрикнул Брянов. – Турки?
– Турки падают, как чурки, а наши, слава богу, стоят безголо`вы! – солдатской прибауткой ответил Тюрберт и весело расхохотался. – Чего вас принесло, господа пехота?
– А что вы делаете? – спросил Олексин.
– Репете, – пояснил подпоручик; лицо его было в поту, фуражка сбита на затылок. – Отбой, молодцы! Любушек наших помыть, почистить, привести в бальный вид! Гусев, вина дорогим гостям!
Все это рыжий командир прокричал с веселым озорством, и с таким же веселым озорством его артиллеристы принялись драить пушки, хотя пушки прямо-таки сверкали. Под деревьями был расстелен ковер, брошены подушки, появилось вино, груши и виноград. Здесь не было унылых, скучных, даже просто не улыбавшихся лиц: все шутили, смеялись, задевали друг друга, обливались водой, но дело делалось споро и с явным удовольствием.
– Насчет фляжечки не позабыли, ваше благородие? – басом крикнул рослый унтер-офицер.
– Гусев, отнеси ребятам фляжку. Помнить счет!
– Не извольте беспокоиться, ваше благородие! – весело отозвались артиллеристы. – Нам по два, первому по глотку, а третье рукавом утрется!
– Верно! – одобрил Тюрберт, с лёта всем телом бросаясь на ковер. – Располагайтесь, господа, как дома. Пока жарища, попьем винища, а придет холодище – добудем винища. Наливайте, Олексин, что вы на меня уставились?
– У вас ученье? – спросил поручик, разливая вино по глиняным кружкам.
– Хорошо пехоте! – сказал Тюрберт, обращаясь почему-то к одному Брянову. – Нет атаки – суй руки в рукава и дрыхни до побудки. А мы – артиллерия. Мы, господа, первые скрипки той великой симфонии, которая называется войной. И, как всяким скрипачам, нам нужно упражняться. И не менее двух раз в день: на рассвете, когда солнышко нам глазки застит, и на закате, когда оно застит глазки противнику. Дабы не посрамить чести русской артиллерии, за славу которой я, как всегда, поднимаю первый тост. Ура, господа, ура!
Брянов отхлебнул вина, глянул на Олексина, спрятал скользнувшую усмешку. Сказал, помолчав:
– Мне кажется, Тюрберт, что вы приехали в Сербию только из любви к боевым стрельбам.
– Откровенно говоря, да, – беспечно согласился подпоручик, со вкусом – а он все делал со вкусом, – шумно и несколько картинно расправляясь с грушей. – Я люблю свое дело и горжусь им. Может быть, потому, что я – потомственный артиллерист: моего прадеда взял на службу Петр Великий, и прадед оказался неплохим бомбардиром. Вот с той поры мы, Тюрберты, и стараемся не ударить лицом в грязь. А чтобы не ударить в эту самую грязь, надо хорошо стрелять, господа, вот и весь секрет.
– Значит, Сербия для вас – артиллерийский полигон? – спросил Гавриил.
– В ваших словах звучит какой-то непонятный мне упрек, Олексин. Я офицер и уже имел честь заявить вам, что мне плевать на все так называемые идеи. Тем паче, что их развелось больше, чем голов, для коих они предназначены. Давайте, не мудрствуя лукаво, пить вино и говорить о чем-нибудь приятном. Например, о стрельбе картечью при кавалерийской атаке лавой.
Поручик, горячась, влез в бесконечный и бестолковый спор, Тюрберт насмешливо иронизировал, а Брянов слушал их, пил вино и усмехался. Когда покинули гостеприимных артиллеристов, сказал:
– Вам хочется подтвердить свою жизнь идеей, Олексин, дабы она не выглядела пустопорожней. А может быть, истина как раз в обратном? Может быть, истина заключается в том, чтобы идею подтверждать всей своей жизнью?
– Какую идею?
– То-то и оно, что такой идеи нет. Та, которую исповедуете вы, вряд ли стоит того, чтобы тратить на нее жизнь, это вы, кажется, уже понимаете. А иной в запасе у нас с вами нет. И может быть, правда за Тюрбертами? Служи честно своему делу – вот и все, что от тебя требуется. И будет в душе твоей покой, а в глазах вечная синева. И будете вы прекрасно стрелять картечью сегодня в турок, завтра в поляков, а послезавтра в русских крестьян, которые слишком уж громко попросят хлеба и справедливости.
– Нет, Брянов, мне эта тюрбертская философия не подходит. Я должен знать, зачем я стреляю.
– Как ни странно, мне тоже, Олексин. Мне тоже хочется знать, зачем я стреляю и в кого: ведь не стану же я от этого стрелять хуже, правда? Или стану? И может быть, все-таки прав Тюрберт, утверждая, что идеи обременительны для нашей с вами профессии?
Брянов внезапно крепко пожал Гавриилу руку и свернул к себе. Он задавал вопросы, не ожидая ответов и вроде бы не очень интересуясь ими, но вопросы остались, и Олексин шел домой, в смутном раздражении ощущая, что вопросы эти, столь щедро рассыпанные капитаном, прицепились к нему надолго, что ответов на них ему не отыскать и что, если он даже и отыщет эти ответы, легче от этого ему не станет.
Рота его спала, из шалашей доносился храп и сонное бормотание. Поручик невольно подхватил саблю, сбавил шаг и теперь почти крался.
– Справно живете, – вздохнул в темноте голос, и Олексин узнал Захара. – И говядина у вас, и свинина, и птица домашняя, и вино, и табак, и фрукт разный, и овощ. И что же получается: круглый год так?
– Едим хорошо, – ответил из тьмы Бранко.
– Да поглядел бы ты, парень, как наш мужик живет. Поглядел бы.
– Как живет?
– Хреново живет, вот как, – опять вздохнул Захар. – Лук с хлебом да щи пустые – не хочешь ли каждый день? Одна надежда – хлебушко, а ежели неурожай, то хоть по миру гуляй. Детишки молочко не каждый день пьют, не все да и не досыта, вот так-то, братушка. А уж мясо…
– Мясо – да, – подтвердил Бранко. – Мясо много кушать надо, чтобы работать сила была.
– А раз в году мяса не хочешь? – вдруг озлившись, грубо выругался Захар. – Раз в году мужик мясо досыта ест, раз в году – на Василия Свинятника!
– Не истина! – сердито крикнул Бранко. – Не истина то! Зачем обманываешь?
– Не истина? – зловеще переспросил Захар. – Вру, значит, так выходит? А тюрю с квасом не хочешь каждый день? А хлеб с мякиной жевал когда? Пожуй, попробуй: его и солить не надо – все одно крови полон рот будет. Не истина… А что пьет русский – истина? То-то что истина. Что пьет, это Европа видит да посмеивается, а с чего пьет – это ей невдомек. А с голоду она пьет, Россия-то, с голоду, да с холоду, да с обиды великой. Работаем поболе остальных, потом умываемся, горем утираемся, а жизни все одно нет. Тыщу лет все жизни нет, все как в прорву какую идет, в руках не задерживается. Выть от такого житья захочется, а выпьешь – и ничего вроде. И сыт ты вроде, и согрелся ты вроде, и, главное тебе скажу, человеком опять себя чувствуешь. Выпьешь – и вроде ты вровень со всеми, вроде уважают тебя все, вроде и горя никакого нет. Вот ведь в чем дело-то, братишка ты мой сербский. Все народы, погляжу я, с радости пьют, покушав плотно. А мы с горя пьем, натощак глушим. А поскольку горя у нас – ого! – то и пьем мы тоже – ого! Пока оно не забудется, горе-то, до той поры и пьем… Это кому там не спится?
– Это я, Захар. – Олексин подошел к шалашу. – Все спокойно?
– Спокойно, Гаврила Иванович, вас дожидаемся.
– Не стреляли турки?
– Бог миловал. Тихо живем.
– Тихо, – сердито повторил поручик. – Ученья нужны, а то разбалуемся на позициях. Завтра собери мне всех господ офицеров.
– Слушаюсь, Гаврила Иванович. Ужинать не прикажете?
– Спасибо, Захар, артиллеристы накормили.
Олексин прошел в шалаш, разделся, прилег на жесткий топчан. Хотел подумать об ученьях, о возможных вылазках к туркам, но думал почему-то о Тюрберте и его батарее – веселой, дружной, сплоченной напористым и звонким азартом командира. И думал с завистью.
Утром его разбудил Захар:
– Перемирие, ваше благородие! По всей линии перемирие! Турки роте в подарок пятнадцать бычков прислали!
5
Телеграмма о гибели портупей-юнкера Владимира Олексина пришла в Смоленск с большим запозданием: судя по дате, на второй день после похорон. Телеграмма была пространной, но как и почему погиб Владимир, не объясняла, а слова «верный долгу чести» пролить какой-либо свет на обстоятельства никак не могли.
– Не верю! Не верю ни единому слову! Не верю! – кричала Софья Гавриловна. – Нет такой фамилии Бордель фон Борделиус! Нет и не может быть! Это все идиотские гусарские шутки, слышите? Бордель с фоном выдумали!
Тетушка бегала по дому, всем показывая телеграмму и жадно, ищуще заглядывая в глаза. Дворня послушно соглашалась:
– Не может того быть. Ваша правда, барыня.
– Вот видите, видите? – с торжеством кричала Софья Гавриловна. – Это форменное издевательство над родными! Я буду жаловаться, я государю напишу. Да, да, государю! Это все полковое остроумие, не больше.
– Не надо, – не выдержав криков и столь оскорбительной сейчас суеты, сказала Варя. – Не надо так, тетушка, милая. Нет больше Володеньки нашего. Нету.
– Нету? – тихо, по-детски растерянно переспросила тетушка. – Не уберегла. Не уберегла!
Затряслась, закрыла лицо руками. Варя пыталась подхватить ее, но не успела – Софья Гавриловна сползла с кресла на колени, отчаянно всплеснув руками:
– Прости меня, Аня, прости! Не уберегла я его. Не уберегла-а!
Если бы Владимир погиб здесь, на глазах, то – кто знает! – может быть, мертвая похоронная тишина не вцепилась бы в старый смоленский дом с такой затяжной силой. С ним бы простились, его бы оплакали, отпели, откричали, опустили бы в землю – и проснулись бы на другой день хоть и в тоске и печали, но встав на иной путь, и жизнь постепенно, с каждым часом возвращалась бы в сердце, вытесняя заглянувшую туда смерть. Но с ним не простились, его не оплакали, не отпели; он оставался как бы живым для всех и в то же время уже не живым, и поэтому каждый вынужден был долго и мучительно хоронить его в одиночку. Каждый сам оплакивал его, сам клал в гроб, сам опускал в могилу, сам рвал живого брата из своего сердца, рвал с одинокими слезами, со своей болью и собственной тоской. Умерев вдали от дома, Владимир умирал сейчас в каждом сердце в отдельности.
Теперь они подолгу не расходились по комнатам, сидели в гостиной или у тети, свалившейся после первого энергичного выплеска. Сидели молча, изредка перебрасываясь незначащими фразами; каждый думал о Владимире, но никто не решался о нем говорить. Они просто сообща молчали об одном, и это очень дружное, очень согласное молчание было сейчас важнее разговоров: они словно взаимно питали друг друга силами, столь необходимыми им в эти дни.
– А батюшка ничего не знает, – вздыхала Варя.
– И никто не знает, кроме нас, – говорила Маша. – Ни Вася, ни Федя, ни Гавриил. Никто.
– Надо сначала поехать в Крымскую, – осторожно добавлял Иван.
– Да, надо поехать в Крымскую, – эхом откликалась Варя.
И они опять надолго замолкали. Они понимали, что, перед тем как ехать к отцу, необходимо узнать как можно больше, необходимо ответить на все вопросы, надо быть готовым все рассказать, чтобы избавить его от того неведения, которое так болезненно переживалось ими. Но, бесконечно начиная разговоры о поездке в Крымскую, они тут же бросали их, не делая никаких выводов. Они еще не были готовы к этому, они еще боялись расстаться друг с другом и терпеливо ждали, когда утихнет первая боль, уйдет растерянность и настанет время действий.
Они сидели за утренним чаем, теперь настолько тихим, что даже дети старались без стука ставить чашки, когда вошла растерянная Дуняша:
– Там господин с барышней. И вещи при них.
За столом переглянулись и замерли. Иван вскочил:
– Военный?
– Нет, в цивильном они. И вроде нерусский. А барышня как есть русская.
– Проси! – И добавил, когда Дуняша вышла: – Это из полка. Вот увидите, из полка.
Вошли девушка в пелерине и стройный, небольшого роста молодой человек, прижимавший к груди шляпу. Следом кучер нес два баула, картонки, шинель и кавалерийский клинок.
– Разрешите представиться, – с акцентом сказал молодой человек. – Автандил Чекаидзе. Разрешите также представить мадемуазель Ковалевскую Таисию Леонтьевну.
Но они уже ничего не слышали и даже не смотрели на вошедших. Они видели сейчас шинель Владимира, лежавшую поверх баулов, и такую знакомую саблю.
В эту ночь сестры ночевали вместе: Маша уступила свою комнату Тае. Было уже далеко за полночь, а Варя, так и не раздевшись, все ходила и ходила по комнате, то принимаясь беззвучно плакать, то вдруг гневно сверкая сухими глазами. Маша в ночной кофте сидела на кушетке, той самой, на которой всегда спала Варя, когда мама приезжала в Смоленск.
– Завтра же она уедет отсюда. – У Вари как раз был приступ ненависти. – Зачем она вообще приехала к нам, зачем, объясни мне, пожалуйста? Какая наглость! И какая жестокость: приехать к родным и заявить, что Володя стрелялся из-за нее! Нет, вон! Вон, вон, на все четыре стороны! Немедленно!
– Ты несправедлива, Варя, – задумчиво сказала Маша. – Боюсь, что ты ослеплена гневом и поэтому очень несправедлива.
– Несправедлива? Из-за этой полковой дряни погиб мой брат – и я же несправедлива?
– Да, ты несправедлива, – упрямо повторила Маша. – Жаль, что здесь нет Васи: он бы тебе все объяснил – и тебе бы стало стыдно.
– Володи нет, Володи!.. – Варя опять начала плакать, ломая руки. – Какая холодная, какая бесчеловечная жестокость! Убить юношу… Нет, я не понимаю, я никогда не примирюсь с этим! А она, она уедет завтра же. Уедет!
– Она очень страдает, – тихо, словно самой себе, сказала Маша.
– Кто страдает? Эта девица страдает? – Варя сразу перестала плакать. – Это я страдаю, я, понятно? Я страдаю, а не она!
– Да, ты страдаешь. Одна, но зато за всех нас.
– Мария! – Варя остановилась перед нею, сурово сдвинув брови. – Как тебе не стыдно говорить так, Мария?
– Нет, мне не стыдно так говорить, я не любуюсь своим страданием и не демонстрирую его. А ты демонстрируешь, а это дурно. Прости, но это очень дурно, вот и все. И еще прости, но твоего горя так много, что я перестаю верить. А в страдания этой девушки верю. Это ее страдание, она его никому не демонстрирует.
Варя плашмя упала на кровать, зарылась в подушки. Плечи ее судорожно тряслись, но Машенька не торопилась с утешениями. Она могла быть упрямой и решительной, когда ее к этому вынуждали, и сейчас настал именно такой момент.
– Ты самая бессердечная в семье, – сказала Варя, садясь на кровати и вытирая мокрое от слез лицо. – Ты и Гавриил.
– Я поеду в Москву к батюшке, – спокойно, как об уже решенном и продуманном, сказала Маша. – И Таисия Леонтьевна поедет со мной: мы обе расскажем, как погиб Володя.
– Что? Извини, Мария, но я слишком дорожу отцом, чтобы позволить…
– Мне не нужно ничего позволять, Варя, я все равно сделаю по-своему. И непременно вместе с Таисией Леонтьевной. И то, что тебе кажется жестокостью, как ты говоришь, для батюшки будет утешением. Единственным утешением.
На следующий день гость уезжал в Тифлис. Он долго и проникновенно жал руку Ивану, гладил по головам детей, низко, почтительно кланялся вставшей ради его отъезда Софье Гавриловне.
– Погиб мой дорогой друг, – сказал он уже в дверях. – Но подлый убийца недолго будет топтать нашу прекрасную землю. Мой брат поручик Ростом Чекаидзе уже спешит на поединок. А если ему не повезет, с этим господином будет стреляться весь славный Семьдесят четвертый полк и вся городская управа города Тифлиса!
Тая хотела ехать вместе с господином Чекаидзе, но ее уговорили остаться. Тая долго не соглашалась; тогда к ней подошел Иван, осторожно взял за руку.
– Пожалуйста, повремените с отъездом. Маша и я очень просим вас, если возможно.
Тая дико посмотрела на него, по лицу ее побежали слезы. Закусила губу, часто закивала:
– Как вам будет угодно. Как вам будет угодно, Иван Иванович.
Маша обняла ее, прижала к себе:
– Будет вам, Таисия Леонтьевна, будет. Успокойтесь. Пожалуйста.
– Да, да, сейчас, – поспешно говорила Тая в платочек. – Да, да, извините, пожалуйста. Извините.
Варя поджимала губы, выразительно поглядывая на тетушку. Но Софья Гавриловна была погружена в свое горе и в свои мысли и не замечала ничего иного.
В связи с отъездом гостя Иван опять не пошел в гимназию, а вместе с Машей и Таей поехал провожать Чекаидзе. При этом он отказался от кучера, решив править лошадьми самостоятельно, чуть не упустил их на спуске с крутой Соборной горы, напугал барышень, немного струхнул сам и стал так одерживать пару, что приехали они на вокзал к отбытию и прощались наскоро.
– Что прикажете передать вашим уважаемым родителям, мадемуазель Тая?
Чекаидзе спросил из лучших побуждений, но Тая мучительно покраснела.
– Поклон, пожалуйста.
– Когда им ждать вас?
– Я не вернусь в Крымскую, – с отчаянным мужеством сказала Тая. – Я живу теперь одна. В Тифлисе.
– О, пардон! – закричал Чекаидзе, сообразив наконец, что поставил ее в неловкое положение. – Извините, мадемуазель Тая, извините!
Он кричал «извините», уже стоя на подножке вагона. Кричал, кланялся и махал шляпой, пока поезд не скрылся за водокачкой.
– Мы хотим показать вам, Таисия Леонтьевна, наш Смоленск, – сказала Маша, когда крики Чекаидзе растаяли в перестуке колес. – Ваня одно время увлекался историей и, если согласится, расскажет много интересного.
– Я уже согласился, – улыбнулся Иван. – А вот смогу ли, это вопрос особый.
Однако он был человеком обстоятельным и толковым, обладал блестящей памятью и даром рассказчика, и прогулка оказалась очень интересной. Он осмотрел с барышнями Свирскую церковь и Соборную гору, Блонье и Лопатинский сад с остатками древней темницы, где на подоконнике рядом с обломками ржавых решеток еще сохранилось латинское имя, вырубленное когда-то несчастным узником. Потом провез вдоль крепости, показал французское ядро, застрявшее в стене над Никольскими воротами, поднялся вместе с ними на крепостную стену и долго восторженно рассказывал, где стоял генерал Раевский и как к закрытым Молоховским воротам подскакал неаполитанский король и требовательно постучал в них маршальским жезлом.
– А наши дали залп, и Мюрат так улепетывал, что чуть не потерял шляпу!
Рассказывал он одной Тае и так, будто Маши вообще не существовало на свете. Как все Олексины, он был не только увлекающимся, но и чрезвычайно влюбчивым, и даже недавняя трагическая смерть брата не могла сейчас заслонить горьких и прекрасных глаз рыжей девочки, которая была всего на год старше его, а казалась такой недоступно взрослой. По окончании экскурсии он усадил барышень под каштанами, а сам побежал за лимонадом и мороженым. И тогда Маша сказала:
– У нас к вам огромная просьба, Таисия Леонтьевна. Дело в том, что наша мама умерла, а батюшка живет отдельно, в Москве…
– Я знаю, – тихо перебила Тая. – Володя рассказывал.
Она опять закусила губу и прикрыла глаза. Две слезы выползли из-под ресниц и скатились, оставив дорожки в пушке.
– Не надо, Тая, милая, сестричка моя! – Маша порывисто прижала ее к себе и поцеловала. – Не надо терзать себя, вы ни в чем не виноваты. Это судьба.
– Не утешайте меня, Мария Ивановна, я все равно знаю, что виновата. Я виновата на всю жизнь свою. – Она судорожно вздохнула. – Когда мне выезжать в Москву?
– Мы поедем вместе. На завтра Варя заказала панихиду по Володе. Отстоим службу, справим поминки и поедем к батюшке.
К ним бежал Иван. За ним с подносом в руках поспешал полный немолодой приказчик из кондитерской. На подносе тонко звенели стаканы.
– Быстрее! – весело кричал Иван. – Быстрее, растает!
Тая посмотрела на него, грустно улыбнулась и незаметно вытерла слезы.
Отслужили панихиду по Володе, отпели, оплакали за господским, откричали за дворницкими поминальными столами. Тетушка, размякнув и перемучившись, благословила отъезд в Москву. Только повторяла все время:
– Бедный Иван. Бедный Иван. Бедный Иван!
Маша и Тая выехали вторым классом «согласно чину и состоянию», как любил говорить отец. Впрочем, состояние Таи было таково, что ей впору было бы ехать в третьем, но Маша этого не позволила:
– Мы с вами, Тая, теперь сестры. Сестрички по несчастью, так батюшке и скажем. Как же можно считаться?
А сама подумала, что, может быть, как раз в этом-то и состоит высшее Божье провидение: было десять, и осталось десять. Было десять, и осталось десять… И думала об этом в поезде, глядя на Таю, и колеса выстукивали согласно и звонко: было десять, и осталось десять, было десять, и осталось десять.
Маша никогда не бывала в Москве, а телеграмму отцу тетушка категорически запретила давать: она сама боялась телеграмм и считала, что отец непременно разволнуется раньше времени, надумает бог весть что, и вся идея постепенной подготовки к известию окажется тогда бессмысленной. Поэтому барышень никто не встречал; они взяли извозчика, назвали адрес и потрусили по Москве среди шума и гама. Но не замечали ни шума, ни толчеи, сидели, испуганно прижавшись друг к другу, под гнетом того страшного известия, которое везли старому, странному, своенравному и очень дорогому человеку.
Дверь открыл толстый молодой лакей. Глядел, сонно сощурясь, презрительно выпятив грубые мокрые губы.
– Не велено пущать. Никого не велено.
Он будто не был в состоянии слушать, а тем более понимать, что ему говорят. Это было ниже его достоинства. Вровень с его достоинством стояло сладкое право «не пущать».
– Ты глухой? – У тихой и приветливой Маши совсем по-отцовски колюче охолодели глаза. – Я Мария Ивановна Олексина, изволь немедленно доложить батюшке.
– Барин никого не велел…
Но барышни уже раздевались, кидая пелерины и шляпки на диван, стоявший в прихожей, и не обращая на лакея внимания. Это породило в голове Петра смутную мысль об их неотъемлемом праве нарушать данные ему инструкции. Он помолчал, пожевал толстыми губами и неторопливо, борясь с сомнениями, поплелся докладывать, все время с недоверием оглядываясь на капризных барышень.
– Каков нахал! – дрожа от возмущения, сказала Маша. – Федор недаром говорил, что батюшка нарочно ему потакает. Знает, что туп и нахален, и потакает нарочно, чтобы всех сердить и обескураживать.
Вместо Петра на лестнице появился живой и очень приветливый старичок. Поспешно спустился, улыбаясь и кланяясь на каждой ступеньке.
– Мария Ивановна, радость-то какая нам! И опять без эстафеты, без депеши, мне на огорчение.
– Игнат! – Маша шагнула к давно знакомому ей старому камердинеру, радостно протянув обе руки. – Я так рада, Игнат, что это ты. Что батюшка? Как он?
– Здоров батюшка, здоров, Бог милует. – Игнат осторожно подержал и отпустил девичьи руки. – В гости пожаловали? Надолго ли, осмелюсь спросить?
– Ох, Игнат! – Маша уткнулась лбом в подбитую ватой грудь старика. – С горем мы, Игнат, с большим горем. Володю нашего убили в Тифлисе.
– Владимира Ивановича? Володеньку?
Игнат качнулся. Маша поддержала его, усадила на диван прямо на пелеринки.
– Володеньку, Володеньку… – Голова его затряслась, по дряблому старческому лицу, обрамленному жиденькими седыми бакенбардами, ползли слезы. – Да как же это, как же?
– На дуэли, – вздохнула Маша. – Пуля попала в сердце. Сразу в сердце и…
– Господи, Господи!.. – вздыхая, крестился камердинер. – А батюшка как же? Как сказать-то ему, как? Ведь в себе все держит, всю жизнь все в себе, не расплескивая. Аккурат вчера Володеньку поминал. Доволен был, что служит, что в чины входит. Поди вот так-то ляпни с порога – помрет. Слова не скажет, а – помрет. Как же сказать-то, а? Как?
– Мы сами скажем, Игнат. Для этого и приехали.
– Да, да. – Старик горестно покачал головой, перекрестился, достал платок и шумно высморкался. – А с вами-то кто же будет, Мария Ивановна? Извините, барышня, глазами слабну.
– Это? – Маша запнулась только на мгновение. – Это невеста Володина.
– Барышня!.. – Игнат дотянулся до Таи, ласково провел по ее рукаву. – Господи, горе-то, горе-то какое! Идите, барышни, идите к нему. Только не сразу бы, а? Не с порога скажите, не с порога.
Старик читал в кресле, когда барышни без доклада проскользнули в кабинет. Увидев их, он снял очки, заложил ими книгу и встал.
– Дочь? – Он что-то почувствовал и от волнения забыл ее имя. – Как ты здесь? Почему? Что-нибудь с… Гавриилом?
– Батюшка! – Маша бросилась к нему, уткнулась в грудь. – Милый батюшка, сядьте. Сядьте, умоляю вас!
Она уже не сдерживалась, уже плакала, забыв о предостережениях Игната, о строгих наказах Вари и Софьи Гавриловны. Крепко прижимаясь лицом к домашней, пропахшей запахом дорогого табака куртке, она толкала отца в кресло, пытаясь усадить, а он сопротивлялся, упираясь руками в подлокотники, и все твердил:
– Да говори же, говори! Что с волонтером, что? Ведь вижу все, все ведь вижу, Господи!
Все же она усадила его и, опустившись на колени рядом с креслом, гладила и целовала сухую старческую руку, крепко, как во спасение, вцепившуюся в подлокотник.
– Не бойся, – тихо и строго сказал отец. – Не бойся, говори. Что с волонтером нашим? Убит? Ранен? Я ведь предупреждал его, предупреждал…
– Володя погиб, батюшка! – не выдержав, крикнула вдруг Маша. – Володенька погиб на Кавказе!
Старик отбросил ее руку, судорожно выпрямившись в кресле. Беспомощно и немо, как рыба, открывал и закрывал рот, будто пытался проглотить что-то и не мог, и только горбатый кадык конвульсивно сотрясался под дряблыми складками кожи. Тая рванулась от дверей, налила воды из графина, подала. Он выпил булькающими глотками, слепо глянув на незнакомую барышню.
– Погиб? – тихо и как-то очень уж спокойно переспросил он. – Как же мог? Как? Там замирение. Или опять взбунтовались? Я давно не читаю газет. Давно. Они непристойно спекулятивны и стремятся навязать свою волю. А это неприлично.
Он говорил и говорил, точно второпях, кое-как, наспех возводил баррикаду между собой и ими, словно заделывал брешь, нанесенную известием и вдруг обнажившую сердце. А он не мог допустить, чтобы кто-то – не важно, кто именно, – видел это сердце, видел его боль, его судороги, слышал его молчаливый крик.
– Стало быть, что же? Несчастный случай? Зашибла лошадь? Болезнь? Умер в постели?
Последний вопрос прозвучал строго, выбившись из торопливого ряда. Маша почувствовала это, поняла, что ответ для него важен.
– Нет, батюшка. Не в постели.
– Не в постели? – Старик быстро глянул на нее, проверяя, и тотчас отвел глаза. – Не в постели – это хорошо. Хорошо. Мужчина не должен умирать в постели. Это унизительно. Да. Унизительно. Смерть должна возвышать.
– Его убили! – громко, с отчаянием выкрикнула Тая: ей было невмоготу это бессмысленное старческое бормотанье. – Убили! Убили на дуэли!
– Убили?
Отец долгим пристальным взглядом уперся в Таю. Она испугалась этих немигающих глаз, где живым было только судорожное подергивание век, но выдержала, поспешно закивав.
– От пули, – тихо, точно отвечая сам себе, сказал старик. – Значит, от пули.
Он медленно придвинул ящичек, стал набивать трубку. Пальцы тряслись, табак сыпался, он снова и снова старательно подбирал крошки и запихивал их на место.
– Батюшка…
– Значит, все-таки от пули, – жестом остановив ее, повторил он.
Голос не послушался, задрожал, сорвавшись на дикий, лающий звук, и старик опять несколько раз тяжело сглотнул, словно заталкивая в себя прорвавшийся живой вопль.
– Батюшка. – Слезы текли по лицу Маши, она чувствовала, как они текут, но боялась отереть их, боялась признаться, что плачет, потому что это горе не терпело слез, и она понимала отца. – Батюшка, Володя погиб гордо и прекрасно. Он защищал честь девушки, что стоит перед вами. Это невеста его, батюшка.
Старческий немигающий взгляд вновь уперся в Таю. В строгих, осмысленно напряженных глазах не было слез, но копилась такая боль, что Тая сразу подошла и опустилась на колени по другую сторону кресла. Олексин положил руку ей на голову, медленно провел к затылку – не погладил, а именно провел. И рука эта не дрожала, была тверда и почти покойна, но Тая почувствовала вдруг ее чугунную тяжесть.
– Он умер сразу?
– Пуля попала в сердце.
– Хорошо. – Старик удовлетворенно кивнул головой. – Хорошо, что он защищал честь. Это хорошо и достойно.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































