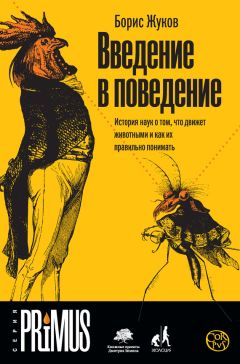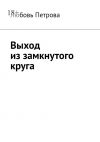Читать книгу "Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать"

Можно, конечно, считать это казусом, историческим анекдотом. Но, как мы увидим в дальнейшем, наука о поведении снова и снова пыталась отказаться от интерпретаций, от «домысливания» за животное, попыток реконструкции его субъективного мира – и всякий раз убеждалась, что в конечном счете это означает отказ от изучения поведения вообще. И это не случайно. Как уже говорилось в предисловии, та или иная последовательность движений может быть признана актом поведения только в том случае, если она имеет некоторый смысл – хотя бы только с точки зрения самого животного. Как бы трудно ни было нам порой выяснить этот смысл и сформулировать его в наших понятиях, попытки не рассматривать его вовсе действительно равносильны отказу от изучения поведения.
Но не будем забегать вперед.
Глава 2
Рожденная эволюцией
Младший брат титана
Прощаясь с эпохой Просвещения, мы должны сказать, что совершенно бесплодной для развития науки о поведении животных она все же не была. Именно рационалистическая философия XVII–XVIII веков выработала целый ряд понятий и категорий, впоследствии сыгравших огромную роль в исследованиях поведения. Достаточно назвать хотя бы такие понятия, как «инстинкт», «рефлекс» или представление о естественном поведении. Подчеркнем: речь идет не просто о введенных в научный оборот терминах[10]10
Это особенно ясно видно в случае с понятием «рефлекс». Его автором по праву считается Рене Декарт, подробно описавший предполагаемый механизм того, как внешнее раздражение преобразуется нервной системой в мышечное действие. Однако в трудах Декарта нет ни слова «рефлекс», ни вообще какого-либо стандартного термина для обозначения такой реакции. Слово «рефлекс» в этом значении ввел в науку чешский анатом и физиолог Иржи Прохазка в 1794 году, то есть более чем через 150 лет после выдвижения Декартом самой идеи рефлекса.
[Закрыть], но именно о понятиях, за каждым из которых стоит определенный взгляд на природу того или иного поведенческого феномена или поведения в целом. Можно сказать, что в течение двух последующих столетий все вновь добываемые знания в этой области осмыслялись и приводились в систему посредством этих понятий и категорий – и такое положение в значительной мере сохраняется до сих пор. Разумеется, «новое вино» сильно влияло на «ветхие мехи»: содержание самих базовых понятий заметно менялось под влиянием фактов и проблем, к которым их применяли. Впрочем, для этого факты надо было сначала добыть, а проблемы – поставить.
Первые попытки сделать наконец поведение предметом по-настоящему научного изучения относятся к первой половине XIX века. И одним из пионеров этого направления стал директор парижского Зверинца[11]11
Зверинец (La Ménagerie) – одно из подразделений Королевского ботанического сада в Париже, где содержалась коллекция диких животных. С преобразованием сада в Музей естественной истории в 1794 году Зверинец стал одним из первых в мире публичных зоопарков, каковым и продолжает быть по сей день.
[Закрыть] Фредерик Кювье.
Этот ученый, почти всю жизнь остававшийся в тени своего знаменитого старшего брата – классика сравнительной анатомии и создателя палеонтологии Жоржа Кювье, – мало известен широкой публике. Читатель, не искушенный в биологии, может вспомнить его разве что по ироническому пассажу из «Моби Дика», в котором Мелвилл потешается над изображением кашалота, помещенным Кювье-младшим в одной из его главных работ – «Естественной истории китообразных». Между тем это был едва ли не первый капитальный труд по сравнительной анатомии китообразных – животных, в ту пору почти недоступных для изучения: в командах китобоев зоологов не было, а привезти в большой город целую тушу кита или хотя бы его полный скелет было практически невозможно.
У Фредерика Кювье есть и другие заслуги перед классической зоологией: он дал научное описание множества видов млекопитающих (в том числе таких как бородавочник и малая панда), первым предложил рассматривать зубную систему млекопитающих как таксономический признак (позднее вся систематика этой группы была построена буквально «на зубах» и оставалась такой до самого появления молекулярных методов) и т. д. Конечно, многое в его успехах определялось служебным положением: в 1804 году старший брат назначил его «главным хранителем» (то есть директором) Зверинца – и на этом посту Фредерик оставался 34 года, до самой своей смерти. Именно туда, в Зверинец, поступали – живыми или мертвыми – все диковинные животные, добытые в наполеоновских походах и дальних экспедициях, так что директору было что изучать.
Но за шкурами и черепами Кювье не забывал порученную его заботам живую коллекцию. Обитателей Зверинца надлежало как можно дольше сохранять в добром здравии, а для этого надо было иметь хоть какое-то представление об их поведении. Побасенки, которые можно было почерпнуть из сочинений натуралистов прежних времен, оказались малопригодны – равно как и умозрительные теории философов. Главе Зверинца ничего не оставалось, как самому заняться изучением поведения своих подопечных – так сказать, без отрыва от производства.
Фредерик Кювье не создал никакой общей теории поведения животных, не написал об этом предмете специального труда. Его многочисленные наблюдения и оригинальные выводы из них разбросаны по 70 выпускам «Естественной истории млекопитающих», которую Фредерик (вместе с другом и непримиримым оппонентом своего брата, Этьеном Жоффруа Сент-Илером) издавал в 1818–1837 годах. Там можно найти едва ли не первое в научной литературе описание реального поведения человекообразной обезьяны – орангутана, интересные наблюдения за жвачными, лошадьми, хищными, ластоногими и другими животными. Он описал сексуальное поведение ряда животных, их взросление и развитие (в Зверинец часто попадали детеныши-сироты). Изучая тюленя, он установил факты, противоречившие господствовавшему тогда (и еще долго потом) представлению, будто ум (или, как мы бы сейчас сказали, когнитивные способности) животного определяется остротой его чувств (зрения, слуха, обоняния и т. д.) и сложностью устройства соответствующих органов.
Среди прочего Кювье пишет о бобрятах, попавших в руки людей совсем маленькими и позже уже никогда не видевших своих сородичей. Повзрослев, они, как и положено порядочным бобрам, принялись строить хатки – и неплохо справились с этой задачей, хотя никогда прежде не видели, как это делается.
Отсюда Кювье делает вполне резонный вывод о врожденном характере такой формы поведения – и далее, отталкиваясь от этого примера, размышляет о том, чем же отличается такое поведение от того, что мы называем «разумным»[12]12
В главе 8 мы увидим, что эта проблема не потеряла актуальности и сегодня, спустя почти два столетия.
[Закрыть]. Но нам сейчас интереснее другое. Опыт с бобрятами и другие наблюдения и эксперименты (намеренные или невольные) Фредерика Кювье можно считать первыми попытками действительно научного изучения поведения животных. Конечно, с сегодняшних позиций его работам можно предъявить немало серьезных теоретических и методологических претензий. Но не будем забывать: мы можем оценивать труды ученых былых эпох с высоты сегодняшних знаний только потому, что они добыли нам эти знания. Работы младшего Кювье стали предвестием, первой пробой применения научного метода к такому эфемерному и неудобному для него предмету, как поведение животных.
Но, как это часто происходит, предвестия грядущей революции практически никто не заметил. Фредерик Кювье умер, получив все положенные награды и почести, его имя навсегда вписано в историю науки – но помнят его в основном как сравнительного анатома и систематика. В глазах коллег его описания повадок и особенностей конкретных видов ничем принципиально не отличались от аналогичных описаний у Бюффона и других натуралистов XVIII века, а его рассуждения об инстинкте и разуме казались естественным продолжением философского дискурса, восходящего к Леруа, Кондильяку, Реймарусу[13]13
Реймарус Герман Самуэль (1694–1768) – немецкий философ, богослов-деист и просветитель, введший в европейскую философию термин и понятие «инстинкт».
[Закрыть] и далее – к Декарту и античным мыслителям.
Ситуация начала меняться только после того переворота, который произвел в умах натуралистов всего мира выход «Происхождения видов».
Происхождение душ
«Дарвиновская революция», ее подробности и последствия для современной ей биологии многократно описаны в литературе, и рассказывать здесь о ней нет нужды. Напомним только один момент. В считанные годы (если не месяцы) после выхода книги Дарвина практически все биологи не просто признали факт эволюции – эволюционный подход, взгляд в свете эволюционных представлений стал главенствующим и едва ли не обязательным в зоологии и ботанике, не говоря уж о палеонтологии. Что бы ни изучали теперь натуралисты, во главу угла ставился прежде всего вопрос: из чего и как это могло возникнуть?
Поведение животных не стало исключением. Более того: эволюционный подход придал этому предмету – довольно, как мы видели, маргинальному для зоологов первой половины XIX века – неожиданную остроту и актуальность. В самом деле, если человек произошел естественным путем, если его органы и части тела имеют ту же природу, что и соответствующие структуры животных, то и его психическая жизнь должна иметь свои истоки в животном мире. И эти истоки могут стать предметом научного исследования.
Сам Дарвин высказался на этот счет совершенно недвусмысленно: «Разница между психикой человека и высших животных, как бы она ни была велика, это разница в степени, а не в качестве». Впрочем, его вклад в изучение поведения не ограничился общими фразами, пусть даже и столь радикальными. Проблема осмысления поведения с эволюционной точки зрения представлялась ему настолько важной, что уже в первом издании «Происхождения видов» мы видим целую главу «Инстинкт». Правда, эта глава посвящена не столько инстинктам как таковым (о том, что понимали под этим словом Дарвин и его современники, мы поговорим чуть позже), сколько инстинктам как материалу эволюции. Главная ее мысль заключается в том, что с точки зрения дарвиновской теории инстинкты обладают теми же свойствами, что и морфологические признаки (случайной изменчивостью, наследуемостью изменений и их неравноценностью для выживания), и потому их эволюционное формирование может быть столь же успешно объяснено естественным отбором[14]14
В главах 3 и 4 мы увидим, насколько разное развитие получила эта дарвиновская идея в крупнейших направлениях исследования поведения животных в XX веке.
[Закрыть].
Но в 1872 году Дарвин выпустил уже довольно специальный труд «Выражение эмоций у человека и животных», дающий все основания считать его одним из пионеров научного исследования поведения. В этой книге он указывал на сходство некоторых универсальных внешних проявлений человеческих эмоций (волосы дыбом при сильном страхе, оскаленные зубы в ярости и т. д.) с чертами поведения животных (прежде всего, конечно, человекообразных обезьян), видя в нем свидетельство нашего родства. Но, пожалуй, важнее были даже не выводы, а сам метод исследования и рассуждения. Книга не просто утверждала наличие у животных полноценной психики, но и предлагала способ ее исследования: наблюдение внешних проявлений (то есть поведения) и сравнение с аналогичными внешними проявлениями у человека.
Разумеется, возможности такого метода были, мягко говоря, ограничены. Скажем, огромную роль в выражении эмоций и контактах с сородичами у собаки играет хвост – орган, который у человека попросту отсутствует. Так что никакие аналогии с человеческими способами выражения чувств не помогут понять смысл фигур, которые выделывает собачий хвост. В значительной степени то же самое справедливо и для другого важнейшего «коммуникативного» органа млекопитающих – ушей (точнее, ушных раковин): у человека они, конечно, есть, но произвольные движения ими для многих людей невозможны физически и для всех – не имеют отношения к выражению эмоций. А, скажем, у бурого медведя, ведущего одиночный образ жизни и мало нуждающегося в тонком понимании намерений соплеменников, внешние проявления эмоций выражены слабо и в большинстве ситуаций просто неразличимы для человека. Что не означает, будто у столь высокоразвитого зверя нет психической жизни. И это – млекопитающие, наши относительно близкие родственники, «братья по классу». Понятно, что суждения «по аналогии с человеком» о чувствах и побудительных мотивах птиц или лягушек, не говоря уж о пчелах и каракатицах, будут еще менее надежны.

Впрочем, анатомические различия – только часть препятствий на пути трактовки поведения «по аналогии», причем часть не такая уж большая и относительно хорошо заметная. На самом деле одни и те же или, по крайней мере, весьма сходные движения и действия у разных видов животных[15]15
В дальнейшем мы увидим, что одни и те же движения могут иметь разный смысл и у животных одного вида, и даже у одного и того же животного в разное время и в разных ситуациях – см., например, подглавку «Давай сделаем это вместе!» в главе 4.
[Закрыть] могут иметь совершенно разный смысл. «Пес ворчит, когда сердится, а когда доволен, виляет хвостом. Ну а я ворчу, когда я доволен, и виляю хвостом, когда сержусь. Следовательно, я не в своем уме», – говорит Чеширский Кот Алисе в сказке Льюиса Кэрролла. Может быть, Кот несколько лукавит, опуская тонкие различия между соответствующими сигналами кошек и собак, но проблему он подметил верно. Достаточно вспомнить хотя бы, что у многих животных мимические движения, близко напоминающие человеческую улыбку, означают нешуточную угрозу.
Но как бы ни были серьезны эти обстоятельства, в конце концов, они представляли собой лишь технические трудности – пусть и огромные. Указанный Дарвином путь таил в себе, однако, и другой, более глубокий соблазн. Попытки реконструкции психики животных на основе сходства элементов их поведения с элементами поведения человека почти неизбежно приводили исследователей к антропоморфизму. При таком подходе мы видим в поведении животных то, чего в нем нет (но что есть в нашем), – но это еще полбеды. Гораздо хуже, что мы при этом в принципе неспособны увидеть в нем то, что в нем есть, но чего в нашем поведении нет. Если, как мы помним, даже Бюффону, осознававшему порочность антропоморфизма и пытавшемуся от него отказаться, не удавалось его избежать, то исследователи первых последарвиновских десятилетий устремились к нему сознательно и восторженно, словно к наконец-то обретенной истине.
Здесь необходимо сказать несколько слов во избежание недоразумений. Идея развития человеческой психики из психики его животных предков (подразумевающая, конечно, наличие у животных психической жизни) в самом деле логически вытекает из эволюционной теории Дарвина. Она вполне соответствует всему, что мы знаем о психике и поведении человека и животных, – не только тем фактам, которые были известны полтора века назад, но и всем тем, что были установлены позже. Эта идея стала в науке аксиомой – сегодня, пожалуй, не найдется ни одного ученого, занимающегося этой тематикой, который отрицал бы естественное происхождение человеческой психики.
Однако если мы признаём, что Б эволюционно происходит от А (чем бы ни были эти А и Б – видами живых существ, системами органов или специализированными белками), это не означает, что в Б нет ничего такого, чего не было бы в А. Крыло птицы происходит от передней конечности рептилии, а в конечном счете – от плавника кистеперой рыбы, но это не значит, что между ними нет никакой разницы или что эта разница сводится к чисто количественным различиям. Цветковые растения (как и вообще все сосудистые) происходят от зеленых водорослей – но вряд ли кто-то в здравом уме будет надеяться набрать яблок и орехов или хотя бы нарубить дров в прудовой тине. Помимо всего прочего, считать утверждение «Б произошло от А» равносильным утверждению «Б – это в общем-то то же самое, что и А», означает, по сути дела, отрицать эволюцию – которая, следуя этой логике, не может создать ничего принципиально нового! А видеть в поведении животных лишь зачатки тех или иных явлений человеческой психики означает игнорировать конкретную историю и пути эволюции поведения. Знаменитый пчелиный «язык танца» обладает некоторыми свойствами, присущими человеческому языку (и не обнаруженными в коммуникативных системах других животных). Но это ни в коей мере не значит, что пчела – близкая родня человека или эволюционирует в его сторону.
Ничто человеческое им не чуждо
Увы, в 1860–1880-х годах, в период триумфального шествия дарвинизма по всем естественным (и не только естественным) наукам, многие восприняли идею естественного происхождения человеческой психики именно так плоско и прямолинейно – как представление, что «ничто человеческое им не чуждо» и любой феномен человеческой психики можно, пусть в примитивном, зачаточном, трудноразличимом виде, найти и у животных. Причем не только у таких высокоорганизованных и близких к человеку, как, скажем, обезьяны, но и у собак и крыс, птиц и рыб, насекомых и моллюсков. Наиболее радикальные сторонники этого подхода допускали существование «известной разумности» у растений и одноклеточных, у отдельных клеток, тканей и органов в составе организма и даже у молекул и атомов.
Впрочем, это были все-таки явные крайности – пусть даже их высказывали действительно крупнейшие ученые того времени. Основу нового и весьма популярного направления исследований – сравнительной психологии, или зоопсихологии – составляли все же не поиски психики у атомов, а работы, так или иначе посвященные животным, преимущественно высокоразвитым. Образцом и в известном смысле итогом таких трудов стала книга Роменса «Ум животных», вышедшая в 1882 году.
Джордж-Джон Роменс – фигура необычная даже на колоритном фоне ученых второй половины XIX века: богослов, поэт, композитор, публицист и натуралист-экспериментатор в одном лице. Еще совсем молодым человеком он свел близкое знакомство с Дарвином, став для последнего не только коллегой и другом, но и помощником и кем-то вроде приемного сына (и сам на всю жизнь попал под обаяние личности Дарвина и его учения – понятого, впрочем, довольно своеобразно), а после смерти великого натуралиста активно участвовал в разборе и публикации его научного наследия.

Книга Роменса действительно посвящена «уму» животных. При этом понять, что именно автор называет «умом», современному читателю не так-то просто. Книгу почти полностью составляют описания примеров целесообразного поведения различных животных, позволяющего им достигнуть того или иного полезного результата. Автора трудно упрекнуть в том, что он, подобно натуралистам и философам XVIII века, отождествляет целесообразность с разумностью: уже во введении он подробно обсуждает разницу между инстинктом и разумом и необходимость их различения. И далее при описании каждой конкретной формы поведения он задается вопросом: видим ли мы тут проявление разума или инстинкт? Однако при этом, по мнению Роменса, «инстинкт требует сознательных процессов[16]16
Нелишне напомнить современному читателю, что это писалось буквально на самой заре научной психологии, когда мысль о существовании психических явлений, не являющихся при этом сознательными, еще никому не приходила в голову. Сегодня мысль Роменса можно понять и так, что инстинктивные действия, в отличие от рефлексов, обязательно включают в себя психическую составляющую – что совершенно справедливо, по крайней мере, для тех существ, в наличии психики у которых мы более или менее уверены.
[Закрыть], это самый важный пункт, так как он есть единственный, по которому можно отличать инстинктивные действия от рефлективных». В последних Роменс видит «непсихическое нервно-мышечное приспособление к соответствующим стимулам», то есть, выражаясь современным языком, вовсе отказывается считать рефлексы актами поведения. Эта мысль, выраженная столь ясно на заре всеобщего увлечения рефлексологией (о котором мы еще не раз поговорим ниже), делает честь проницательности Роменса и оригинальности его ума – но при этом дополнительно запутывает вопрос, чем же все-таки разумные действия отличаются от инстинктивных.
Для Роменса решающий критерий в этом вопросе – используют ли животные в данном акте поведения свой индивидуальный опыт, то есть является ли такое поведение результатом обучения. На это стоит обратить особое внимание: не только в ту эпоху, но и еще много десятилетий спустя философы и ученые всех специальностей, обращаясь к теме разума, считали обучение несомненным его проявлением и «по умолчанию» полагали, что в процессе обучения человек (или животное) становится умнее[17]17
Это отождествление наука унаследовала от обыденного знания, в котором понятия «ум» и «знания» не различались никогда. Что видно, например, даже по таким пословицам, как «Век живи – век учись, дураком помрешь» – скептическая насмешка тут выражает не сомнение в возможности восполнить знаниями нехватку ума, а недостаточность любого объема знаний о мире по сравнению со сложностью самого мира.
[Закрыть]. Даже те, кто непосредственно занимался изучением поведения, усомнились в этом лишь в середине XX века (см. главу 8). В исследованиях же, затрагивающих тему лишь косвенно, способность к обучению и скорость его нередко и сегодня рассматриваются как «показатели интеллекта». Массовое сознание и вовсе не различает эти понятия.
С другой стороны, признавая необходимость отличать разум от инстинкта, Роменс все же не считает эту разницу столь уж принципиальной. «Между инстинктом и разумом нельзя провести точной границы, инстинкт переходит в разум неуловимыми оттенками… Исходя из законов эволюции, мы и не можем ожидать ничего другого…» – пишет он. И немного ниже – снова: «…инстинкт переходит в разум с неуловимой постепенностью, так что в действиях, имеющих, в общем, характер инстинктивных, очень часто примешивается то, что П. Гюбер называет „маленькой дозой суждения или разума“…» Как мы увидим ниже, последнее утверждение в известном смысле оказалось весьма недалеко от истины: врожденные и приобретенные элементы могут сочетаться даже внутри одного акта поведения (например, птичьей песни). Но сам автор (как и его читатели-современники) имел в виду совсем другое: разум вырастает из инстинкта, это две стадии развития одного и того же феномена, различие между которыми опять-таки «в степени, а не в качестве».
Да и что в этом, собственно, такого? Ведь коль скоро высшие животные произошли от низших, естественно предположить, что и характерные для них формы поведения тоже представляют собой лишь видоизменения и усложнения поведения более простых существ. И если действия этих «более простых существ» мы называем инстинктами, значит, инстинкт – это зачаток будущего разумного действия (вспомним построения Леруа). Труд Роменса и есть попытка проследить развитие этого свойства у животных от самых простых до самых продвинутых его форм: книга начинается с рассмотрения поведения простейших[18]18
К которым Роменс по странному недоразумению причисляет коловраток. Хотя эти существа по размеру не превосходят инфузорий, а их положение в системе животного мира до сих пор остается не вполне ясным, их принадлежность к многоклеточным не подлежала сомнению и во времена выхода «Ума животных».
[Закрыть], далее переходит к кишечнополостным, иглокожим и т. д., вплоть до последней главы, посвященной обезьянам. И хотя амебам, медузам и иглокожим автор решительно отказывает в каком бы то ни было разуме (а в отношении двух первых сомневается даже, можно ли прилагать к их поведению понятие «инстинкт» или оно представляет собой чисто рефлекторные действия), его описания складываются в картину непрерывного поступательного развития умственных способностей животных – от низших к высшим.
В более поздние времена книгу Роменса часто критиковали за то, что наряду с безусловно достоверными и зачастую нетривиальными сведениями о поведении животных в нее вошло немало случайных и произвольно истолкованных наблюдений и даже откровенных побасенок и охотничьих рассказов – точно так же, как в сочинения авторов предшествующих веков, от Аристотеля до Бюффона. Это действительно так (чего стоит, например, хотя бы рассказ о некоем пчеловоде, выучившем пчел маршировать в пешем строю!), и это сильно снижает ценность книги как научного труда. Но даже если бы все сообщаемые в ней фактические сведения были безусловно достоверны, она вряд ли стала бы прорывом в изучении поведения животных. Никакой оригинальной идеи, придающей смысл всем приводимым данным (кроме, конечно, идеи прогрессивной эволюции – но ее трудно считать оригинальной для 1880-х годов), в ней нет, а для всестороннего и беспристрастного рассмотрения известных на момент ее написания фактов она слишком тенденциозна. Зато эта книга может служить довольно полным и точным отражением круга идей и понятий зоопсихологии в первые десятилетия ее существования – о чем свидетельствует и немалая популярность «Ума животных» в ту пору. Можно даже сказать, что достоинства книги – от незаурядного ума и таланта ее автора, а вот ее пороки были общими для подавляющего большинства тогдашних исследователей, обращавшихся к этой тематике.

Для большинства – но все-таки не для всех. Одним из тех немногих, кого не коснулась эта мода, был знаменитый французский энтомолог Жан Анри Фабр. И сам он, и его роль в истории изучения поведения животных настолько необычны, что разговор о нем я решил вынести в отдельный сюжет (см. интермедию 1). Другим исследователем, не соблазнившимся прямолинейно понятым «дарвинизмом», оказался… сам Дарвин. В отличие от Роменса, он четко разграничивал врожденное (инстинктивное) поведение, результаты обучения и «способность к рассуждению» (reasoning) – то есть проявления собственно разума. Больше всего поражает именно это последнее различение – если учесть, насколько естественным казалось и тогда, и много позже отождествление разума с обучением и обучаемостью и насколько мало фактических оснований для их различения было у Дарвина.
Но вернемся к мейнстриму новорожденной зоопсихологии. Итак, поведение животных рассматривалось как внешнее проявление психических явлений и возможностей, позволяющее судить о них, сопоставляя наблюдаемое поведение с теми или иными формами поведения человека и приписывая животным соответствующие черты и явления человеческой психики. То есть соотношение психической жизни и ее внешних проявлений у человека было для зоопсихологов того времени своеобразным эталоном, образцом для сравнения. Парадокс, однако, заключался в том, что если источником знаний о поведении животных наряду с «рассказами бывалых людей» и случайными единичными наблюдениями все больше становились специально организованные наблюдения и эксперименты, то в отношении человека исследователям приходилось опираться лишь на обыденное знание и умозрительные рассуждения философов. Психологии как науки в 1860–1870-х годах попросту еще не существовало.
Не будет большим преувеличением сказать, что зоопсихология не только появилась раньше собственно психологии, но и в значительной мере стимулировала становление последней как самостоятельной дисциплины с собственным предметом и методом исследования. И преемственность между ними не ограничивалась только идейным влиянием. Уже в 1862/63 учебном году молодой ассистент знаменитого физиолога Германа Гельмгольца, преподававший в Гейдельбергском университете физиологию, прочел годичный курс лекций «О душе человека и животных» – одно из первых систематизированных изложений рождающейся зоопсихологии, – а затем издал их отдельной книгой. Лектора звали Вильгельм Вундт. Спустя 16 лет, будучи уже профессором Лейпцигского университета, он создал первую в мире психологическую лабораторию – и это событие традиционно считается условным моментом рождения научной психологии.
А может, там и нет никого?
Книга Роменса была весьма популярна как у широкой публики (в ту пору всякому образованному человеку полагалось интересоваться новинками науки, а уж такая тема, как «ум животных», была обречена на успех у читателей), так и в научных кругах. Однако даже ко времени ее выхода безудержно-антропоморфистский подход автора разделяли уже не все исследователи – хотя его сторонники все еще преобладали. Начиная с 1880-х годов маятник научной моды начал движение в обратную сторону – поначалу медленное и незаметное, но набирающее скорость едва ли не с каждым годом.
Причин тому было несколько. Прежде всего, к этому времени эйфория первых последарвиновских лет уже немного повыгорела, эволюционный энтузиазм понемногу начал уступать место некоторой усталости, переходящей в разочарование. Первые, самые богатые плоды применения эволюционного подхода ко всем биологическим (и не только) проблемам были уже собраны, к другим оказалось не так-то просто подступиться. Виды упорно не хотели превращаться друг в друга, Фрэнсис Гальтон и особенно Август Вейсман поставили под сомнение возможность наследования приобретенных признаков (для большинства биологов того времени это выглядело как удар по самой идее эволюции, хотя оба скептика были убежденными эволюционистами), прямое наблюдение эволюционных процессов представлялось невозможным. Вакуум восполняли многочисленные умозрительные теории (механизмов наследственности, механизмов эволюции, происхождения тех или иных групп организмов или отдельных важных феноменов вроде многоклеточности и т. д.), в обилии которых терялись критерии научности и доказательности. Вместо содержательных объяснений все чаще предлагались чисто умозрительные (и притом довольно шаблонные) схемы.
Чтобы не быть голословным, приведу всего лишь один пример. Известно, что одно из самых наглядных достижений дарвинизма – объяснение покровительственной (маскирующей) окраски, существование которой очень трудно интерпретировать с точки зрения других эволюционных теорий (попробуйте представить животное, которое регулярно упражняется в цветовом сходстве с фоном!). Но побочным следствием этого успеха стало то, что как «покровительственную» стали трактовать едва ли не вообще любую окраску. Скажем, на болотах Флориды живет розовая колпица – довольно крупная птица из семейства ибисов. Она действительно окрашена в ярко-розовый цвет, резко контрастирующий с любым природным фоном. Однако некоторые зоологи XIX века совершенно серьезно рассматривали эту окраску как покровительственную: якобы она делает птицу незаметной в лучах рассветного и закатного солнца[19]19
Эту забавную версию, пожалуй, можно было бы всерьез обсуждать, если бы ее удалось подкрепить какими-нибудь фактами – скажем, показать, что розовая колпица выходит на открытые места только на рассвете и на закате, а остальные часы проводит в густых зарослях, убежищах и т. д. Но никто даже не попытался это сделать – высосанное из пальца «объяснение» казалось достаточным само по себе.
[Закрыть]. Начитавшись таких «объяснений», трезво мыслящие ученые стали сомневаться, существует ли покровительственная окраска вообще.

Усталость от таких фантазий к последним годам XIX века вылилась в то, что позже историки науки назовут «кризисом классического эволюционизма». Выход из него наметился лишь во второй половине 1920-х годов и окончательно свершился к середине века. Но это – тема отдельного разговора и какой-нибудь другой книги. Нам сейчас важно, что уже начиная с 1880-х годов эволюционный подход понемногу терял привлекательность в глазах ученых – и это рикошетом отражалось на популярности зоопсихологических идей и построений. Но это была, пожалуй, наименьшая из трудностей, с которыми им пришлось тогда столкнуться.
Гораздо важнее было то, что ученые постепенно убеждались: антропоморфистские толкования поведения занятны и увлекательны, но ничего не объясняют и никуда не ведут. В начале зоопсихологического бума казалось: признав, что в психическом отношении человек связан с животными столь же тесным родством, что и в отношении физическом, мы сможем судить о внутреннем мире животных. Дескать, мы же знаем, каким душевным переживаниям у нас соответствуют улыбка или нахмуренные брови, о чем мы думаем, делая запасы на зиму или пытаясь открыть задвижку неизвестной конструкции. Но чем больше зоопсихологи занимались реальным поведением животных, чем строже становились их требования к наблюдениям, тем отчетливее они понимали, что даже внешне сходные проявления психической жизни у человека и у животных могут выражать совершенно разные состояния: например, прямой взгляд в глаза у горилл означает вызов и угрозу. А как быть с теми психическими процессами, которые и у человека-то не имеют явного и стандартного внешнего выражения? Одни люди во время напряженного размышления трут лоб или чешут в затылке, другие теребят и вертят в руках мелкие предметы, третьи расхаживают из угла в угол, у четвертых нет вообще никакого постоянного внешнего проявления этого состояния… Ну и как это поможет нам заметить аналогичные процессы у животных?
Антропоморфизм оказывался совершенно бессилен перед видовыми различиями в поведении. Известно, например, что слонов можно обучить слушаться команд погонщика, носить на спине людей и грузы, участвовать в бою. Многочисленные попытки обучить тому же носорогов не привели ни к чему. В чем бы ни состояла причина этой разницы, ясно, что ее невозможно объяснить, проводя параллели с человеческим поведением.

Все больше и больше исследователей задавались вопросом: а надо ли вообще проводить эти параллели? Нельзя ли объяснить наблюдаемые феномены чем-то другим, простым и измеримым, не привлекая таких ненаблюдаемых и непроверяемых понятий, как «подумал», «вспомнил», «захотел» и т. п.?