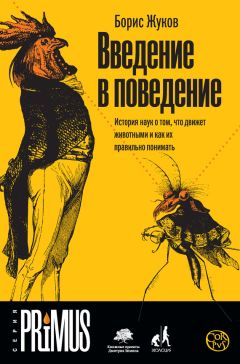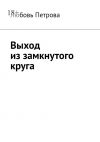Читать книгу "Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать"
Интермедия 1
Натуралист на пустыре
Положение Жана Анри Фабра в истории науки своеобразно и довольно двусмысленно. Еще при жизни он получил множество самых престижных научных и государственных наград и, наверное, по сей день остается самым знаменитым энтомологом всех времен и народов. Но при этом мало кто может вразумительно сказать, что же, собственно, сделал этот ученый, какие явления он открыл, какие теории выдвинул. Если людей, знакомых с историей биологии, спросить, кто такой Фабр, то ответы наверняка будут содержать самые лестные эпитеты – если уж не «великий», то как минимум «крупнейший» и «выдающийся». А если просто попросить назвать наиболее значительных биологов XIX века, то четверо из пяти не упомянут Фабра вовсе. Словно бы человек достиг выдающихся успехов в своей области, да только сама эта область – как бы и не совсем наука. Или, по крайней мере, лежит где-то далеко в стороне от магистральных проблем и путей науки.
Поприще Фабра действительно необычно для его века. В ту пору «естественная история» еще не была поделена границами отдельных дисциплин: все занимались всем, и один и тот же ученый мог с успехом исследовать то структуру горных пород, то строение усоногих раков, то экологическую роль дождевых червей, то способы выражения эмоций у приматов. Бесспорной царицей биологии была сравнительная анатомия, а другими «горячими точками», наиболее бурно развивавшимися направлениями – сравнительная эмбриология и филогенетика. В географическом же измерении передний край науки проходил вдали от обжитой Европы – в джунглях Амазонии и Малайи, в пустынях Центральной Азии, в морях и океанах. Фабр тоже интересовался широким кругом проблем естествознания, писал популярные книги по химии и астрономии, создал отличные атласы грибов Южной Франции и морских раковин Корсики, но свои оригинальные исследования ограничил единственным классом живых существ – насекомыми (лишь изредка заглядывая к их соседям по системе природы – паукообразным). Их он изучал в ближайших окрестностях городов, где жил, а в последние десятилетия – так просто рядом с собственным домом или внутри него. И хотя он уделял некоторое внимание их строению и даже пытался выделять и описывать новые виды (позднее упраздненные), главным предметом его интересов было поведение насекомых. Этот эфемерный феномен Фабр и изучал более полувека.
Биография Фабра описана подробно и многократно, в том числе и на русском языке (можно напомнить биографический очерк Н. Н. Плавильщикова, предпосланный русскому изданию однотомника избранных трудов Фабра, или книгу И. А. Халифмана и Е. Н. Васильевой в серии «Жизнь замечательных людей»). Поэтому напомним только ключевые моменты. Фабр родился 22 декабря 1823 года в довольно бедной семье, однако благодаря своим способностям и интересу к наукам смог получить образование и стать учителем начальной, а затем и средней школы. Преподавал в городе Карпантра, затем в Аяччо на Корсике, а последние 19 лет своей учительской деятельности – в Авиньоне. В последние годы Второй империи был привлечен министром просвещения Виктором Дюпюи к работе над проектом реформирования школьного образования и даже успел получить свой первый орден Почетного легиона. Но после падения Наполеона III эти знаки внимания вышли Фабру боком: в 1871 году он был уволен из авиньонского лицея и фактически отлучен от единственной профессии, которой владел. Однако примерно в это время вошли в моду научно-популярные книжки по естествознанию для детей, которые Фабр начал писать, еще будучи учителем. Доход от этих книг не только обеспечил Фабру и его семье кусок хлеба и крышу над головой, но и позволил ему в 1879 году осуществить свою давнюю мечту: неподалеку от Оранжа (где он жил после изгнания из школы), в городке Сериньян, Фабр купил дом и прилежащий к нему довольно большой участок земли – бывший виноградник. Официально участок именовался «Пустырем» (harmas), и это слово вскоре стало названием всего «имения» Фабра, как бы подчеркивая, что пустырь, превращенный новым владельцем в микрозаповедник для насекомых и энтомологическую лабораторию под открытым небом, является главной ценностью владения. В «Пустыре» Фабр и прожил все оставшиеся годы, засадив часть его плодовыми деревьями и цветущими кустами, а бо́льшую часть оставив в нетронутом виде.

Миром насекомых Фабр увлекся уже во взрослом возрасте, когда ему перевалило за 30, и продолжал полевые наблюдения почти до конца своей долгой жизни (он умер 11 октября 1915 года, немного не дожив до 92 лет). В 1855 году вышла его первая научная статья – об одиночной осе церцерис. Поселившись в «Пустыре», Фабр стал публиковать свои наблюдения в виде серии книг под общим названием «Энтомологические воспоминания». Томики «Воспоминаний» выходили регулярно три десятилетия, последний, десятый вышел в 1909 году. А вся научная деятельность Фабра вместила в себя первый период истории зоопсихологии целиком: начав свои исследования за несколько лет до выхода «Происхождения видов», Фабр дожил до манифеста Уотсона и становления бихевиоризма (см. главу 3), хотя вряд ли узнал об этом: в последние годы он уже не работал с литературой, да и прежде не очень интересовался отвлеченными вопросами. Прогремела перевернувшая «естественную историю» дарвиновская революция[27]27
Фабр до конца своих дней так и не принял теорию Дарвина, находя ее «бесполезной» и «ничего не объясняющей». Это не мешало ему переписываться с Дарвином и даже ставить предложенные тем опыты, а Дарвину и его последователям (в частности, уже знакомому нам Роменсу) – обильно цитировать Фабра и использовать его наблюдения в своих обобщениях.
[Закрыть], зародились, расцвели и вступили в полосу кризиса зоопсихология и собственно психология, вспыхнула и угасла теория тропизмов Лёба, Чарльз Уитмен и Конви Ллойд Морган наконец-то утвердили поведение животных (то, чем Фабр занимался к этому времени уже почти полвека) в качестве самостоятельного предмета исследований, Иван Павлов начал публиковать первые результаты изучения условных рефлексов. Круто менялась и вся биология: процвел и увял неоламаркизм и другие эволюционные построения XIX века, едва возникшая генетика заявила свои притязания стать основой всех наук о живом, экспериментальная эмбриология бросала вызов последовательному материализму предыдущего столетия, в круг понятий ученых вошли хромосомы, хлоропласты, вирусы, гормоны, витамины, фагоциты, антитела, группы крови. А упрямый старый натуралист день за днем и год за годом смотрел и описывал, как жук-навозник катит свой шар, как личинка осы сколии с церемонностью и неизменностью ритуала королевской трапезы ест свое огромное блюдо – личинку бронзовки, как жуки-могильщики закапывают в землю трупик мыши и как гусеницы походного шелкопряда идут своим бесконечным походом… Его не соблазняли возможности, открываемые новыми приборами и методами, он не вставал под знамена того или другого теоретического лагеря и не обсуждал корректность методологии. Он наблюдал.
Что он увидел там, на своем пустыре, за полвека с лишним сосредоточенных наблюдений? Помимо детального и достоверного описания поведения множества видов насекомых, Фабру принадлежит целый ряд открытий, каждое из которых могло бы вписать имя своего автора в историю науки. Он открыл явление гиперметаморфоза у жуков-нарывников: шустрая и стройная личинка первого возраста (триунгулин), закончив свое развитие и перелиняв, превращается не в куколку и не во взрослую особь, а опять-таки в личинку, но совсем другого типа – толстую, червеобразную, малоподвижную. Он опроверг миф о «самоубийстве» скорпиона, окруженного кольцом огня, и разобрался с механизмом мнимого «притворства» насекомых (реакции замирания, когда внезапно потревоженный жучок падает и неподвижно лежит, прижав лапки к телу, словно мертвый). И, в частности, он разгадал волновавшую натуралистов предыдущего поколения загадку: почему добыча ос-охотниц, сложенная в норку, не высыхает и не разлагается за то время, что ею питается личинка осы? Леон Дюфур, исследовавший этот феномен на одном из видов осы церцерис, охотящемся за жуками-златками, предположил, что оса, убивая жука жалом, одновременно впрыскивает ему какое-то вещество, препятствующее гниению. Фабр доказал, что дело обстоит совсем иначе: церцерис не убивает, а парализует жука, поражая его нервные узлы. Жук лишается подвижности, но остается живым и свежим – до тех пор, пока прожорливая личинка осы не доберется до его жизненно важных органов. И, как показали дальнейшие исследования Фабра, точно так же поступают другие осы-охотницы: аммофила – с гусеницей озимой совки, сфекс – с кузнечиком, помпил-каликург – с тарантулом и т. д.
Таким образом, старое доброе понятие «инстинкт» представало в совершенно новом свете. Одно дело – просто воткнуть жало в жертву определенного вида и впрыснуть ей дозу яда, который довершит остальное. Как ни удивительно, что новорожденная церцерис, не видавшая еще ни одного жука, знает, что ее добыча – златки, это, в конце концов, не более удивительно, чем столь же врожденное знание кошки о том, как следует поступать с мышами. Но точные и строго дозированные инъекции в нервные узлы, расположение которых невозможно установить по внешнему виду жертвы, – это нечто иное. Откуда оса могла получить столь точное и изощренное знание?
Царивший в то время в зоопсихологии антропоморфизм тут был совершенно бессилен: у человека нет столь сложных и подробных врожденных программ поведения, и ему трудно даже представить, что могла бы думать и чувствовать оса, выполняя такую программу. Не впечатлял и эволюционный подход. Дарвин писал, что инстинкты формируются так же, как и морфологические структуры: отбором мелких случайных изменений (в данном случае – поведения). Но как это приложить к осам-парализаторам? Когда-то они тыкали жалом в кого попало, потом отбор сохранил только тех, что жалили жуков, затем – тех, кто предпочитал исключительно златок, и наконец – только тех, кто наносил удары строго в нервные узлы и никуда больше? Но опыты Фабра показали: ни на мертвом, ни на недообездвиженном жуке личинка осы не дотянет до окукливания. Если бы эволюция шла таким путем, осы церцерис давным-давно исчезли бы с лица Земли, не достигнув нынешнего совершенства в своих приемах. Впрочем, что там церцерис! Ее добыча защищена прочным панцирем, но сама совершенно безоружна. А вот другая оса-парализатор – помпил – охотится на крупных ядовитых пауков, и точка, куда она должна нанести удар, – прямо возле смертоносных крючков-хелицеров. Малейшая неточность в движениях – и охотник сам превратится в дичь. Можно ли представить, что такое поведение возникло как цепочка мелких случайных изменений?![28]28
Надо сказать, что убедительной модели эволюционного формирования столь сложных, подробных и требующих точного исполнения поведенческих программ не создано и до сих пор. Хотя в свете наших сегодняшних знаний о коэволюционных процессах, о генетических и физиологических механизмах поведения и т. д. эта проблема выглядит все же не столь загадочной и необъяснимой, как в XIX веке.
[Закрыть]
Тогда, может быть, правы последователи модного в 1870–1900-е годы направления – психоламаркизма? Может, изощренные приемы ос-охотниц когда-то были изобретены сознательно, затем в результате многократного применения вошли в привычку и в конце концов закрепились наследственно так, что теперь каждая оса владеет ими от рождения? Эта схема, выдвинутая, как мы помним, в середине XVIII века Кондильяком, в последней трети XIX столетия снова обрела некоторую популярность.
Вопрос о соотношении инстинкта и разума – пожалуй, единственный крупный и острый теоретический вопрос, явно интересовавший Фабра. Снова и снова сериньянский мудрец обращался к нему, исследуя самые сложные и совершенные формы поведения у самых разных видов своих шестиногих подопечных и пытаясь найти в их действиях если не разум, то хотя бы сознательное намерение, оценку результата своих усилий и соотнесение дальнейших действий с этим результатом. И всякий раз ответ был отрицательным. Насекомое может поражать сложностью и совершенством своих действий – но лишь до тех пор, пока оно действует в стандартной, веками повторявшейся ситуации и встречается лишь с такими трудностями, с которыми регулярно сталкивались бесчисленные поколения его предков. Все, чего в естественных условиях не бывает или бывает достаточно редко, ставит насекомое в тупик и превращает его столь целесообразное поведение в бессмысленное и порой самоубийственное. Вот молодая, только что вылупившаяся из куколки пчела-каменщик покидает свое гнездо, прогрызая пробку из самодельного цемента, которой запечатала вход ее мать. Если дополнительно закрыть вход в гнездо кусочком бумаги, плотно прилегающим к пробке, пчела без труда прогрызет и ее. Но если накрыть гнездо колпаком из такой же бумаги, юная пчела так и умрет под ним: в тот момент, когда она выбралась в свободное пространство и расправила крылья, программа прогрызания останавливается и больше уже не запускается. Вот гусеницы походного шелкопряда на марше: они движутся строго друг за другом, каждая ползет вдоль шелковинки, оставленной предыдущей. Если сделать так, чтобы первая гусеница наткнулась на шелковый след последней, колонна замкнется в кольцо – и гусеницы будут ходить по кругу, пока не упадут от истощения, но ни одна из них не попытается прервать бессмысленное кружение. И оса аммофила деловито замуровывает норку, из которой Фабр только что выкинул парализованную гусеницу вместе с отложенным на нее яичком. Они валяются тут же, на виду у осы, но она не обращает на них ни малейшего внимания.
Многолетние наблюдения и остроумные опыты Фабра доказали: инстинкт и разум – не две степени развития одной и той же способности, как полагал Роменс и большинство их современников. Это два совершенно разных феномена, сами принципы действия которых абсолютно различны. Инстинкт может развиваться, становясь сложнее и совершеннее, но никакое развитие не превратит инстинктивное действие в хоть немного разумное – и точно так же никакая «привычка» не превратит разумное действие в инстинктивное. Между этими двумя формами поведения – пропасть, и чем дальше они развиваются, тем дальше уходят друг от друга.
Сегодня этот категорический вывод нуждается в некоторых оговорках. Разум и инстинкт действительно имеют разную природу и никогда не превращаются друг в друга, но могут причудливым образом переплетаться и взаимодействовать в текущем поведении. Но сейчас нас интересует другое: казалось бы, такая позиция просто не оставляет Фабру иного выхода, как разделить набирающий силу взгляд на животных – ну хотя бы только на насекомых – как на автоматы, лишенные всякой психической жизни. И действительно, в одном из редких у него «лирико-теоретических» отступлений мы читаем: «Насекомое не свободно и не сознательно в своей деятельности. Она лишь внешнее проявление внутренних процессов, вроде, например, пищеварения. Насекомое строит, ткет ткани и коконы, охотится, парализует, жалит точно так же, как оно переваривает пищу, выделяет яд, шелк для кокона, воск для сотов, не отдавая себе отчета в цели и средствах. Оно не сознает своих чудных талантов точно так же, как желудок ничего не знает о своей работе ученого химика».

Однако при чтении книг Фабра возникает неотвязное ощущение конфликта между тем, что в них утверждается, – и тем, как это говорится. Снова и снова Фабр доказывает: все поведение того или иного насекомого – лишь проявления инстинкта, там нет ничего разумного и сознательного, и само шестиногое существо не вольно хоть что-то изменить в своем поведении. Но при этом сам слог, выбор слов, построение фраз проникнуты горячим сочувствием и уважением к этим странным созданиям, столь похожим и столь непохожим на нас. Текст пестрит выражениями типа «труженик», «мои маленькие друзья», «нежная мать», «свирепый охотник оказался жалким строителем» и т. п. Фабр пишет о «мимике торжества» у аммофилы, а от лица другой осы-парализатора восклицает: «Самца на обед моей личинке! За кого вы ее принимаете?» Конечно, это не более чем литературный прием, призванный облегчить читателю восприятие сообщаемых сведений, «оживить» рассказ о странных существах. (Фабр был не чужд литературных амбиций – и, между прочим, «Энтомологические воспоминания» были в 1904 году номинированы на Нобелевскую премию по литературе.) Но этот прием – по замыслу автора или вопреки ему – достигает и еще одной цели: не имея возможности достоверно изобразить или описать внутренний мир насекомых, Фабр тем не менее поддерживает в читателе уверенность, что этот мир существует. Да, за действиями насекомых стоит совсем не то, что за внешне сходными с ними действиями людей, – но что-то все же стоит. Это «что-то» трудно исследовать и почти невозможно вообразить – но и игнорировать его нельзя.
Фабр не создал никакой общей теории поведения животных, не примкнул ни к одной из теорий, созданных его современниками или предшественниками, и вообще мало обсуждал общие вопросы (за исключением вопроса о соотношении инстинкта и разума). «Тысячи теорий не стоят одного факта», – писал он. В этой нелюбви к теоретизированию была и сила его, и слабость. Сила – потому что она сообщала его наблюдениям непредвзятость и достоверность, делая его труды ценнейшим сводом надежных фактических данных для ученых любых школ и направлений. Слабость – потому что «Монблан фактов», не пронизанных единой глубокой идеей, плохо удерживается в памяти коллег и потомков и, следовательно, слабо влияет на развитие науки.

Фабр – безусловный наследник традиции великих французских натуралистов, на сочинениях которых он рос. Но когда он вошел в науку, времена Бюффонов и Ламарков, видевших в живой природе наглядное проявление своих общефилософских взглядов, уже безвозвратно миновали. А эпоха создания теорий, объяснявших поведение животных из него самого, время Лоренца и Тинбергена началось, когда Фабра уже не было в живых.
И все же, помимо множества конкретных наблюдений и ряда частных открытий, помимо доказательства инстинктивного характера почти всего наблюдаемого поведения насекомых, Фабр оставил после себя еще кое-что: метод. Сосредоточенное, многолетнее, тщательное и беспристрастное вглядывание в естественное поведение своего «объекта», при необходимости дополняемое простыми и остроумными полевыми экспериментами. В главе 4 мы увидим, какие удивительные плоды принес этот метод в работах ученых XX века – тех из них, кто сумел им воспользоваться.
Глава 3
Душа отменяется
Почтительно попрощавшись с одинокой и независимой фигурой Фабра, мы возвращаемся к мейнстриму мировой зоопсихологии рубежа веков. Итак, мы остановились на том, что буквально в самые последние годы XIX столетия поведение животных было осознано как самостоятельный феномен и предмет изучения, а само это словосочетание становилось все более популярным, появляясь в названиях статей, книг и даже специальных журналов. И что в исследованиях этого нового предмета сразу же наметились два подхода – пока еще не противопоставленные друг другу и никак себя не называющие. Задним числом, зная, в какие научные направления развились эти два зачатка, мы можем условно обозначить их довольно неуклюжими именами «протобихевиоризм» и «протоэтология». Эта глава посвящена судьбе первого.
От собаки Моргана до собаки Павлова
Массовое сознание любит украшать историю науки легендами о предметах или происшествиях, якобы подсказавших тому или иному великому ученому прославившую его идею. Кто не слыхал о ванне Архимеда, яблоке Ньютона или чайнике Уатта? В истории «лабораторной зоопсихологии» такую роль – и не в позднейшей легенде, а на самом деле – сыграла собака. В уже знакомой нам книге Конви Ллойда Моргана «Введение в сравнительную психологию» автор, иллюстрируя, как поведение, выглядящее «проявлением высшей психической способности», объясняется «проявлением способности, занимающей более низкую ступень», описывает собственного терьера Тони, наловчившегося (так и хочется написать – насобачившегося) отпирать садовую калитку. Всякий, кто увидел бы только окончательную форму этого поведения – собака бежит к калитке и уверенно отодвигает задвижку, – счел бы это несомненным проявлением интеллекта, пониманием связи между положением задвижки и невозможностью открыть калитку. Но хозяин видел, как возник этот навык: пес крутился около калитки, трогал, дергал, толкал и тянул все, до чего мог достать, и в какой-то момент сдвинул задвижку – после чего обнаружил, что калитка беспрепятственно открывается. Вскоре он уже сразу отодвигал задвижку. Ллойд Морган истолковал это как действие методом проб и ошибок: животное совершает множество разнонаправленных и в общем-то случайных действий – но всякий раз оценивает результат. И когда какое-то действие приводит к успеху, животное запоминает его и в дальнейшем воспроизводит уже целенаправленно.
Пример с терьером и свою интерпретацию его Ллойд Морган повторил и в своих лекциях о зоопсихологии, прочитанных в 1896 году в США. Одним из его слушателей был молодой американский психолог Эдвард Торндайк, увидевший в этом нечто большее, чем просто довод в пользу «правила экономии». Для Торндайка это единичное наблюдение стало готовой основой экспериментальной методики изучения поведения животных, а слова о «методе проб и ошибок» – подходящей рабочей гипотезой. Конечно, садовая калитка – не самый удобный экспериментальный стенд, но можно ведь посадить подопытное животное в ящик с дверцей, отпирающейся изнутри, и посмотреть, как оно будет оттуда выбираться.
Торндайк так и сделал. Его первые подопытные – кошки – исправно вертелись в сконструированных им «проблемных ящиках», не только подтверждая модель «проб и ошибок», но и позволяя количественно оценивать динамику обучения – по времени отыскания пути к свободе. Кошка, однажды выбравшаяся из ящика, в следующий раз совершала нужное действие гораздо быстрее, а после нескольких сеансов уже задерживалась в ящике не дольше, чем нужно было, чтобы нажать на педаль или рычаг. При смене конструкции запора весь процесс начинался сначала – и приходил к тому же финалу.
Уже в 1898 году Торндайк изложил результаты своих экспериментов в книге, которую назвал… «Интеллект животных». Взяв у Ллойда Моргана схему эксперимента и гипотезу «научения путем проб и ошибок», он совершенно проигнорировал принципиальное для Моргана противопоставление такого научения «разумному решению». В конце концов, что такое «разум», как не умение достигать нужного результата в ситуациях, для которых у животного нет готового, врожденного ответа? Вот вам такая ситуация, вот животное, успешно находящее решение, – и вот механизм того, как оно это делает! Чего же вам еще? Противопоставлять этому простому и эффективному механизму туманные рассуждения о каком-то другом «разуме» означает играть в слова, пренебрегая возможностью объективного изучения поведения.
Позднее Торндайк значительно расширил круг животных в своих опытах, исследовав представителей разных отрядов млекопитающих. При этом оказалось, что скорость формирования простого навыка у них практически одинакова и больше зависит от индивидуальных качеств особи, чем от ее видовой принадлежности. Казалось бы, это должно было заставить усомниться в том, что обучение «методом тыка» и разум – одно и то же. Однако Торндайк и увлеченные его примером энтузиасты экспериментальной психологии сделали совсем другой вывод: раз динамика обучения у всех видов примерно одинакова, значит, этот процесс можно с равным успехом изучать на ком угодно – например, на белых крысах. Это делало изучение поведения доступным практически любому исследовательскому центру. А предложенные Торндайком количественные параметры процесса обучения открывали соблазнительную возможность превратить исследования поведения в столь же строгую научную дисциплину, как экспериментальная физика. Дело, казалось, было за малым: правильно выбрать переменные, от которых может зависеть «функция поведения».

И вот в 1908 году двое сравнительных психологов – Роберт Йеркс и Джон Додсон – сформулировали закономерность, признанную впоследствии основным законом обучения. Они изучали зависимость успешности обучения от уровня мотивации. Первую из этих величин измеряли уже знакомым нам способом – временем, необходимым для нахождения правильного решения (или числом проб, если его можно было точно подсчитать). А мерой мотивации служила величина подаваемого на лапы напряжения (подкрепление в этих опытах было отрицательным – крыса получала удары тока, пока не решала задачу). Варьируя ее, Йеркс и Додсон обнаружили, что с ростом мотивации успешность решения задачи (величина, обратная затрачиваемому времени) сначала растет, а затем, достигнув некоторого максимума, начинает падать. Получалось, что для каждой задачи существует оптимальный уровень мотивации, при котором задача решается успешнее всего. Сравнивая эти оптимумы для разных задач, исследователи обнаружили еще одну закономерность: чем труднее задача – тем ниже оптимальный для нее уровень мотивации.
Разумеется, во всех случаях речь шла о средних величинах. Последующий анализ первичных, «сырых» данных Йеркса и Додсона показывает, что при увеличении мотивации скорее возрастал разброс индивидуальных показателей успешности. А поскольку «сверху» эта величина ограничена чисто физическими причинами (грубо говоря, крыса не может «решить задачу» за время меньшее, чем нужно, чтобы просто добежать до рычага и нажать его), увеличение разброса оказывается асимметричным и приводит к снижению средней величины. Уязвимым с современных позиций выглядит и приравнивание силы мотивации к физической величине подкрепляющего воздействия. Тем не менее обе основных идеи Йеркса и Додсона (о существовании оптимального уровня мотивации и о том, что для однотипных задач он тем ниже, чем труднее задача) были впоследствии подтверждены на самых разных объектах – в том числе и на людях, которым предлагали собирать головоломки, вознаграждая правильные решения реальными деньгами. Так что «закон Йеркса – Додсона» быстро вошел во все учебники психологии, укрепляя представление о том, что именно таким путем – в строгих лабораторных экспериментах, регистрируя объективные и поддающиеся измерению показатели и не обращаясь ни к каким субъективным характеристикам – можно раскрыть основные закономерности, управляющие поведением животных. И людей – ведь Йеркс и Додсон показали, что между поведением человека и белой крысы в этих опытах нет принципиальной разницы. Все это еще более подогревало ожидания, привлекая в «экспериментальную психологию» молодых, энергичных, амбициозных ученых.
Таково было общее направление умов, интеллектуальный фон, на который легли первые сообщения о поразительных результатах, полученных русским физиологом Иваном Павловым и его сотрудниками. В самом обращении русского ученого к этой теме ничего особенного для американских психологов не было: в 1900-х годах, особенно во второй их половине, исследование процессов обучения стало для них уже центральной темой, так что их не удивляло, что и по другую сторону Атлантики кто-то наконец занялся этой интереснейшей областью. Но Павлов подошел к ней с совершенно неожиданной стороны: первые же его опыты показывали возможность адаптивного изменения («обучения») вегетативной функции – слюноотделения. Подобные функции у человека находятся вне контроля сознания[29]29
Сейчас мы знаем, что длительные упражнения с использованием специальных психотехник (йога, аутотренинг и т. д.) позволяют научиться сознательно управлять в известных пределах вегетативными функциями. Но физиологам и психологам первых лет XX века эти функции представлялись совершенно независимыми от сознания.
[Закрыть], и то, что вовлечь их в процесс обучения оказалось так же легко, как и произвольные движения, заставляло взглянуть на соотношение сознания и поведения совсем по-другому. Речь шла уже не о том, что поведение можно изучать, не привлекая категорий сознания (раз уж применительно к животным оперировать ими все равно невозможно), а о том, что, обходясь без них, мы, возможно, вообще ничего не теряем. А самое главное – работы Павлова подводили под исследования поведения солидную физиологическую базу, основанную на почтенной идее рефлекса.
Вопрос о возможности интерпретации поведения как совокупности рефлексов обсуждался в зоопсихологии и раньше (см. главу 2), но в Америке этот подход имел прежде даже меньше сторонников, чем в Европе. Против него, в частности, резко и убедительно возражал Торндайк: никакой рефлекс и никакая комбинация рефлексов не могут объяснить адаптивные изменения в поведении, так как рефлекс – это определенная реакция на определенный стимул, он задан раз и навсегда и не может меняться. По Торндайку, поведение реализуется не той или иной рефлекторной дугой[30]30
Рефлекторная дуга – цепочка нейронов, по которой проходят нервные импульсы в процессе срабатывания данного рефлекса.
[Закрыть], а только организмом в целом и задается не стимулом, а целью. Но результаты Павлова снимали это возражение: если любое исходно нейтральное ощущение может при известных условиях превратиться в стимул, запускающий тот или иной рефлекс, то это может обеспечить поистине безграничные возможности адаптивного изменения поведения. По крайней мере, так в ту пору казалось многим. Торндайк, правда, остался при своем мнении, но даже его авторитет не мог перевесить всеобщего ощущения, что заветный ключ к пониманию поведения найден. Тем более что работы Павлова давали не только теоретическую основу для интерпретации поведения, но и великолепный, почти универсальный метод его экспериментального изучения.

Можно сказать, что американская «экспериментальная психология» сыграла роль своеобразного усилителя, через который идеи Павлова проникли в мировое психологическое сообщество (именно психологическое – в мире физиологов Павлов был прекрасно известен задолго до того, как занялся условными рефлексами). Кстати, успех работ Павлова среди американских психологов пробудил у них интерес к русской физиологической школе вообще, в том числе к трудам Сеченова. Знакомство с ними в итоге привело американского ученого Генри Мак-Комаса к созданию так называемой моторной теории сознания, согласно которой содержание сознания просто отражает собственные движения тела, не будучи их причиной и вообще никак на них не влияя. Не все американские психологи разделили столь радикальный взгляд, но теория Мак-Комаса активно обсуждалась в психологической литературе и в общем-то не встречала принципиальной критики.
Таким образом, как мы видим, общее умонастроение в американской экспериментальной психологии на протяжении всех 1900-х годов неотвратимо сдвигалось в сторону идеи о ненужности привлечения психики (и вообще субъективной стороны дела) для исследования и понимания поведения. Едва ли не каждый заметный успех в исследованиях укреплял позиции именно такого подхода – независимо от личных взглядов ученых, достигших этого успеха, и даже порой вопреки им. К началу 1910-х этот концептуальный сдвиг в основном уже произошел. Для его завершения не хватало только одного – человека, который бы прямо и внятно провозгласил подобный подход.
И такой человек, конечно же, вскоре нашелся.
И грянул гром
Точная дата рождения крупного научного направления почти всегда условна, а часто ее вообще невозможно определить. И все же такие даты всегда привлекают наше внимание – хотя бы потому, что маркируют собой некие качественные переходы в развитии науки. Пусть эти переходы свершались не в один день – дата, даже условная, дает возможность сравнить состояния «до» и «после».