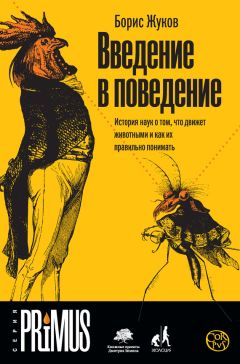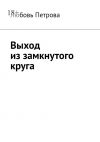Читать книгу "Введение в поведение. История наук о том, что движет животными и как их правильно понимать"
На корабле зоопсихологии зрел бунт. И наиболее радикальным выразителем его стал немецкий (а затем американский) биолог с французским именем Жак Лёб. Этот ученый оставил свой след во многих областях биологии: он изучал искусственное оплодотворение и партеногенез у животных, процессы роста у растений, механизмы регенерации тканей, действие солей на живую клетку (в частности, на развивающуюся яйцеклетку), свойства белковых растворов, влияние температуры среды на продолжительность жизни животных и многое другое. И почти все его исследования можно объединить под рубрикой «действие простых физико-химических факторов (температуры, освещенности, концентрации определенных веществ и т. д.) на биологические процессы и явления». На любые загадки жизни Лёб искал простые ответы. Так же он подошел и к проблеме поведения животных.
В 1890 году он выпустил книгу «Гелиотропизм животных и его соответствие гелиотропизму растений». Основная ее идея была такова: известно, что у многих растений верхушки растущих побегов или цветы поворачиваются в сторону источника света. Это происходит за счет того, что свет каким-то (не важно, каким именно) образом тормозит растяжение молодых клеток. На затененной стороне стебля клетки растягиваются сильнее, чем на освещенной, и стебель изгибается в сторону источника света. Для объяснения этого процесса не требуется привлекать не только никаких «психических функций», но даже никакой центральной регуляции: каждая клетка в своем функционировании подчиняется простому правилу (чем больше света – тем меньше растяжение), не нуждаясь в каких-либо дополнительных сигналах ни от соседних клеток, ни от других тканей и органов растения[20]20
Сейчас известно, что это не вполне так: механизм фототропизма у растений более сложен и включает гормональную регуляцию со стороны верхушки побега («точки роста»). Но для нашей темы это несущественно.
[Закрыть].
А нельзя ли таким же образом объяснить и поведение животных? Вот, скажем, известно, что некоторые мелкие пресноводные ракообразные (например, многие дафнии) днем держатся преимущественно в менее освещенных придонных слоях воды. Понятно, что объяснить это предпочтение «по аналогии с человеком» невозможно. А надо ли? Представим себе, что каждая отдельная дафния вообще не выбирает, куда ей двигаться. Просто падающий на нее свет возбуждает ее нервную систему, и та заставляет мышцы сильнее и чаще махать ногами-веслами. Дафния движется хаотически, но на свету это движение усиливается, а в тени – ослабевает. В результате при исходно равномерном распределении дафний по всей площади пруда из света в тень будет перемещаться больше рачков, чем из тени в свет – до тех пор, пока разница концентрации дафний на свету и в тени не уравновесит разницу их активности. Никакой психологии, минимум физиологических допущений, в основном – чистая физика вроде молекулярно-статистических моделей Максвелла и Больцмана! По сравнению с этой простой и ясной схемой даже концепция рефлекса (предполагающая строгое соответствие между внешним воздействием и ответной реакцией) выглядела ненужным усложнением или частным случаем. К тому же для рефлекса нужна хоть какая-то нервная система, а механизмы типа вышеописанного могут существовать даже у одноклеточных. Правда, непонятно, почему те же дафнии все же остаются в толще воды, а не набиваются под камни и коряги, где освещенность еще ниже. Но, наверно, там, вблизи дна, включается еще какой-нибудь тропизм – так по аналогии с реакциями растений назвал эти явления Лёб[21]21
Сейчас такие движения животных – ориентированные относительно определенного физического или химического фактора и не направленные на достижение конкретной цели – принято называть таксисами, а термин «тропизмы» используется для обозначения реакций, не опосредованных нервной системой и, как правило, выражающихся не в движении, а в неравномерном росте тканей.
[Закрыть].
Теория тропизмов привлекла немало внимания и с тех пор неизменно излагается во всех учебниках и справочниках по зоопсихологии. Правда, мало кто готов был видеть в ней универсальный ключ к проблеме поведения в целом. Даже самому Лёбу было ясно, что в понятиях тропизмов очень трудно описать и объяснить, например, феномен обучения. Чтобы не отказываться от столь милого его сердцу взгляда на поведение как на однозначное следствие универсальных свойств живой материи, он вынужден был наделить все живое «мнемической функцией» (способностью запечатлевать внешние воздействия, сходной со способностью фотореактивов запечатлевать падающий на них свет, но чувствительной не к одному лишь свету, а к любым факторам среды) и способностью к ассоциации, то есть к связыванию регулярно совпадающих во времени воздействий – в результате чего прежде безразличное воздействие начинает производить эффект, аналогичный эффекту воздействия значимого. Эти построения были вполне в духе того времени: подобные идеи высказывались и в биологии, и в психологии. Но апелляция к ним лишала теорию Лёба ее главного козыря – объяснения поведения простыми физическими процессами. Каков бы ни был механизм этой загадочной «способности к ассоциации», ясно было, что чем-нибудь вроде «возбуждения нервной ткани под действием света» тут не обойтись.

Впрочем, у теории тропизмов хватало проблем и на ее собственном поле. Ну хорошо, допустим, дафнии собираются на затененных участках по чисто статистическим причинам, двигаясь в целом хаотически. А почему, например, насекомые – в том числе сугубо ночные – летят на свет? И почему они приближаются к источнику света не по прямой, а по сужающейся спирали? Почему в начале своей жизни лососи скатываются вниз по течению, затем долго вовсе не заходят в пресные воды, а потом, идя на нерест, движутся строго против течения? Применительно к этим (и многим другим) явлениям слово «тропизм» оказывалось ничего не объясняющей тавтологией, вроде незабываемых «пояснений» мольеровского доктора Диафуаруса: опиум-де усыпляет, потому что в нем содержится усыпительное начало…
Но сама идея того, что поведение животных можно объяснить, не прибегая к психологии и не пытаясь «реконструировать» их ненаблюдаемую психическую жизнь, показалась привлекательной многим ученым. И даже те, кто по-прежнему считал изучение психики животных возможным и желательным, ощущали необходимость как-то ограничить безудержный антропоморфизм предыдущих десятилетий.
По лезвию бритвы Оккама
В 1894 году профессор зоологии и геологии Университетского колледжа в Бристоле Конви Ллойд Морган выпустил книгу «Введение в сравнительную психологию». В ней, как и в книге Роменса, приводилось немало фактов, связанных с поведением животных, – как установленных самим автором (в том числе путем специально организованных наблюдений), так и взятых из обширной зоопсихологической литературы. Однако подход автора к истолкованию этого материала был гораздо критичнее – о чем он сам сообщал читателям в следующих словах: «Ни при каких обстоятельствах мы не имеем права рассматривать то или иное действие как проявление какой-либо высшей психической способности, если его можно объяснить как проявление способности, занимающей более низкую ступень на психологической шкале». Сам автор назвал эту максиму «правилом экономии», а в историю наук о поведении животных она вошла как «канон Ллойда Моргана».
Бросается в глаза сходство канона Ллойда Моргана с бритвой Оккама – одним из самых известных и универсальных правил научной методологии: в тех случаях, когда факты допускают несколько возможных объяснений, надлежит выбирать самое простое и требующее меньше всего гипотетических допущений. Можно сказать (большинство комментаторов канона Ллойда Моргана так и говорят), что «правило экономии» и есть частный случай бритвы Оккама, ориентированный на задачи зоопсихологии. Это, безусловно, верно – и между прочим означает, что на «бритву Ллойда Моргана» распространяются все ограничения и парадоксы, касающиеся бритвы Оккама (о которых мы не будем здесь говорить, так как это увело бы нас далеко от темы). Но к этому следует добавить, что у канона Ллойда Моргана есть специфическая ахиллесова пята – сама идея «психологической шкалы».
Дело даже не в том, можно ли считать, скажем, изощренное совершенство действий осы помпила, от рождения знающей, как парализовать грозного паука, которого она еще ни разу не видела, «низшей психической способностью» по сравнению с поведением новорожденного цыпленка, который сначала клюет все мелкие предметы подряд, но вскоре обучается не обращать внимания на то, что оказалось несъедобным. Гораздо важнее, что представление о единой шкале психических способностей неизбежно заставляет нас видеть в инстинкте зачаточную форму разума и невольно вносить в любое сопоставление этих двух разноприродных компонентов поведения умозрительную идею «развития от низшего к высшему». Гоня наивный роменсовский прогрессизм в ворота, канон Ллойда Моргана сам открывает ему неприметную калитку.
Тем не менее само по себе выдвижение такого требования знаменовало отход от наивного антропоморфизма и появление в зоопсихологии некоторой внутренней критической рефлексии – что означало определенную зрелость этой дисциплины. При этом критика Ллойда Моргана отнюдь не ставила под сомнение возможность и необходимость психологической интерпретации поведения животных – речь шла только о том, чтобы ввести эту интерпретацию хоть в какие-то методологические рамки. Можно даже сказать, что книга Ллойда Моргана была полемичной не только по отношению к старой антропоморфистской зоопсихологии, но и по отношению к уже сложившейся альтернативе ей – попыткам вовсе исключить из рассмотрения психику при анализе поведения. И хотя формально предельным случаем следования канону Ллойда Моргана можно считать подход Лёба, в реальных научных баталиях 1890-х годов эти ученые оказались в разных лагерях.
Как уже говорилось, теория Лёба привлекла много внимания, но мало сочувствия. Однако общая идея заменить в объяснении поведения ненаблюдаемые психологические факторы на что-нибудь более осязаемое не только не была скомпрометирована неудачей Лёба, но с каждым годом выглядела все соблазнительнее. Тем более что как раз в это время начала вырисовываться подходящая кандидатура для такой замены: вторая половина и особенно конец XIX века были временем бурного развития экспериментальной физиологии. И одним из самых успешных направлений в ней стала физиология нервной системы, где царила уже знакомая нам идея рефлекса.
Как мы помним, концепция «отраженного действия» была выдвинута еще Декартом в первой половине XVII века и в равной мере относилась как к физиологии животных, так и к их поведению (тем более что сам Декарт не видел существенной разницы между этими двумя областями, считая то и другое производным от анатомии). На рубеже XVIII–XIX веков эта идея (уже под привычным нам именем «рефлекса») возродилась в физиологии и до поры до времени не выходила за ее пределы. Но уже в 1863 году русский физиолог Иван Сеченов опубликовал свою знаменитую работу «Рефлексы головного мозга», содержавшую не только ряд интересных и нетривиальных экспериментальных результатов и теоретических положений, но и явно выраженную претензию на научное описание поведения человека на основе концепции рефлекса[22]22
«Рефлексы головного мозга», вышедшие отдельной книгой в 1866 г., представляют собой развернутый вариант обширной статьи, опубликованной Сеченовым в 1863 г., которую сам автор хотел назвать «Попытка свести способы происхождения психических явлений на физиологические основы».
[Закрыть]. (Напомним: в эти годы психологии как самостоятельной науки еще не существует[23]23
Современного читателя «Рефлексов…» может смутить то, что в книге неоднократно упоминаются «психология» и «психологи», по отношению к которым автор настроен резко критически. Дело в том, что психология в те времена существовала как раздел философии – примерно в том же статусе, в каком существовали тогда (и существуют поныне) этика и эстетика.
[Закрыть], область душевной жизни традиционно считается вотчиной философии, но естествознание уже заявляет свои притязания на нее – и работа Сеченова стала одной из таких заявок.) На родине автора работа имела успех шумный и скандальный (поскольку была воспринята прежде всего как манифест воинствующего материализма), за пределами же России на нее обратили внимание только профессионалы, отнесшиеся к ней с интересом, но вполне спокойно. В любом случае в ту пору это было скорее программой на будущее, чем реальной попыткой создания полноценной теории. Однако к 1890-м годам рефлексология и вообще физиология не только продвинулись далеко вперед, но и стали одной из «горячих точек» науки – областью, от которой ждут открытий, важных не только для нее самой. Чарльз Шеррингтон уже начал свои исследования по выяснению основных закономерностей рефлекторной деятельности нервной системы, и в его работах так соблазнительно просматривалась возможность представить любой акт поведения как более или менее сложную последовательность рефлексов[24]24
Интересно, что сам Шеррингтон до конца своей долгой жизни оставался виталистом и полагал, что психика не порождается мозгом, а лишь использует его как своего рода «пульт» для управления телом.
[Закрыть]. И конечно же, нашлись желающие пойти по этому пути.
В 1898 году физиолог Альбрехт Бете опубликовал статью, заголовок которой говорил сам за себя: «Должны ли мы приписывать муравьям и пчелам психические качества?» Автор полагал, что если не все животные вообще, то уж беспозвоночные, во всяком случае, представляют собой «рефлекторные машины». Но даже если у высших животных и есть нечто похожее на психику, научное изучение ее все равно невозможно, поскольку психические явления по определению субъективны. Зато можно изучать рефлекторные механизмы, совокупность которых, собственно, и создает то, что мы называем поведением. В следующем году Бете и двое его коллег – Теодор Беер и Якоб фон Юкскюль[25]25
Фамилия этого ученого (с которым мы еще не раз встретимся в этой книге) в русской литературе часто пишется как «Икскюль».
[Закрыть] – предложили радикальную программу «объективизации» научной терминологии, заключающейся в полном изгнании из нее психологических терминов и стоящих за ними понятий. Вместо слова «память» предлагалось говорить и писать «резонанс», вместо «видеть» – «воспринимать свет» и т. д.
Нельзя сказать, что зоопсихологи приняли эту идею на ура (хотя среди физиологов она нашла немало сторонников – и кое с кем из них мы еще встретимся). Среди оппонентов «программы объективизации» вскоре оказался даже один из ее авторов – Якоб фон Юкскюль (подробнее см. главу 4). Но так или иначе в ходе дискуссий 1890-х годов перед всеми зоопсихологами встала довольно неприятная дилемма: ничем не ограниченный произвол ничего не объясняющих «психологических» интерпретаций – или возвращение к декартовскому взгляду на животных как на «рефлекторные машины». Прямо как в русской сказке: направо ехать – убиту быть, налево ехать – коня потерять…
Рождение предмета
Прежде чем двинуться дальше, я должен извиниться перед читателями за некоторое лукавство. Книга посвящена истории изучения поведения животных, но никто из исследователей, о которых шла речь до сих пор, не определял предмет своих интересов такими словами. От античности и до самых последних лет XIX века философы и ученые писали о «повадках», «привычках», «обычаях», «нравах», «уме», «характере», «манерах», «умениях», «способностях», «инстинктах», «чувствах», «воле», «душевной деятельности» и тому подобных категориях. (Даже сами слова, которые мы переводим словом «поведение», если и употреблялись, то довольно редко и отнюдь не как научный термин.) Внимательное чтение показывает, что часть этих слов – «повадки», «обычаи» и некоторые другие – обозначали как специфические формы поведения того или иного вида животных, так и то, что мы сегодня отнесли бы к его экологическим характеристикам: где он предпочитает селиться или держаться, чем питается, как переживает зиму и т. п. Другие же слова – в частности, чуть ли не самое характерное для этой темы слово «инстинкт» – у старых авторов обозначали одновременно как некие психические факторы (причем тоже довольно разнородные: в одних случаях это могли быть эмоции, в других – побуждения к конкретным действиям и т. д.), определяющие поведение животных, так и сами формы поведения, в которых эти факторы проявлялись. И дело тут было не в терминологической небрежности исследователей. Просто для них всех, к какой бы традиции они ни принадлежали – философской, натуралистической или физиологической, – поведение было лишь внешним проявлением психических явлений и качеств. Собственно, оно и интересовало их не само по себе, а именно как отражение внутреннего, психического мира животного, дающее возможность судить о нем. И для зоопсихологов XIX века, и тем более для их предшественников называть одними и теми же словами внешние действия и предположительно стоящие за ними психические феномены было столь же естественно, как, скажем, для палеонтолога – называть «позвонками» или «челюстями» как реальные окаменелости (по сути – куски камня), так и структуры тела некого древнего существа – никем не виданного, но реконструированного на основании этих окаменелостей.
Однако с середины 1880-х годов в работах англоязычных зоопсихологов изредка, а в 1900-е годы – уже регулярно используются слова, обозначающие именно и только поведение: conduct и современное behavior. И это было не просто веянием словесной моды. Как показала современный российский историк науки Елена Гороховская, специально исследовавшая этот вопрос, данный лексический сдвиг отражал изменения в самом взгляде ученых на проблему, сдвиг фокуса их внимания. Начинают появляться работы, в которых те или иные формы поведения (описываемые все еще в основном в старых терминах «инстинктов», «привычек», «ума» и т. д.) рассматриваются уже не как средство судить о психике животных, а как самостоятельный предмет изучения. В 1898 году известный американский зоолог Чарльз Уитмен прочитал в основанной им Морской биологической лаборатории в Вудс-Холе обширную лекцию, которая, начиная прямо со своего названия – «Поведение животных», – утверждала поведение именно как самостоятельный и самодостаточный предмет исследований. В следующем году Уитмен издал свою лекцию в виде брошюры, а еще через год уже знакомый нам Конви Ллойд Морган выпустил книгу с тем же названием.
Новое видение предмета исследований не означало решительного отказа от изучения психики животных (во всяком случае, не для всех исследователей – ожесточенные дискуссии на тему «Легитимна ли сравнительная психология?»[26]26
Название вышедшей в 1906 году статьи видного швейцарского психолога и зоопсихолога Эдуара Клапареда, в которой он отстаивает научную корректность изучения психики животных.
[Закрыть] продолжались еще два десятилетия). Но распределение ролей решительно изменилось: теперь уже не поведение рассматривалось как внешнее проявление психики (только этим и интересное), а психика – как внутренние механизмы поведения. Которые можно пытаться выяснить, а можно обойтись и без этого – смотря какие задачи ставит себе конкретный исследователь в конкретной работе и допускает ли он вообще возможность изучения психики животных. Несколько упрощая, можно сказать: то, что было фигурой, стало фоном, и наоборот – как на хрестоматийной картинке гештальтпсихологов, где по желанию можно видеть то бокал, то сблизившиеся для поцелуя лица. Собственно, только с этого времени – самых последних годов XIX века – и можно говорить об «изучении поведения животных» в строгом смысле слова.
Обсуждая возможные причины такого концептуального сдвига, Елена Гороховская называет среди них наметившийся в конце XIX века поворот зоологии к изучению живых животных в их естественной среде обитания, становление экологии и экспериментальной психологии как самостоятельных дисциплин, появление новых экспериментальных направлений в нейрофизиологии; а главное – возникновение и развитие зоопсихологии. К этому можно, пожалуй, добавить философский контекст: именно в это время в умах образованного общества в целом и особенно среди профессиональных ученых стремительно набирал популярность так называемый второй позитивизм (эмпириокритицизм), согласно которому наука могла заниматься только предметами, хотя бы в принципе доступными для объективного наблюдения (подробнее мы будем говорить об этом в главе 3). Но, как мне кажется, главной причиной действительно оказалось развитие зоопсихологии, его внутренняя логика. Поворот к изучению поведения как самостоятельного феномена стал своеобразным ответом зоопсихологии на ту дилемму, к которой она пришла к концу 1890-х годов: антропоморфизм либо механицизм.
На первый взгляд выход, предлагаемый таким смещением акцента исследований, был сугубо формальным – не выходом даже, а остановкой, отказом выбирать из двух зол. Однако на деле превращение поведения в самостоятельный предмет исследований позволило добиться на удивление значительных успехов в понимании этого предмета. Среди ученых, занявшихся новым предметом, с самого начала наметились два основных направления. Те и другие занимались исследованием поведения – но при этом у них разительно отличались не только методы и объекты, но и основные понятия и категории, в которых они осмысляли результаты своих исследований. В частности – представление о том, что же такое это самое «поведение» и из чего оно состоит. Одно направление сложилось в основном в США, было представлено преимущественно психологами и интересовалось главным образом феноменом обучения – то есть индивидуальных адаптивных изменений поведения. Его основным методом стал лабораторный эксперимент. Другое направление развивалось главным образом в Европе (прежде всего в Англии и Германии), объединяло в основном зоологов и изучало в первую очередь врожденные, неизменяемые формы поведения, характерные для целых видов.
Вся дальнейшая история наук о поведении животных связана в основном с этими направлениями, с разработанными ими методами и теоретическими представлениями (хотя были и другие, не связанные с ними школы и традиции – и по крайней мере об одной из них не сказать просто невозможно). Им и их наследникам будут посвящены почти все последующие главы нашей книги. Но прежде чем продолжить рассказ о них, мы должны бросить хотя бы беглый взгляд на фигуру, которая осталась вне школ и направлений, вдали от теоретических споров – но без которой невозможно представить историю изучения поведения животных.