Текст книги "Непорочная пустота. Соскальзывая в небытие"
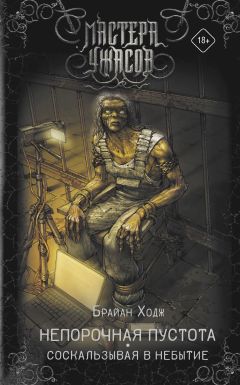
Автор книги: Брайан Ходж
Жанр: Ужасы и Мистика
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
– Я помню, – ответил Таннер. – Значит, вы так отсюда и не уехали? Большинству людей не захотелось бы, проснувшись поутру, видеть через дорогу этот дом.
Миссис Рэмсиджер провела рукой, тонкокожей и покрытой венами, по дверному косяку.
– Мы с мужем говорили о переезде. Но решили, что с тех пор, как это место опустело, оно нуждается в присмотре больше, чем мы нуждаемся в побеге от него. С нашим-то домом все в порядке, так с чего бы нам позволить этому нас выселить?
Она посмотрела на землю.
– В первые несколько лет я постоянно срезала цветы и приносила сюда. Укладывала их рядом с дверью и еще там, где кончается двор и начинается лес. Наверное, не стоило мне бросать эту привычку.
Она снова подняла взгляд и посмотрела на лес вдали, словно там все еще оставались могилы.
– Они до сих пор заслуживают цветов, тебе не кажется?
– Не знаю. Наверное, мертвым проще отпустить прошлое, чем живым.
– Будем надеяться, что это так. – Она похлопала себя по груди; из-под футболки донесся глухой стук. – Я и мое сердечко. А вот ты… Не знаю, издалека ли ты приехал, но тебе точно не просто улицу нужно было перейти, чтобы сюда добраться.
Она посмотрела на него, не моргая и не ожидая ответа, просто даря ему слегка печальную улыбку: улыбку женщины, которой хотелось бы, чтобы ее воспоминания были лишь слегка грустными – воспоминания о том, как она дарила конфеты детям, которые просто выросли и уехали, не чувствуя нужды возвращаться.
– Не спеши. Проведи здесь столько, сколько тебе нужно. А потом я посмотрю, не найдется ли у меня немножко цветов для… тех, кому они могут быть нужны. На случай, если кому-то станет легче, когда они поймут, что их не забыли. Что за них до сих пор молятся, если им это важно. Да даже если и не важно.
– Спасибо вам, – прошептал Таннер. – Я расскажу ей об этом, когда увижу.
Слово «если» он выговорить не смог.
Когда миссис Рэмсиджер оставила Таннера одного, ему захотелось, чтобы данное ею обещание что-то значило, что-то большее, чем само это действие: выбрать несколько цветков за их красоту, перерезать стебли, отделяя от того, что питало их, а потом бросить у двери, когда-то скрывавшей убийства детей, чтобы цветы увяли, побурели и сгнили, и никто об этом не узнал, и ничего от этого не изменилось.
Таннер снова уселся на корточки возле печи и засунул в нее руку, шаря в пустоте. Ладонь обдало холодом, и что-то слабо потянуло за кожу.
Дафна рассказывала об этом ощущении десять лет спустя, но он ей не верил. Из-за того, что эти воспоминания пришли к ней под гипнозом, они всегда казались ему подозрительными – памятью, приклеенной на место с помощью внушения; возможно, это вообще был какой-то другой случай, который годы связали с тем, что она пережила здесь. Он верил, что Дафна в это верила, и этим ограничивался.
Если Уэйд Шейверс не мог разжечь огонь в печке, дело было в его криворукости. А не в том, что кто-то или что-то этот огонь задувало.
И все же кусочек тех дней сохранился здесь до сих пор.
Если все действительно происходило так, как рассказывала Дафна, это могло объяснить одну вещь – не как она появилась, но хотя бы что это такое. Тем летним днем, когда ее вынесли из сарая живой, у нее на щеке был ожог размером с монету, красный и вздувшийся. Они думали, что это след еще одной пытки, которой подверг ее Шейверс, – например, раскалил круглый боек молотка с помощью пропановой горелки и использовал его как клеймо.
Только в следующие дни пятно повело себя не как тепловой ожог. Оно почернело и в конце концов слезло, обнажив под собой заживающую розовую кожу.
Врачи в больнице сказали, что это было похоже на обморожение.
С одной стороны приземистой печи торчал рычаг, железный с деревянной ручкой. Сейчас он был поднят – это значило, что дымоход открыт. Таннер давил на него всем весом, пока ржавчина со скрежетом не поддалась и вьюшка не закрылась, отрезая трубу.
Он собрал несколько горстей хрупких осенних листьев, сложил их внутрь и поджег зажигалкой. Они пылали и сворачивались, пока, наконец, не осталось ничего, способного гореть. Дым, который не мог уйти через дымоход, должен был остаться внутри, и поначалу так и было… но потом Таннер увидел, что он все равно рассеивается, исчезая в какой-то точке в середине топки. Дым медленно уплывал вглубь, словно его что-то затягивало, словно кто-то показывал фокус с сигаретой. На мгновение Таннер увидел, что это было – сфера величиной с желудь, размытая и нечеткая по краям, но более очевидная в центре – а затем, вместе с остатками дыма сгоревших листьев, она скрылась из виду.
Но он все еще чувствовал ее. Холод никуда не делся.
Теперь он верил, и не только в ее существование, но и в то, что раньше она была сильнее. Он верил, что она оставила на Дафне свой след, вечное клеймо, рану, которая пыталась зажить, но так и не смогла до конца излечиться от холодного, сухого, тянущего прикосновения сферы.
Его сердце сжималось при мысли о том, что внутри Дафна ощущала это притяжение с тех самых пор.
* * *
Я из тех покупательниц, которых обожают производители косметики: они никак не могут нам помочь, но мы все равно возвращаемся. Пока жива надежда, будут и платежи по банковской карте.
Это круглое пятно сухой кожи на левой щеке, там, где я заработала обморожение в печи Уэйда Шейверса… нет таких увлажняющих кремов, лосьонов или гелей, которые могли бы смягчить его, разгладить и сделать пухлее. Оно смеется над маслом ши. Оно поглощает петролатум. Оно проглатывает продающиеся по сотне долларов за унцию эксклюзивные кремы, которые синтезируются из центрифугированных стволовых клеток, взятых у специально выведенных девственниц чистейшей атлантской крови, и говорит: «Вкуснятина! А еще у тебя чего есть?»
Оно со мной с тех самых пор. За два десятка лет ничего не изменилось. Все остальное зажило так хорошо, что к тому времени, когда я перестала быть нимфеткой, я уже могла носить бикини, и вам пришлось бы долго присматриваться, чтобы увидеть то, что осталось от шрамов.
Но оно сохранилось. Это дурацкое сухое пятно размером с пятицентовик, оставленное холодным шаром, который я не могла увидеть, а только почувствовала. Масляные фабрики пубертатного периода его не устрашили. Это шрам, о котором забыло время.
Благодаря ему я впервые услышала слово «психосоматика». Но гипноз оказался столь же неэффективным лечением, как и все остальное.
Пятно помнит.
Мне говорили, что Уэйд Шейверс старался не оставлять следов на лицах пленников-детишек. Все, что ниже шеи, было для него законной добычей, и в паре случаев он пробивал затылок, но красивенькие личики ему портить не хотелось. Это, видимо, доказывает, что даже у чудовищ бывает чувство эстетики.
До тех пор, пока я не могу с ним справиться, это проблемное пятно – мой триумф над ним. Я смеюсь последней, Уэйд. Видишь? Ты облажался и оставил отметину. Узри мою чешуйчатую кожу, уебок поганый, и отчайся.
Третья фаза
Мы познакомились на йоге. Обычное дело.
Позже я говорила себе, будто это была моя идея, будто я наконец-то решилась пойти на йогу после того, как столько лет планировала это сделать, – и это правда. Я всегда думала, что йога должна мне помочь, если только я соберусь ею заняться. Кое-что в теле – мышцы и суставы – всегда казалось слишком напряженным: я винила в этом травмы, полученные в тот день в сарае; мне вообще было очень удобно сваливать все на сарай.
Даже я сама замечала, что чрезмерно полагаюсь на это объяснение. На то, с чем никто не может поспорить. Когда у тебя есть оружие, мгновенно обесценивающее чужую позицию, ты на него подсаживаешься, как на своего рода эмоциональный «Оксиконтин». Извини, мама, я не могу сегодня сделать уборку. Сарай, сама знаешь. Прошу прощения, я не могу справиться со стрессом от выпускных экзаменов на этой неделе. И нельзя же от меня ждать, что я удержусь и не позабавлюсь с твоим парнем. Опять же – сарай. Прости, но я не могу ответить тебе такой же сильной любовью. Не могу сегодня прийти на работу. Не могу сдержать обещание быть верной. Не могу выйти из запоя в этом месяце. Это все тот чертов сарай, разве вы не понимаете?
А знаете что? Пусть сарай сходит нахуй хотя бы разок, хорошо? Может, я просто родилась неповоротливой, вот и все. Итак, йога. Наконец-то йога. Вы только посмотрите на меня – беру инициативу в свои руки, вся такая, елки-палки, активная.
Но, с другой стороны…
В моем случае всегда есть какое-то «но». На самом ли деле это была моя идея? Не могло ли выйти так, что мне ее подкинули, а я приписала ее себе?
«Йога для чайников, версия для неуклюжих». Неужели мои преследователи не могут дать мне свободу хотя бы в этом?
Курсы йоги похожи на любое место, куда ты возвращаешься раз за разом. Проведя некоторое количество занятий за изображением собаки мордой вниз, крокодилированием и недобрыми мыслями о собственных мышцах, перестаешь зацикливаться на себе и начинаешь замечать постоянных посетителей. Замечаешь одни и те же несчастные лица. Кого-то ты игнорируешь, и вы оба знаете, что так будет всегда, и это нормально.
А вот другие… Что заставляет тебя снова и снова поглядывать на них? Что заставляет тебя думать: хм-м, кажется, я хочу с ней познакомиться? Что убеждает тебя, будто нормально встретиться с ней взглядом, побуждает улыбнуться, зная, что это не будет истолковано превратно и что никто ни к кому не клеится? Этакое «намасте» – страдающая дура на моем коврике приветствует страдающую дуру на твоем.
Затем вы перекидываетесь парой слов после занятия, после чего, наконец, из твоего рта вылетает нечто такое, чего ты не ожидала произнести вслух никогда в жизни: «Может, выпьем по чашечке масалы?»
Кто вообще так разговаривает? Видимо, люди, занимающиеся йогой. Такие, какими я их представляю, – пусть даже после этих слов я почувствовала себя маньячкой-аутисткой, которая пытается сойти за свою, повторяя фразы, услышанные в чужих разговорах.
Вот как мы познакомились с Бьянкой. Я не могла объяснить, почему меня так к ней тянет – с такой силой, что даже неловко; в детстве меня за подобное задразнили бы друзья: «Тили-тили-тесто, Дафна с Бьянкой вместе чаи распивают, РАЗ-ГО-ВА-РИ-ВА-ЮТ». Поддайся желанию хоть раз, решила я, – а Бьянка уже сидела в кафе, как будто наша нарождающаяся болтовня была самой естественной вещью в мире.
Между первыми глотками мы жаловались друг другу на то, каково быть неповоротливыми девицами в гибком мире Барби-йогинь, а уже через пять минут я знала все об аварии, в которую Бьянка попала, когда ей было восемнадцать. О себе я не распространялась. С такой штуки, как сарай, знакомство не начинают.
Намного легче было признаться ей, что я всегда хотела выглядеть как она. Те несколько попыток покрасить волосы в черный? Ни разу их результат и близко не был похож на то, что от природы ниспадало с головы Бьянки. Ее кожа, этот светлый, сливочно-коричневый оттенок? Хочу. А от зависти к чужим сиськам я к тому времени уже почти избавилась, о да, но было время…
Бьянке хватило такта, чтобы отшутиться и ответить мне тем же – сказать, что это меня генетика одарила всем, что она, взрослея, держала за идеал. Блондинка? Да. Глаза голубые? Да. Худая? Да. Высокая? Ну, это же все относительно, верно?
– Мы всегда хотим того, чего у нас нет, – сказала она мне. – Готова поспорить, ты ни разу в жизни, молясь, не говорила: «Спасибо тебе, Господи, что сделал меня валькирией».
Боже, эта женщина умеет льстить.
И, наверное, хорошо, что я унялась тогда, когда унялась, не сообщив в подробностях о том, как сильно мне понравились ее бедра, ее широкие, мягкие бедра, потому что ни одной женщине не положено мечтать о бедрах побольше. Но Бьянка казалась сильной, вот в чем было дело. Мне нравилось, насколько сильной она выглядит – словно женщина с картины Фрэнка Фразетты в одном из артбуков Аттилы. Так, будто с помощью своих рельефных, похожих на лошадиные, ляжек она могла бы пинком отправить Уэйда Шейверса в полет сквозь стену.
И все же, при всех наших различиях, в ней чувствовалось нечто столь знакомое, что я знала – если не пущусь за этим в погоню, буду потом жалеть всю жизнь. Опять же – что заставляет тебя уставиться на человека на тротуаре или на другой стороне людной комнаты и подумать: «Вот он. Вот этот человек. Этот незнакомец, так непохожий на всех остальных, кажется чем-то большим».
Кто-то назвал бы это феромонами. Кто-то – влечением. Слиянием флюидов.
Я в данном случае назвала бы это ебаной жуткой манипулятивной судьбой.
К тому времени, как остаток масалы остыл на дне наших чашек, я начала понимать, в чем тут дело.
– Ты мне кое-кого напоминаешь, – призналась я Бьянке. – Кое-кого из очень далекого прошлого. Ты первая, кто мне о нем напомнил.
Бьянка выглядела так, словно не знала, быть ей польщенной или насторожиться, но готова была предоставить мне кредит доверия. Должно быть, она думала, что речь идет об учителе, старом друге или любимом кузене, с которым я давно не общалась. «Кого?» – спросила она.
– Его звали Броди. Броди Бакстер.
Называть его имя было рискованно. Все мы, дети сарая, долго мелькали в национальных новостях, хотя мое имя в те недели буйства прессы не называлось, потому что: а) ребенок, б) выжившая и в) никто на таком раннем этапе не мог быть уверен, что у Уэйда Шейверса нет больного подражателя, готового выползти из-под какой-нибудь поленницы, чтобы меня добить.
Но Броди? Теоретически Бьянка могла о нем вспомнить. А если бы вспомнила, у нее было бы полное право испугаться. Однако – кто не рискует, тот не пьет шампанского, верно?
Его имя ничего ей не сказало. Просто ожидала она совсем не этого.
– Парня? Я напоминаю тебе какого-то парня? – Голос у нее был изумленный и немного разочарованный.
– Он был мальчиком. Маленьким мальчиком, очень особенным. Его родители не знали, как с ним быть. Он вечно говорил о самых необычных вещах. Как будто не вполне принадлежал этому миру.
Похоже, мои слова попали в цель и что-то для нее значили. Прекрасные темные глаза Бьянки расширились – даже зрачки, – как будто на каком-то животном, необходимом для выживания уровне она знала, что должна внимательно выслушать все, что будет сказано дальше.
– У Броди была потрясающая аура. Очень похожая на ту, что окружает тебя.
– Что с ним стало?
Я провела рукой по столу и накрыла ее ладонь, и в этот момент Бьянка стала моей; на ощупь она была потрясающей – мне кажется, подобное можно было бы ощутить, если одновременно погладить льва, единорога и гигантскую секвойю.
– Он был слишком хорош для этого мира. Слишком чист, что ли. Поэтому он ушел, – сказала я. – И оставил после себя маленькую круглую дыру.
* * *
Вызов поступил через час после рассвета – прежде, чем Таннер был к нему готов, но выбирать, когда людям попадать в неприятности, он не мог. Скалолаз по имени Джош Козак занимался свободным лазанием в неприветливой двухмильной расселине, известной под именем «каньон Коттонвуд», и застрял на песчаниковом карнизе шириной в два скейтборда. Выше подняться Джош не мог, а поскольку на карниз он перескочил, то, оказавшись на нем, не был уверен, что сумеет безопасно спуститься вниз. Если бы он спрыгнул и не сумел ухватиться за узкий каменный выступ, его бы ожидало падение на камни с высоты двухсот шестидесяти футов.
Хладнокровие покинуло его, и телефон тоже. Джош выронил его прежде, чем сумел вызвать помощь, чем обрек себя на ожидание до тех пор, пока мимо не прошла парочка туристов, до которых он смог докричаться уничтоженным жаждой голосом. Он просидел там половину позавчерашнего дня, весь вчерашний и две ночи.
На то, чтобы осознать ограниченность своих возможностей, ему ума хватило. Зато он натворил глупостей во всем остальном – влип в передрягу без веревки и спутников, да еще и не сказав никому, куда собирается.
Таннер отправился за ним с тремя напарниками, несколькими сотнями футов веревки, дополнительными обвязкой и шлемом, а также несколькими фунтами еды, воды, медикаментов и всего того, что еще могло им понадобиться. Они знали, где он, знали эту стену. Джош застрял ближе к вершине, чем к основанию. Быстрее и проще было добраться до него сверху, чем подниматься снизу.
Они подлетели к каньону на вертолете и за полмили до места приземлились на ровном участке, где высадили Камиллу, которая должна была пройти остаток пути пешком, сообщить Джошу, что они прибыли, и объяснить, чего ожидать в ближайшие полчаса. Пока она добиралась до него, они снова поднялись в воздух и обогнули каньон по дуге, приблизившись к нему с другой стороны, чтобы воздушный поток от лопастей не попадал на стену.
Они приземлились на вершине, на плоском и голом куске каменистой земли в сорока ярдах от обрыва, настолько близко к росшим у края низкорослым сосенкам, насколько готов был это сделать пилот. Он выключил турбины, и вокруг сомкнулась первобытная тишина. О более идеальном дне и просить было нельзя. Чистое темно-синее небо, солнце стоит так высоко, что не дает бликов, дождя не предвещается, а ветер лишь изредка превышает пять миль в час.
Высадившись, Таннер и двое его напарников закрепили веревки на паре лебедок, приделанных к борту вертолета. Они подошли к краю, миновав редкую цепочку искореженных стихиями сосен, чьи стволы за десятилетия роста на ветру закрутились штопорами. Таннер и Шон, второй скалолаз, которому этим утром предстояло заниматься поднятием тяжестей, подтащили веревки к обрыву и спустили их вниз, по обе стороны карниза – обиталища Джоша на протяжении последних сорока четырех часов.
Посмотрев вниз, они увидели в девяноста футах под собой его макушку. Когда они крикнули, что спустятся через несколько минут, Джош поднял голову, и стало видно, что лицо у него кирпичного цвета.
Сорок четыре часа с обгоревшей под солнцем кожей на этом карнизе не могли на нем не сказаться. Выспаться как следует он бы не сумел – в лучшем случае время от времени улучал несколько мгновений. Из еды у него с собой был разве что энергетический батончик. Вода, скорее всего, закончилась быстро, а при таком сухом воздухе – когда Таннер проверял в последний раз, влажность составляла двадцать четыре процента – к сегодняшнему рассвету он, должно быть, готов был слизывать росу с камней. Если мозг как следует просушить, он начинает выкидывать странные вещи; обезвоживание открывает двери помрачению рассудка.
Таннер отошел от края и вызвал по рации Камиллу, стоявшую у подножья стены.
– Мы готовы спускаться. Что скажешь об этом парне? Он в здравом уме?
– Более-менее в здравом, – ответила Камилла. – Но… Он спрашивал о тебе. Называл тебя по имени.
– Что?
– Он кричал мне, не ты ли будешь за ним спускаться. Таннер Густафсон. Он знал, как тебя зовут. Не спрашивай откуда.
– И ты точно в этом уверена. – Голос Таннера звучал напряженнее, чем ему бы хотелось. Он ведь должен был быть скалой, на которую все опираются. – Ерунда какая-то.
– Расспроси его, когда снимешь с карниза. Может, все проще, чем ты думаешь.
– Репутация тебя опережает, – ухмыльнулся Шон и похлопал его по плечу. – А как же «главное – команда», мужик? Я думал, у нас тут рок-звезд не бывает.
– Иди в жопу. Когда спустимся, я имею в виду. Тогда иди в жопу.
– В какой же нездоровой обстановке приходится работать, честное слово.
Таннер закатил глаза.
– Как пожелаешь. Иди в жопу сейчас.
– Ты уверен, что сможешь сегодня поднять такую тяжесть? Этого чувака, да еще и свое эго в придачу?
Они прицепили веревки карабинами к обвязкам и заправили их в тормозные устройства, чтобы держать спуск под контролем, а когда понадобится – остановиться. Надели перчатки, затянули шлемы, сделали серьезные лица. А потом спиной вперед шагнули за край и начали, отталкиваясь от стены, плавно спускаться по веревке по несколько футов зараз.
«Он спрашивал о тебе. Называл тебя по имени». Это озадачивало, но Камилла наверняка была права. Объяснение окажется простым. Например, когда-то давно они выручили из беды друга Джоша. Или Джош читал про Таннера в какой-нибудь новостной заметке. Или приходил к нему на семинар – важной частью работы Таннера, как директора поисково-спасательной службы Скалистых гор, были мероприятия по технике безопасности – и ему было стыдно признаться, что он проигнорировал элементарные правила. Например, «не будь тем идиотом, который никому не рассказывает, куда едет».
Полпути пройдено. Справа от него Шон осторожно обогнул выступ, напоминающий хищный зуб, и продолжил спуск.
С другой стороны, кому после сорока четырех часов вообще будет дело до того, кто за ним придет, если помощь уже в пути? Может быть, так у Джоша проявлялось помрачение рассудка: в виде одержимости незначительными деталями.
Осталось десять футов.
– Потерпи, Джош. Просто не двигайся с места еще пару минут. Ты отлично держался все это время. Еще пара минут, и все будет в порядке, братишка.
Они уже могли разглядеть его как следует. Даже с обветренной и обгоревшей кожей и потрескавшимися губами он выглядел так, словно еще не перевалил за третий десяток. Коротко остриженные волосы – чуть длиннее, чем двухдневная щетина на подбородке. Кончики пальцев Джоша были ободраны и покрылись коркой.
– Посиди там еще немножко, а потом мы сделаем вот что…
Блядь. Он встал. Джош встал, а они еще не подобрались настолько близко, чтобы его поймать.
– Ладно, – сказал Таннер. – Будем работать с этим.
Вообще-то Джош должен был то садиться, то вскакивать все проведенное здесь время, пытаясь найти удобное положение. Но это не имело значения. Видеть, как он поднялся сейчас, все равно было страшно. Это значило, что он не слушает. Когда помощь оказывалась так близка, люди иногда теряли терпение и пытались ускорить ход дела, словно утопающие, которые цепляются за спасателя и утягивают его за собой под воду.
Таннер зафиксировал веревку, Шон сделал то же самое. Первым делом они должны были убедиться, что Джош ясно соображает, что он неожиданно не бросится на кого-нибудь из них, как только они окажутся в пределах досягаемости. Такое случалось. Человек, который провел в страхе слишком много времени, прыгает и хватается за колени спасателя, и вот тогда ситуация становится по-настоящему напряженной.
– Мне нужно, Джош, чтобы ты стоял совершенно неподвижно. Понимаешь?
– Ты – Таннер, да? – спросил парень.
– Верно. А этот здоровяк справа от меня – Шон. И пока ты будешь стоять совершенно неподвижно, он спустится к тебе и наденет на тебя обвязку. Хорошо?
– Ты брат Дафны? Ее ведь так зовут, Дафна? Я правильно помню?
Таннер замер, держа руку на тормозном устройстве, и поймал взгляд Шона. «Это что-то новенькое». А Шон, возможно, поймал его взгляд. «Что вообще происходит?»
– Поговорим о ней позже, хорошо?
– Нет… Думаю, нам лучше поговорить о ней сейчас. – Голос Джоша превратился в сухой хрип, его даже слушать было больно. – Я ее не знаю. Но те, кто со мной говорит, знают. Они… они хотят, чтобы ты оставил ее в покое. Они хотят, чтобы ты перестал искать. Она должна выполнить свою работу.
Таннер понятия не имел, что на это ответить. Он висел в двухстах шестидесяти футах над землей, полностью онемев. Он должен был быть скалой. Тем, кто всегда знал, что делать. Но здесь главным был вовсе не он.
А это растерянное выражение ему уже случалось видеть на чужом лице.
– Сколько я здесь провел?
– Больше сорока часов. Достаточно долго, – ответил Шон. – Мы сможем все это обсудить после того, как…
– Нет, этого не может быть. – Джош яростно растирал подбородок и щеки. – Отсюда видно так много. По ночам небо распахивается, и можно понять, насколько ты на самом деле потерян. Кажется, словно прошли… целые жизни.
Таннер снова обрел голос и, хотя знал, что не должен об этом спрашивать, все же не смог удержаться:
– Кто с тобой разговаривал? Кто они такие?
Шон снова взглянул на него: «Что ты делаешь? Не подыгрывай ему, мужик. Не поощряй его».
– Те, кто странствует по паутине. Те, кто рожден бездной. Рожден… – Джош, судя по всему, нашаривал слово так же яростно, как его ободранные пальцы, должно быть, нащупывали непрочную опору. – Гинугангапом. Они говорят, что недавно с тобой уже встречались. Но сосуд оказался несовершенным. И слабым.
«Потерян», – сказал Джош. Таннер ощущал себя точно так же. Он висел в нескольких сотнях футов над землей, там, где всегда чувствовал себя уверенно, но вместо этого ему казалось, что он вышел из фуги на огромной непроходимой равнине, лишенной солнца и серой, не зная, где восток и где запад, а рядом не было никого, кто мог бы объяснить, где он оказался. Он был потерян.
– Они хотят, чтобы я стянул тебя с веревки. Я сказал им, что, скорее всего, не смогу этого сделать.
Совершенно потерян.
– Поэтому теперь они хотят, чтобы я спросил у тебя, останется ли от меня такое же жуткое месиво, как от него.
Шон среагировал первым, разблокировал тормоз, позволяя веревке уноситься вверх, а сам, отталкиваясь, заскользил вниз, замедляя падение одной рукой и стремительно, резко, отчаянно вытягивая другую. Он успел зацепить плечо Джоша – футболку и немного кожу, вот и все, – но этого не хватило. Джош уже падал вперед, вовне и вниз, в пустоту между карнизом и безжалостными камнями на дне каньона.
И нет, когда он упал, месиво от него осталось не такое жуткое, как от Вала, но по-своему оно было хуже, потому что Таннер сознавал: он должен был раньше сообразить, что происходит.
* * *
Итак, в чайной, во время унизительно штампованных посиделок за масалой после йоги… вот как я обрела свою новую лучшую подругу, Бьянку. Обстоятельства как будто складывались в мою пользу: с моей стороны – чувство узнавания, со стороны Бьянки – ощущение, что ее, быть может, впервые в жизни по-настоящему разглядели. Не только внешность, но и то, что скрывалось внутри нее, в самой глубине, там, где душа переплетается с двойной спиралью ДНК, в пустотах между субатомными частицами, то обретающими, то утрачивающими бытие, пребывающими в двух состояниях одновременно.
Бывают встречи, которые кажутся случайными и неожиданными, и другие, которые кажутся предопределенными судьбой, – но это был какой-то новый уровень неизбежности, будто сама Земля пошевелила корой, подтолкнув нас друг к другу. Я часто слышала, что так должна ощущаться любовь, но подобного со мной не бывало, ни разу.
А это? Это было чем-то настоящим. Я просто не понимала почему.
Дома я ничего не рассказывала об этом Валу, потому что знала: он будет всячески одобрять то, что я запала на девочку, а мне не хотелось иметь дело с его подхалимской поддержкой. Он желал мне добра, но только опошлил бы что-то чудесное. Даже самые гибкие йоги на свете аплодировали бы Валу, видя, как он изворачивался, лишь бы я поняла, насколько сильно он обо мне заботится. А если бы он узнал, что моя новая подружка родом из Коста-Рики – боже, он пришел бы в такой восторг, что мне пришлось бы отдирать его от потолка.
Впрочем, все могло быть и хуже. Я могла бы возвращаться домой к кому-нибудь вроде мужа Бьянки. Звали его Грегг, по профессии он был маркетинговым директором, а по натуре – закомплексованным. Он каким-то образом слышал, когда в его имени не произносили все три буквы «г», а его новейшей и величайшей боязнью было то, что я – лесбиянка, которая метеором обрушилась на их головы, чтобы обратить его жену в свою веру и увести от него.
Увы, логикой такие низкотестостероновые страхи не перебьешь. И плевать, что у меня был мужчина. Или что предыдущего парня, с которым я кувыркалась, звали, черт побери, Аттила, и от него-то как раз все тестостероновые счетчики зашкаливали; мне это в нем нравилось, и я, может, так и осталась бы с ним, если бы его мизантропия не сделалась настолько утомительной. Он реально ненавидит людей. Киски любит, а людей ненавидит. Прости, милый, но тут уж либо одно, либо другое, потому что киски – тоже люди.
Так вот: Бьянка и Грегг? В ту же минуту, как мы познакомились, я поняла, что им осталось максимум пять лет. Семья определенно многое значила для Бьянки, а средоточием этой семьи был прелестный четырехлетний центр притяжения по имени Мэгги, предпочитавший отзываться на Сороку. Но в конце концов Бьянке предстояло принять то, о чем, по-моему, она и так уже подозревала: семья не обязательно должна получиться с первого раза. Ее можно пересобрать из старых и новых деталей. Бросить злобно зыркающего, брюзгливого надоеду Грегга со всеми его тремя «г». Найти себе парня вроде Таннера – а такие бывают, – который сочетает в себе лучшие черты наших прежних, второсортных мужичков, хотя бы пытается не творить херню и всегда будет готов подставить плечо и не судить, когда тебе это понадобится.
Наплевав на опасения Грегга, мы с Бьянкой завели привычку устраивать посиделки после йоги и всегда пили масалу, а порой я ходила вместе с ней и Сорокой на детскую площадку в парке и созерцала дворовых обезьянок в их естественной среде обитания. Весело.
Я была свидетельницей тому, как легко Бьянка общалась с дочерью, как воспитывала ее, не сажая на короткий поводок, и как целовала ссадины, чтобы они быстрее прошли, не устраивая громкой суеты, чтобы ее дочь могла вырасти смелой и уверенной в себе. Наблюдать за этим было привилегией; я словно бы заглядывала под землю и видела, как семя раскрывается, устремляя к солнцу свой потенциал.
«Вот как это бывает, это вовсе не миф, – думала я. – Вот какой бывает хотя бы одна сторона будничной жизни».
Но это же и пугало меня. Я ведь знала, как сильно все может измениться за один-единственный день. Я сидела на парковой скамеечке рядом с Бьянкой и выглядывала в округе неприметных, не являвшихся отцами парней, которые без видимых причин слишком долго смотрели на детей. Мои шрамы ныли, как антенны. Но меня бесила эта паранойя, потому что мужчинам тоже должно быть позволено наблюдать за игрой детворы, наслаждаться ее простой и буйной радостью, без моих подозрений, что кто-то из них замышляет утащить отбившегося от стаи ребенка в свое логово. Было лишь делом времени, чтобы один из них, неважно, невинный или нет, сделал что-то не так, и я узнала бы в нем переродившегося Уэйда Шейверса, сорвалась бы, устроила сцену, и… помнишь, Бьянка, как в день нашего знакомства ты назвала меня валькирией? Так вот, смотри.
Я так запуталась. Бывали дни, когда мне просто хотелось избавиться от страха и паранойи. Я любила эту женщину и хотела заползти между ее мягких бедер, а потом повернуть назад и родиться заново, чтобы она неделю носила меня на руках и качала. Я хотела вновь стать чистым листом, непорочной пустотой, которую Бьянка заполнила бы всем, что знала, всем, что передали ей поколения коста-риканских матерей с широкими ступнями и мудрыми глазами.









































