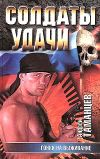Читать книгу "Девочка с самокатом"

Автор книги: Дарёна Хэйл
Жанр: Боевая фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дарёна Хэйл
Девочка с самокатом
Антиутопия
© Darena Hale, 2019
© Издание, оформление. Animedia Company, 2019
Художник и дизайнер обложки – Полина Полякова
Корректор: Мария Ланда
⁂
Часть I
– 1-

До аптеки можно было добраться двумя путями. Как в сказке.
Первый путь был длинным, утоптанным, пыльным и безопасным. Второй – коротким, асфальтированным (давным-давно, конечно, но асфальт всё ещё не развалился, только немного потрескался), и, по слухам, там всё ещё время от времени натыкались на живых мертвецов.
Самокат Эмбер для первого пути не годился.
⁂
Эмбер с силой отталкивается от бордюра, вымещая скопившиеся обиду и злость, и самокат под ней взбрыкивает, не готовый к такому резкому старту. Он вздрагивает, опускаясь на асфальт, переднее колесо попадает сначала в выбоину, а потом на толстую ветку, и дрожь сотрясает Эмбер от пяток до головы, но она даже не думает останавливаться.
Она отталкивается ещё и ещё, пока дом за спиной не становится совсем крошечным (ну, наверное, совсем крошечным, можно только предположить, а не разглядеть, ведь на самом деле она не оглядывается), а мир перед глазами не перестаёт размываться от сдерживаемых слёз. Ветер дует в лицо, и Эмбер рада, что ему не удаётся сорвать ни слезинки.
Ей нужно ехать, а не устраивать заплывы по волнам собственной грусти.
Не помешали бы очки – такие, спортивные, в пол-лица, с плотной резиновой подкладкой. Проблема в том, что она видела такие лишь на картинках, а в реальной жизни даже обычные, круглые, в самой простой оправе стоят столько же, сколько еда на три дня. Эмбер, в принципе, может себе это позволить, хотя бы в счёт зарплаты, тем более что Хавьер совсем не против платить своим работникам вещами, а не деньгами.
Деньги. Смятые, потёртые бумажки разных цветов и разного достоинства.
То, что когда-то было американскими долларами, английскими фунтами, японскими йенами, кенийскими шиллингами и всеми остальными купюрами и монетами, – всё теперь имеет одну цену. Пять индийских рупий и пять евро – одно, монета в десять русских рублей и монета в десять корейских вон – тоже одно. Раньше, смеётся Хавьер, нужно было знать курсы валют и никто не мог просто так прийти и рассчитаться в испанском магазинчике китайской банкнотой. Сейчас нет ни Китая, ни Испании, ни курсов валют. Нет Кореи, нет России, нет Кении, Японии, Англии и Америки.
Нет ничего, а всё, что осталось, перемешалось так, что не разобрать. И несколько миллионов оставшихся в живых передают из рук в руки измятые и переклеенные купюры или отполированные тысячами прикосновений монеты, и нет никакой нужды знать, в какой стране их чеканили, печатали и пускали в оборот, достаточно просто глянуть на цифры.
Хавьер говорит, рано или поздно банкноты износятся, поэтому он предпочитает монеты.
Эмбер будет рада сберечь для него несколько, взяв жалованье солнечными очками, новым колечком в нос и разноцветными бусами.
Она думает о том, что могла бы взять ещё немного тушёнки из военных запасов, и каши оттуда же, потому что на свете нет практически ничего вкуснее, чем эта каша, особенно если ты целый день гоняла на самокате или убиралась на чердаке… За первое мать ругает, за второе – хвалит, потому что считает примерным поведением взрослой дочери, которая осознаёт, что в таких сложных условиях её могли и не рожать. Она не в курсе, что взрослая дочь убирается на чердаке не потому, что хочет помочь, а потому, что хочет спрятаться и хоть на какое-то время представить, будто это – только её территория.
Эмбер вздрагивает, когда вспоминает о матери.
Её плечи дёргаются, натягивая кожаную куртку, и без того тесную, руки судорожно цепляются за виляющий руль. Самокат то ли реагирует на её настроение, то ли просто живёт своей жизнью, но его заднее колесо взбрыкивает, и Эмбер едва не кувыркается вперёд. Она успевает спрыгнуть и, вцепившись в покрытую царапинами раму, делает несколько широких шагов вперёд, чтобы погасить скорость и не пропахать асфальт носом.
У неё получается.
Самокат, крутанувшись вокруг своей оси, послушно возвращается ей под ноги, но у Эмбер не остаётся сил продолжать. Неаккуратно уложив его, почти уронив, она садится на грязный бордюр.
Локти сами собой упираются в колени, ладони закрывают лицо.
Воздух свистит, когда она втягивает его через тонкую щёлочку, и его не хватает, но Эмбер не разводит ладони. Только впивается пальцами в лоб и сдавливает лицо, как будто хочет подцепить ногтями и выдрать из головы все ненужные мысли.
Не получается. Это никогда не работает.
Под закрытыми веками кружатся цветные спирали, и если надавить на глаза, они не исчезнут, только превратятся в отчётливые картинки. Впрочем, они и так превратятся, они уже превращаются.
Бюджетная версия телевидения. Даже удобно – не надо жечь электричество, не надо выслушивать комментарии по поводу неумения экономить, не надо вглядываться в экран и вслушиваться в звук из хрипящих колонок, всё происходит внутри головы. Всё происходит внутри головы – и всё было бы круто, если бы только в главной роли снимался кто-то другой.
Не она сама.
И если бы фильм был не о её жизни.
Воспоминания – как водоворот посреди тихой реки, появляются ниоткуда и засасывают так, что не выплывешь. Будь воспоминания долгой дорогой, Эмбер держалась бы за самокат, чтобы спастись, но в воде даже самый лучший из самокатов только мешает.
Она тонет, но вместо того, чтобы задрать подбородок, сражаясь за последнюю попытку вдохнуть, только наклоняет голову ниже.
– Хватит, – говорит Эмбер сама себе.
Нет, на самом деле, не хватит.
– Ты ужасная дочь.
– Зачем я только тебя родила.
Ночь холодная, ужасно холодная, и Эмбер отчаянно дрожит под двумя дырявыми одеялами. На ней тёплые носки, и джинсы, и мягкая футболка, а сверху – старая толстовка с карманами, но ей всё равно холодно. Она поздно вернулась со смены, так поздно, что лужи на улице уже успели схватиться морозом.
Сна ни в одном глазу.
Она слышит, как мать открывает дверь, и по тому, как ключ царапается о замок, не попадая в скважину, уже понимает: пьяна настолько, что на ногах еле держится. Потом, когда мать побеждает замок, в коридоре загорается свет, и мощности тусклой, мигающей лампочки вполне достаточно, чтобы себя успокоить: тонкая тёмная линия тянется от двери в комнату до косяка, это значит, что она не забыла накинуть крючок. Это значит, что мать к ней не войдёт, даже если захочет.
Эмбер натягивает одеяло до подбородка и ждёт.
Её разрывает тысяча эмоций одновременно. Ей жутко, и стыдно, и обидно, и горько. Она злится на мать и злится на себя за то, что злится на мать. Она знает: лучше такая, чем никакая. Она знает: мать нужно любить, но невозможно любить, когда в ответ встречаешь лишь ненависть, и всё это колет под грудью пихтовыми ветками.
– Эй, – слышит она голос матери. – Чёрт.
С глухим стуком снятый сапог ударяется о стену. Снова выругавшись, мать стягивает второй, он падает тише.
Эмбер старается не дышать.
Ветер за окном воет примерно так же тоскливо, как она себя ощущает.
– Эм… Эмбер, – запинаясь, говорит мать, и её рука тяжело упирается в дверь. Та прогибается, и тонкая тёмная линия, тянущаяся от двери к косяку, вздрагивает. – Открой мне.
Если закрыть глаза, можно притвориться, что всё это сон. Если всё это сон, то открывать и слушаться маму – необязательно. Если открывать необязательно, то всё почти хорошо.
Ещё лучше было бы оказаться где-нибудь далеко-далеко, счастливой и свободной, бегущей по дорожке у моря. Эмбер читала о море.
Ей нравится думать, что там нет ни живых мертвецов, ни пьяной матери – никого. Только она, и волны, и песок, и свежий ветер, сильный и ласковый одновременно, совсем не похожий на тот, что скребётся в окно.
– Открывай. – Мать сильнее давит на дверь. – Ты не спишь, я же знаю.
«Сплю, – думает Эмбер. – Сплю, сплю, сплю».
– Открывай.
Язык у неё заплетается, и достаточно услышать этот голос, чтобы в носу сам собой появился запах дешёвого пойла. Запах вишни и спирта. Сладость и горечь.
Эмбер тошнит от этого запаха.
Чтобы отвлечься, она начинает считать – сначала до десяти, потом до двадцати, потом дальше и дальше. На девяносто двух матери наконец-то надоедает. Ударив напоследок кулаком по двери (крючок почти слетает, но, к счастью Эмбер, мать слишком пьяна, чтобы это заметить), она всё же уходит. Половицы скрипят под шагами. Минуту спустя в дальней комнате, приспособленной под гардеробную, слышится шум, а потом шаги возвращаются. Шумное дыхание, стук брошенной на тумбочку зажигалки, резкий запах дыма. Эмбер хочется вскочить и закричать, чтобы мать не смела курить дома, не смела курить в таком состоянии, и она отчаянно цепляется пальцами за холодный металл снизу кровати, чтобы себя удержать.
– Чёрт, чёрт, чёрт, – сбивчиво шепчет мать, пытаясь открыть входную дверь.
В этот раз у неё выходит быстрее.
Эмбер снова становится стыдно. Она думает, что могла бы и открыть. Кто знает, чего мать хотела? Не обязательно ругаться и требовать деньги. Может быть, просто поговорить. Может быть, она наконец-то раскаялась или что-нибудь поняла – например, что не зря родила дочь или хотя бы что им необязательно каждый день цепляться друг к другу. Может быть, она хотела просто рассказать, как прошёл её день, или пожаловаться на очередного придурка – тоже неплохо.
«Надо дождаться её, – думает Эмбер. – Дождаться и поговорить».
«Надо дождаться её», – думает Эмбер и засыпает.
Утром её будит дождь, стучащий по крыше. Выглянув в окно, она долго смотрит в серое небо, а потом зачем-то переводит взгляд вниз и чувствует, как горло обжигает неверием.
Там, внизу, на помойке справа от дома лежат её вещи. Сложно не узнать красный свитер и ярко-жёлтую куртку, которую когда-то носил отец и которая ей до сих пор большевата, но это не повод ходить в чём-то другом.
Дождь заливает улицу, превращая пыль на дороге в жидкую грязь, заливает покосившиеся мусорные бачки, и картофельные очистки плавают в лужах вперемешку с собачьим дерьмом. Её одежда, пусть и потемневшая от падающей с неба воды, посреди всего этого выглядит кучкой спелых фруктов на блюде с гнильём, и, как и на свежие фрукты, на неё моментально находится спрос.
В её вещах копаются трое, четвёртый спешит к ним из-за угла.
Эмбер всего пятнадцать, и она не знает, что делать.
Когда она, схватив швабру вместо оружия, добегает до мусорки, там валяются только старые джинсы и грязное пальто, одним рукавом угодившее в чью-то блевотину.
Следующие несколько месяцев Эмбер приходится работать без выходных, чтобы отплатить Хавьеру за одолженные ботинки и тонкий, потрёпанный пуховик и найти для себя что-нибудь в городском магазине поношенных шмоток.
Это довольно забавно, потому что сейчас всё поношенное (возможно, снятое с трупа, но лучше об этом не думать), но все эти несколько месяцев Эмбер совсем не до смеха.
За четыре года, прошедшие с тех пор, ничего не меняется.
– Ты ужасная мать.
– Зачем я только вообще родилась.
– Хватит, – снова говорит себе Эмбер.
Она знает по опыту: для того, чтобы собраться, достаточно пары минут. Пара минут, чтобы выдохнуть и выплыть из водоворота, пара минут для того, чтобы выкашлять воду из лёгких, пара минут для того, чтобы прийти в себя. Пара минут для того, чтобы в очередной раз осознать: она не ненавидит мать. Она просто не понимает, почему та должна быть для неё самым лучшим и самым близким человеком на свете; и почему все вокруг смотрят круглыми глазами, когда она говорит, что это не так; и почему она всё ещё здесь.
Здесь, в своём маленьком Городке, который можно объехать на самокате за двадцать, в лучшем случае тридцать минут: главная улица, несколько параллельных, парочка перпендикулярных… Пятиэтажные дома, нижние этажи которых изрисованы граффити, а верхние щерятся разбитыми окнами (там обычно тусуются подростки, и Эмбер когда-то тоже там тусовалась). Частные домики, половина которых пустует, половина – выглядит словно после бомбёжки, хотя на самом деле никакой войны не было… Во всяком случае, так все говорят. Магазины с окнами, забитыми досками. Разграбленный и больше не работающий кинотеатр. Заброшенная шахта. Парк, за последние лет тридцать почти превратившийся в лес, скалящиеся арматурой и мусором пустыри, ржавые остовы автомобилей, торчащие в небо пики столбов, на которых когда-то держались рекламные баннеры… Хавьер говорит, баннеров и раньше было не особенно много – уличная реклама в их Городке не успела расползтись по дорогам и стенам ядовитой заразой, как сделала во всех больших городах.
Этот город никогда не был большим. И никогда не станет большим.
И до большого Эмбер никогда в жизни не доберётся, особенно если так и будет сидеть тут, жалея себя и дожидаясь, пока самокат от бездействия покроется ржавчиной. Равно как и до моря, и до всего остального, что только можно представить. И до аптеки.
Она поднимается без особой охоты и берётся за руль. Самокат на этот раз куда как послушен.
Хавьер выдал ей зарплату этим самокатом примерно два года назад, и с тех пор Эмбер может смело говорить, что у неё есть лучший друг. Пусть и с характером (как и она сама), но всё-таки друг. Крепкие, высокие и достаточно широкие для того, чтобы справляться с выбоинами и ямами, колёса никогда не подводят, мягкая обивка руля каждый раз как будто пожимает руку в тёплом приветствии, и даже задний тормоз срабатывает почти идеально. Ну, то есть он срабатывает приблизительно в семи случаях из десяти, а в остальных ей приходится спрыгивать, но это лучше, чем если бы было наоборот.
Эмбер едет прямо, не пригибаясь, даже наоборот – позволяет рюкзаку оттянуть плечи немного назад. В рюкзаке увесистый мешочек с монетами. Их много, потому что ей нужно купить много всего: травяные сборы от кашля и головной боли (даже смешно, что за ними приходится ехать так далеко, ведь, по сути, лес, где их собирают, находится рядом), немного сушёной ромашки для хорошего сна (мать не работает, могла бы собирать и сама, но не собирает, больше того – выкидывает, когда Эмбер пытается, потому что «не хочу разводить дома эту труху»), упаковку аспирина и пузырёк валерьянки (бесконечная лотерея, потому что если верить аптекарю, то срок годности, написанный на упаковках, придумали для того, чтобы люди постоянно покупали новые лекарства, боясь использовать старые, а если верить соседке, то такими темпами можно и отравиться), коробку тампонов…
Смешно. Денег больше не печатают, в шахту никто не спускается, но некоторые вещи продолжают существовать.
Каждый выживает как может. Кто-то обматывает вату тонкой тканью, прошивает ниткой, дезинфицирует и складывает в коробочки, потому что знает: за это ему всегда заплатят – если не монетами всё равно какого происхождения, то хотя бы книгами или едой. Кто-то шьёт одежду из залежавшихся, пахнущих плесенью тканей, которые лет через двадцать рассыпались бы на сгнившие ниточки, а кто-то держит кроликов, собирает с них шерсть и вяжет – правда, покупать новые, сшитые или связанные вещи по карману лишь богатеям. Кто-то мастерит, кто-то пытается что-то придумать, кто-то идёт работать на телевидение или ещё куда-нибудь, надеясь, что эта работа сумеет его прокормить или что всем хочется смотреть телевизор, поэтому с репортёрами и операторами всегда поделятся едой, одеждой и инструментами для ремонта аппаратуры. Кто-то пытается брать на себя ответственность и следить за порядком, а кто-то грабит правительственные бункеры (их понатыкано столько, что новые, никем ещё не разворованные находят даже сейчас), а потом продаёт консервы, оружие, одежду и книги, припрятанные там на случай чрезвычайной ситуации (чрезвычайная ситуация наступила лет тридцать назад, но все как-то привыкли).
«Жизнь продолжается», – говорит Хавьер, когда трезвый.
Пьяный Хавьер опирается на прилавок и доверительным шёпотом сообщает, что ей, Эмбер, ещё повезло, на её век ещё хватит ресурсов, но что будет дальше – уже неизвестно. Людей, способных потратить эти ресурсы, становится всё меньше и меньше, а значит, снижается и конкуренция; с этой точки зрения всё выглядит весьма позитивно, вот только совсем скоро они разучатся их добывать, и конкурировать станет решительно не за что.
Эмбер, кажется, представляет, как это будет. Она читала о первобытных людях, умеет разводить костёр трением (специально тренировалась) и думает, что смогла бы справиться как с дубинкой, так и с примитивным копьём, где нож-наконечник скотчем примотан к ножке стола. Да, у первобытных людей не было скотча, но зато у них были мамонты, а сейчас мамонтов нет.
Есть зомби.
«Это закат, – говорит Хавьер, для пущей значимости щёлкая языком. – Закат цивилизации, девочка».
Эмбер пожимает плечами. На самом деле, закаты всегда нравились ей больше всего.
Закаты нравятся ей и сейчас – было бы здорово просто отталкиваться одной ногой, просто держать равновесие на другой, просто ехать куда-то на фоне оранжево-красного неба, прижимаясь взглядом к горизонту, разрисованному облаками, но проблема в том, что закаты – не лучшее время для одиноких прогулок. И не только потому, что, пока одни пытаются отстроить мир заново (пусть уродливо, пусть неуклюже, пусть огромными молотками вместо высокотехнологичных машин), некоторые готовы его развалить.
Снова и снова.
Не только потому. Не потому что, пока кто-то готов снять с себя последнюю рубашку, чтобы помочь, кто-то выкидывает чужие вещи на улицу, снимает с других их рубашки. Не потому что в любой момент из-за деревьев впереди неё может вышагнуть кто-нибудь с битой.
Просто потому, что кто-то может вышагнуть сзади.
Просто потому, что кто-то действительно делает это. Выламывается на дорогу из чахлого леса, оставляя на ветках обрывки того, что когда-то было одеждой, оставляя на ветках лохмотья того, что когда-то было человеческой кожей.
Их собственной кожей.
Эмбер оглядывается только один раз. Этого достаточно, чтобы увидеть обнажённую, гниющую плоть, серо-лиловую расцветку ходячего трупа, безумные оскалы и выпученные глаза, в которых не осталось ничего, что могло в них таиться при жизни.
Двое. Зомби, и не самые свежие зомби: скорее всего, они обратились довольно давно, если их успело так потрепать. Они выглядят ветхими, дряхлыми, двигаются неуклюже и медленно, их то и дело заносит, руки болтаются тяжело и беспомощно – только время от времени они поднимаются, чтобы потянуться вперёд, схватить за волосы или одежду, подтащить к себе…
Ну, в их мечтах, если, конечно, у мертвецов есть мечты. В реальности им её не догнать.
Эмбер уверена в этом. Во всяком случае, до тех пор, пока сзади, в каком-нибудь метре от неё, на дорогу не выбирается третий.
Он выглядит намного… свежее.
Пальцы Эмбер сжимаются на руле ещё крепче, но страха всё ещё нет – по крайней мере, если это страх перед зомби. Вместо него в голове пульсирует мысль о том, что было бы просто кошмарно, оглянувшись ещё раз, узнать в этом третьем кого-то из тех, кто был ей знаком. Поэтому она не оглядывается.
У Эмбер есть уши, и она полагается на них. А ещё она полагается на ногу, отталкивающуюся от дороги, и на ногу, твёрдо стоящую на металлической деке, и на руки, до побелевших пальцев впившиеся в резиновую окантовку руля, и на тело, умеющее держать равновесие. И на собственные мозги, которые у неё, в отличие от живых мертвецов, ещё очень даже работают.
Она петляет по дороге, объезжая глубокие выбоины.
Хавьер говорит: раньше, когда всё это случилось, когда плакать уже не было смысла и оставалось только смеяться, отвязные ребята придумали развлечение: убегать от зомби. Это было не так уж и сложно, потому что даже самые быстрые были совершенно тупыми (вообще-то Хавьер называл их «совершенно не приспособленными к сложным погоням», но это Хавьер – он почти всегда выражается слишком изящно); никаких «оббежать препятствие», только «врезаться в него», только выбыть из строя на несколько секунд, а то и вообще насовсем, если препятствие окажется крепким, а скорость – большой.
В этом смысле ей есть над чем поработать.
Эмбер отчаянно отталкивается, пытаясь развить нужную скорость. За спиной раздаётся хриплое дыхание – непонятно, зачем им дышать, наверное, по привычке, а может, это воздуху скучно, и он просто танцует в их лёгких, поёт там… За спиной раздаётся хриплое дыхание и бессмысленное рычание, тупая ярость даже не обезумевшего человека или бешеного животного, а просто кого-то, в ком не осталось ничего, кроме желания догнать и убить.
Неважно, как. Непонятно, зачем.
Шаги мертвецов кажутся неровными даже на слух. Кто-то из них подволакивает ногу, кто-то шумно сталкивается с остальными. Что-то хлюпает и с чавкающим звуком ударяется об асфальт, словно от гниющей плоти то и дело отваливается всё, что больше не может держаться. Жизнь больше не сшивает воедино эти мышцы и кожу, не наполняет кровью артерии, не заставляет стучать сердце за полосками рёбер. Рёбра могут торчать наружу под жутким углом, кровь может вытечь хоть вся, никто этого и не заметит, облезшая кожа может трепетать на ветру, словно флаг.
Эмбер стискивает зубы. Она не оглядывается.
Не оглядывается, не оглядывается, не огля…
Она спрыгивает с самоката, чтобы перескочить через упавшее дерево. Дека прокручивается вокруг оси и снова возвращается на своё место – у неё под ногами. Самокат выглядит в тысячу раз более разумным, чем мертвецы, потому что пару секунд спустя Эмбер слышит звук удара.
Кто-то врезался.
Возможно, одним зомби меньше.
Она снова разгоняется. Нога прикасается к щербатому асфальту так часто, что подошва кроссовки, кажется, вот-вот задымится, а ветер, дующий прямо в лицо, всё-таки срывает из глаз пару слезинок, но здесь и сейчас, в этот абсолютно определённый и вместе с тем бесконечный момент, неожиданно даже для себя самой Эмбер чувствует себя стопроцентно живой.
Зрение. Слух. Осязание – знакомые очертания руля под ладонями, мягкие прикосновения к телу футболки и чуть более жёсткие – джинсов, крепкая хватка манжет на запястьях. Запах кожаной куртки. Ток крови по венам. Безумный стук сердца. Шумный свист воздуха – сквозь ноздри, по дыхательному пути, прямо в лёгкие. Вдыхать нужно носом, выдыхать нужно ртом. Эмбер не помнит, где именно прочитала об этом, но сейчас это неважно.
Мир вокруг – пронзительный, кристально ясный. Знакомый и никогда не виденный прежде – одновременно.
Разве у ёлок вокруг были такие зелёные ветви? Разве стволы берёз сияли такой белизной? Птицы – пели так громко? Автомобили… Разве раньше здесь были автомобили?
Эмбер судорожно выдыхает. Она ныряет в сторону, направляет самокат вправо, едва успевая уклониться от огромного, сверкающего, как на картинке, пикапа, и, запрыгнув на чудом сохранившийся здесь бетонный бордюр, проезжает по нему. Филигранно, как артистка из цирка, в котором она никогда не была. Не хватает только цветного трико, как на старых открытках.
Хриплый рёв сзади сменяется оглушительной тишиной.
Ну, если только звук мотора можно назвать оглушительной тишиной, потому что пикап продолжает урчать, а вот зомби больше не слышно. Если скорость достаточно большая, если препятствие достаточно крепкое… Эмбер решается оглянуться.
Все три мертвеца лежат на земле.
Двое из них не шевелятся. Больше того, издалека это смотрится так, будто бы их не двое, а как минимум четверо: от удара ветхие тела развалились на части. Третий – крепче, он ещё пытается подняться, но тот, кто за рулём, резко открывает дверцу прямо навстречу оскаленной пасти. Достаточно пары движений туда и сюда, чтобы тело, и без того давно уже мёртвое, умерло окончательно.
Достаточно пары движений для того, чтобы Эмбер сбросила оцепенение и ринулась прочь.
Тот, кто за рулём, что-то кричит ей вслед, но – кем бы он ни был – Эмбер не собирается останавливаться.
О том, что пикапу достаточно развернуться и пару раз газануть, чтобы в два счёта догнать её, Эмбер не думает. Адреналин гонит её вперёд – до тех пор, пока пронзительно-яркий мир не начинает тускнеть перед глазами, превращаясь во всё то, что она уже видела тысячу раз.