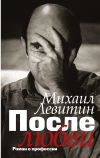Текст книги "Стать Лютовым"

Автор книги: Давид Маркиш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Свиноеды и кроликоеды, – на всякий случай повернув голову к державшимся особняком престарелым родителям Доры Ароновны, но скашивая взгляд на Трофима, нанес пробный удар ешиботник, – противны Создателю и ужасны! Они хуже козлов и баранов. А что есть русское мясо? Сказано: свиное мясо есть русское мясо, а кроль есть соблазн с чесноком и черносливом.
От такого сообщения Трофим Рохля сделался скучен, а престарелые родители, не разобравшись в тонкостях ешиботниковой тактики, загомонили на идиш и замахали руками в знак полного согласия: да, куда хуже, да, в чесночной подливке.
Иуда сидел за столом, подперев круглую голову кулаком. Крепкий, основательный стол, краеугольный камень человеческого жилья, – делали ведь когда-то такие: на десятилетия, на всю жизнь. Стол посреди комнаты, темный застекленный шкаф с праздничной посудой и какими-то памятными безделушками, картина «Сон Иакова» в старинной раме: праотец, разметавшись, беспокойно спит у подножья лестницы, ангелы размахивают крыльями, ужасная смертная тьма переливается без полутонов в горний свет вечной жизни. Иуде вдруг захотелось есть – русское мясо, кролика, рыбу-фиш и штрудель с изюмом. Чуть прищурившись, он следил за своим ездовым: от Трофима Рохли многого можно было ждать, а Иуде почему-то не хотелось производить губительных разрушений в этой живописной семье. Каких разрушений? Да очень простых: Трофим мог зарубить ешиботника, изнасиловать Бейлу или Дору Ароновну с круглыми коленями. Кого из них? Но Иуда, прикидывая так и эдак, не мог решить, кого бы из них он сам предпочел.
– А я и говядину очень даже уважаю, – переходя с богословской темы на гастрономическую, миролюбиво заметил Трофим и схватил Бейлу за руку повыше локтя. – Что это меня качает?.. Эй, хозяйка, накрывай, что ли, на стол, а то жрать хочется! И вино ставь, вино!
Ешиботник налетел как шмель и остановился против Трофима.
– Перун – тьфу! – с вызовом сказал ешиботник и упер руки в боки.
– Кто? – удивился Трофим. – Какой Перун?
– Вы язычник, – сказал ешиботник и сокрушенно покачал головой. – Многобожие – это гибель.
– Не, – твердо возразил Трофим. – Я большевик.
– Большевик или не большевик – это еще вопрос, – усомнился ешиботник.
– А ты чего вяжешься? – сурово поглядел Трофим Рохля. – Какой тут еще вопрос… Ты иди картошку копай, ведро бери и иди. А бабы вон сварят.
– Он не пойдет! – высоким голосом сказала Дора Ароновна из своего кресла. – Сегодня суббота, он не пойдет. И никто тут ничего не будет варить. Завтра Девятое Аба, к вашему сведению! – Она взглянула на Иуду, проверяя, как на него подействует это сообщение.
Иуда снял очки, протер машинально, без нужды. Ну конечно, как же это он забыл! Девятое Аба – день разрушения Храма, день падения Иерусалима. Над золоченой кровлей рыжее пламя в черной дымной опушке, под короткими мечами римских легионеров защитники города и чести ложатся на раскаленные камни внутреннего двора святилища. Горит, братья, горит! Впереди позор, изгнанье, местечко Демидовка.
– Это по-вашему завтра девятое или пусть будет даже десятое, – поправляя чуб, сказал Трофим. – А нам жрать надо. Давай, дед, – он оборотился к отцу Доры Ароновны, – бери свою команду и иди копай. Ты у нас будешь за командира.
– Мы не будем копать. – Ешиботник подошел к Трофиму уже вплотную и трижды повел у него перед носом хрупким указательным пальцем. – Ни-ни-ни!
– У них суббота, Трофим, – подал голос Иуда Гросман. – Им по субботам работать никак нельзя.
– Бог работать велел! – закричал Трофим и ударил ногою в пол. – Это как так получается: всем работать, а им – отдыхать? Эт-та так не пойдет! Нам, значит, работать, а им брюхи чесать? А ну, дед, вставай и бабку с собой бери! Пошел! Все пошли! – Он выхватил из-за голенища плетку и несколько раз, со свистом рассек перед собою воздух.
– Пост у них завтра, пост, – сказал Иуда под неотрывным, презрительным взглядом Доры Ароновны. – Святой день. Воды – и то не пьют, нельзя им.
– Да пускай хоть зальются! – бешенствуя, проговорил Трофим. – Мне что надо – вынь да положь: харч, бабу. Вон, говорил комиссар: евреи эти – отсталое население, они против нас идут. – Он мягко, как на рессорах, подошел к столу и с маху перетянул столешницу плетью. – Ну, пошли! Вставай, дед!
Старик, отец хозяйки, закрыл лицо руками, как от яркого света, и сидел неподвижно. Никто не двинулся, только еврей в галошах раскачивался, как на молитве.
– Он всех убьет, – сказал ешиботник на идиш. – Ради спасения души надо идти, и Бог нас простит. – И пошел к двери.
За ним струйкой потянулись домочадцы. Казалось, ешиботник своими словами загородку какую-то отодвинул, снял преграду – и вот они пошли: уныло, покорно. Дора Ароновна осталась.
– А вы как думаете, – с вызовом глядя на Иуду, спросила Дора Ароновна, – простит их Бог?
– Не понимаю, о чем вы, – сказал Иуда.
– Мне показалось, что вы знаете языки, – сказала Дора Ароновна. – И идиш – тоже.
– Я не лингвист, я писатель, – сказал тогда Иуда Гросман. – Вот вы читаете Арцыбашева…
– Это ни при чем, – придвигаясь к столу, сказала Дора Ароновна. – Зачем вы устроили все это: ублюдок в шляпе, рыть картошку? Зачем, писатель?
– Вы отважная женщина, – с удовольствием, подумав, сказал Иуда. – Но вы все равно не поймете… Жил-был когда-то еврей по имени Иосиф Флавий – слышали про такого?
– Я читала Флавия, – сказала Дора Ароновна. – В Варшаве, в университете.
– Флавий перешел к римлянам, – продолжал Иуда, – чтобы посмотреть, что будет, и описать Иудейскую войну. И он это сделал, к счастью… А незадолго до этого он мечтал спасти свой народ, желал военной славы. Для многих он и сегодня предатель, хуже козла и барана. И вот вопрос: почему он все это сделал?
– Ну же? – спросила Дора Ароновна.
– Потому что он был писатель, – сказал Иуда. – Писателю можно, ему все можно – во всяком случае, куда больше, чем другим. Его глаза, знаете ли, никак не наполнятся зрением, уши – слушанием. Вот и я тоже смотрю на петуха Трофима и на ваш курятник.
– А если он начнет резать, этот ваш приятель, насиловать – вы тоже будете смотреть? – настойчиво спросила Дора Ароновна. – Это же так интересно потом описать!
– Вот с этим осторожней, – улыбнулся Иуда. – У него сифилис, это факт.
За окном затопали капли по листьям яблонь. Пролился дождь. На соседском огороде евреи ползали по грядкам, выкапывая картофельные клубни из рыхлой черной земли. Трофим Рохля стоял в сторонке, у ног его находился раззявленный мешок, уже на треть наполненный картошкой, перемазанной глинистой землей. Евреи работали молча, не переговаривались между собою.
– Бейла! – позвал Трофим. – Иди сюда!
Женщина разогнулась, поправила волосы и переступила через грядку.
– Ты плясать можешь? – с интересом спросил Трофим. – Хоть по-вашему?
– Могу, – сказала Бейла, глядя в сторону.
– Во! – обрадовался Трофим Рохля. – А Лютов говорит – не можете вы. Ученый – а не знает! Ну, иди в дом, ставь котел. Есть котел-то? И мясо достань у меня из мешка, там увидишь.
С чавканьем выдирая ноги из намокшей земли, Бейла поплелась к дому.
Удобно сидя за столом, Иуда вполуха слушал хозяйку. Имена писателей – русских и европейских – доносились до него, искореженные цитаты, строки из басен Крылова и афоризмы Ларошфуко. Бейлис плелся за Дрейфусом, Короленко дышал в затылок Золя… Согласно покачивая головой, Иуда думал о том, что нарушь он, пытливый художник, синайские заповеди – все вместе и каждую в отдельности, – цивилизация не разрушится, а только упрочится и укрепится. Все на свете постигается от противного: добро от зла, любовь от ненависти, жизнь от смерти. Изображение убийства предостерегает от дальнейшего кровопролития. Да, это так! Описание насилия, совершенного сифилитиком Трофимом Рохлей, приведет в ужас зубных врачей и заставит поостеречься девиц, верящих почему-то в неизменный перевес добра над злом и в случайные чудеса.
Бейла вошла, за ней обозначился на дощатом полу пунктир мокрых следов. На прямых ногах нагнувшись над мешком Рохли, она вытащила оттуда тяжелый шмат мяса, завернутый в ситцевую тряпку.
– Это русское мясо, – тупо глядя на Дору Ароновну, сказала Бейла. – Он велит варить в вашем котле. Ой, грех!
– Делай, что велит, – тусклым голосом сказала хозяйка. – Бог простит нас…
Держа свешивающийся пласт свинины на вытянутых руках, подальше от себя, Бейла пошла в кухню. Иуда глядел с интересом, переводя ощупывающий мягкий взгляд с Бейлы на Дору Ароновну.
– Дай Бог пережить этот кошмар, – сказала Дора Ароновна. – Все это, – она повела рукой, охватывая комнату, дом, дождь за стенами дома, – вас, других. Пережить – и уехать.
– Куда? – спросил Иуда.
– Как можно дальше, – сказала Дора Ароновна. – Все равно куда. Может, в Палестину.
– Палестина не годится даже для поклонниц Арцыбашева, – усмехнулся Иуда. – Париж, Брюссель – вот это другое дело. Европа… Впрочем, вас нигде не ждут, как я понимаю.
Стукнула дверь с воли, в комнату молча и медленно, как водоросли с водотоком, потянулись евреи – вымокшие, облепленные огородной грязью. Один только Трофим с мешком на плече был бодр, деятелен и в прекрасном настроении.
– Эй, Бейла! – крикнул Трофим в кухню. – Ты где? Тут тебе подмога, картошку чистить! А ну пошли! – и, распяленными руками подгребая вымокших, стал подталкивать их к кухонной двери.
Евреи загомонили испуганно и возмущенно.
– Шабес! – сдавленным голосом воскликнул ешиботник, и евреи повторили сбивчивым хором:
– Шабес! Шабес!
– А ну! – с игривой угрозой гаркнул Трофим и ладонью огрел ешиботника по узкой, как бы из одних упрямых костей составленной спине. – Пошли, кому говорю!
Евреи, невнятно бормоча, гуськом потащились в кухню.
– Нация несознательная, – оборотясь к Иуде, сказал Трофим Рохля. – Дурьи головы: набьются в поварню, как в парную… Бейла! Слышь, Бейла!
Бейла послушно вышла из кухни на оклик. Руки ее были мокры, красны.
– Пошли, Бейла, – наступая на женщину и прижимая ее к стене, сказал Трофим. – Пошли, побалуемся по-хорошему…
– Я кричать буду, – визгливо прошептала Бейла. – Отпустите меня, пан!
– Не пан я, – тряся головой, закричал Трофим страшным голосом, – а красный казак! Запомни, лахудра! А тех панов я рубаю до самого корня в конном строю! Ты под паном полежи, а тогда уже давай понятие! Ты коня не знаешь, забей пасть коровьей лепешкой и потом уже разговаривай! Да я за мамку-покойницу всех вас, живососов, выведу в расход.
Высказав накипевшее, Трофим поправил ментик на жестких плечах и успокоился. Евреи, окаменев каждый на своем месте, стояли совершенно недвижно и молча.
Римлянин, думал Иуда Гросман про Трофима, надо записать. Римский легионер. Девятое Аба. Демидовка догорает, как Храм. Сейчас начнут прятать Бейлу от легионера – на чердак, в подпол. Бейла, хорошая еврейка. Круглые колени Доры Ароновны. Этот, в галошах, с лицом лжепророка – записать. Описать пласт русского мяса, людей, надутый дождливым ветром черный парус ночи.
Трофим, высказавшись, озирался и тащил Бейлу за руку.
– Есть надо, – громко сказал Иуда, – мы с дороги. Долго там еще?
Выпустив Бейлу, Трофим шагнул в кухню.
– Горох кидай, – указал Трофим. – Соль-то положили? А то у меня есть, соль-то.
Стрельба посыпалась то ли в поле, то ли на окраине местечка.
Кто-то проскакал за окнами, крича отчаянно и звонко:
– По коням! Поляки! По коням!
Трофим живо выкатился из кухни, в руках он нес мясо, с которого густо капала юшка. Подойдя к столу, он сбросил горячий шмат на скатерть и движениями быстрыми и отчетливыми завернул его, как дитя в пеленку.
– Пошли, Лютов, – сказал он Иуде. – Ехать надо.
Они быстро вышли, не попрощавшись.
Поляки простояли в Демидовке около суток, а потом ушли, увозя жалкие трофеи.
Немцы пришли сюда двадцать один год спустя, в сорок первом, в последний день июня, в полдень. Стояла влажная жара, собирался дождь. Доре Ароновне видно было в окно ее зубоврачебного кабинета, как по улице, раздувая шлейф желтой пыли, грохоча, проехал военный патруль на мотоцикле с коляской: трое солдат в сером, в нахлобученных на лоб железных шлемах. Перед тем, что сидел в коляске, был установлен тупорылый короткоствольный пулемет, и Дора Ароновна с тоской в сердце вспомнила осень двадцатого: поляки и казаки, белые, красные и зеленые, и пулеметы в задках мокрых от дождя тачанок.
Немцы не были похожи на тех давнишних бандитов – они были трезвы, не ломились в дома, не плясали, не пели и не свистали, запихнув в рот грязные пальцы. Немцы – настоящие европейцы, а не какие-то татары или мордва. Кроме того, у немцев тоже иногда болят зубы, и это внушает надежду.
Вечером, когда стемнело, в дверь каменного дома Доры Ароновны постучали – требовательно, но не грозно. Не били кулаками, не колотили ногами – стучали крепкой ладонью внятно и отчетливо: тук, тук, тук. Дора Ароновна пошла открывать.
На пороге она увидела немца лет тридцати, выше среднего роста, с приятным открытым лицом. Стучал в дверь не он – рядом стоял коренастый крепыш, тоже в военной форме, как видно, переводчик. Без разговоров оттеснив Дору Ароновну плечом, переводчик открыл немцу дорогу в дом, и тот вошел. В гостиной, остановившись и засунув большие пальцы рук за ремень, немец оглядел комнату: стол со стульями, застекленные дубовые шкафы с посудой и безделушками, шторы на окнах, белый с желтым хохлом и кривым черным носом попугай в золоченой клетке. Потом подошел к картине на стене – Иаков, беспокойно спящий у подножья хрустальной лестницы, – всмотрелся, оценивающе щурясь, в изображение и повернулся к Доре Ароновне.
– Сны Якоба? – спросил немец и взглянул на переводчика. – Переведите!
– Сны Якова? – повторил переводчик по-русски.
– Я говорю по-немецки, – сказала Дора Ароновна. – Да, это верно: Иаков видит сон.
– Сны, сны, сны! – прохаживаясь по комнате, сказал немец. – Золотые сны! – Его, как видно, ничуть не растрогало сообщение Доры Ароновны о том, что она говорит по-немецки. С тем же успехом по-немецки мог бы объясняться попугай. Это было бы удивительно, но не более того. – Ваш Якоб видит сны в очень хорошей раме, дорогой раме.
– Да, – сказала Дора Ароновна тоном польщенной хозяйки. – Это старинная рама. Венецианской работы, кажется.
– Что вы тут стоите, Семен? – без раздраженья обратился немец к переводчику. – Я справлюсь. Можете идти. – И взглядом сделавшихся вдруг колкими и жесткими голубоватых глаз словно бы взашей вытолкал Семена из комнаты. – Я обер-лейтенант Гейнц Лембке. Гейнц.
– Да, хорошо, – сказала Дора Ароновна. – Златопольская… Садитесь, пожалуйста.
Лембке, чуть помешкав, сел на стул с высокой плетеной спинкой, и Дора Ароновна вдруг отчетливо вспомнила, что именно на этом месте сидел в прошлую войну тот начитанный еврей, выдававший себя за гоя. Он сидел и щурился под своими очками, а его звероподобный приятель орал и командовал. Это было под Девятое Аба.
– Вот забавно, – сказала Дора Ароновна, улыбаясь старому воспоминанию.
– Что именно? – вежливо спросил Лембке.
– Так, ничего… – сказала Дора Ароновна. – Вспомнилось что-то.
– Оставим это, – без раздраженья предложил Лембке. – У вас хороший дом, достаточно чистый. Мы разместим здесь нашу канцелярию. Переезжайте к родственникам к завтрашнему утру.
– Как к родственникам? – спросила Дора Ароновна. – У меня здесь кабинет!
– Очень хорошо, – сказал Лембке. – Вы здесь одна живете? Есть муж, дети?
– Я вдова, – сказала Дора Ароновна. – Дети разъехались давно. Тут домработница живет, у нее комната, ну и племянники приходят, ночуют гости.
– Вот и переезжайте, – сказал Лембке. – К дядьям, к племянникам. Куда хотите. А мы тут разместим канцелярию. Вы меня поняли?
– Да, но… – сказала Дора Ароновна. – Но почему же переезжать? Дом большой.
– Я вас не арестовываю, – терпеливо объяснил Лембке. – Это не входит в мои обязанности. Я вам разъясняю необходимость. Вы ведь еврейка?
– Да, – сказала Дора Ароновна. – Еврейка.
– Ну вот видите, – сказал Лембке. – Собирайтесь и переезжайте. Можете взять с собой все необходимое из личных вещей. Но не мебель.
– А как же работа? – сказала Дора Ароновна. – Тут ведь у меня кабинет.
– Да, я знаю, вы зубной врач, – сказал Лембке. – Это замечательно. Моя тетка тоже зубной врач, она живет в Аахене, есть такой город у нас в Германии… Я как раз хотел потолковать с вами по этому поводу.
Все, кажется, вставало на свои места. Как часто во время войны и смуты неодолимые, казалось бы, сложности, а то и сама жизнь со смертью зависят от чьих-то случайных желаний, меланхолического настроения, насморка или зубной боли.
– Вы хотите подлечить зубы? – любезно спросила Дора Ароновна. – Что вас тревожит?
– Нет-нет! – поднося руку к подбородку, поспешно возразил Лембке. – У меня великолепные зубы, я ни на что не жалуюсь. Дело в том, видите ли, что моя тетка в Аахене рассказывала мне, что здесь, на Востоке, люди белым фарфоровым зубам предпочитают византийские.
– Как византийские? – не поняла Дора Ароновна.
– Ну, варварские, – любезно пояснил Лембке. – Блестящие. Из чистого золота. Вот у вас во рту я вижу несколько таких зубов.
– А, да, – несколько растерянно вымолвила Дора Ароновна. – Я как-то никогда над этим не задумывалась. Варварские…
– О да! – подхватил Лембке. – Поверьте мне, это так интересно. Моя тетя говорила, что иногда встречаются и железные зубы. Человек с железными зубами – это просто восхитительно.
– Это не железные, – с чувством мимолетной обиды к европейцу возразила Дора Ароновна. – Это сплав такой специальный, как нержавеющая сталь.
– Человек с зубами из нержавеющей стали – это еще лучше, – сказал Лембке. – Как кастрюля.
– Это тут ни при чем, – сердито сказала Дора Ароновна. – Просто если у кого-нибудь не хватает денег на золотые…
– Вот-вот-вот! – оживился Лембке. – Как раз это меня интересует. Те, у которых не хватает денег, пусть себе носят стальные или хоть каменные. Но состоятельные граждане приходят к вам и заказывают у вас золотые зубы или даже целые челюсти, не так ли?
– Ну да, – сказала Дора Ароновна. – В общем, так. Хотя я делаю и простые.
– Простые меня не интересуют! – отрезал Лембке.
– Но зачем вам? – удивилась Дора Ароновна. – У вас же, вы говорите, делают только белые, и ваша тетя…
– Оставьте в покое мою тетю, – терпеливо сказал Лембке. – Меня интересуют не сами зубы, а материал, из которого они сделаны. У вас есть этот материал?
– Золото? – зачем-то уточнила Дора Ароновна.
– Да, золото, – кивнул Лембке. – Конечно. Вы понимаете?
– У меня нет золота, – подумав, сказала Дора Ароновна. – То есть раньше было, а теперь нет.
– Ну конечно, – сказал Лембке и, вздохнув, снова оглядел комнату – шкафы, попугая, хмурого Иакова в венецианской раме. – Конечно, у вас было золото, иначе из чего бы вы делали ваши зубы? Самое главное, что оно и сейчас у вас есть, лежит где-нибудь в укромном местечке. Дайте мне его!
– Как… – совсем уже потерянно выдавила из себя Дора Ароновна.
– Дайте! – мягко повторил Лембке. – Оно же все равно вам теперь не понадобится. У вас здесь нет близких родственников, а если б и были, разделили бы с вами вашу участь. Спустя много лет совершенно чужой человек случайно найдет ваш клад и даже не будет знать, кого ему благодарить. А я – знаю! Дайте мне ваше золото, и вы сделаете доброе дело.
Дора Ароновна молчала, глядя мимо Гейнца Лембке на стену – на спящего Иакова и его лестницу, уводящую в небеса. На хрустальных ступенях стояли розовые ангелы с расправленными голубиными крыльями за спиной, разноцветные птицы с длинными драгоценными хвостами сидели на золотых перилах, и порхали красивые бабочки с бриллиантовыми усиками, и висели стрекозы с сапфировыми глазами – Дора Ароновна много лет назад, девочкой, часами рассматривала их и разговаривала с ними, с каждой в отдельности, и давала им имена: вот эту, с малахитовым брюшком, она звала Ривкой, а ту, кажется, Бейлой. Спящего на земле, с камнем под головой Иакова окружала звездная ночь, а в небесах сияло сердце серебряного дня, там, как видно, ночь вообще не наступала и всегда было светло. Вот ведь удивительно – на одной картинке помещались вместе и полдень и полночь, и это было так естественно и приятно. И хотя в жизни так не могло случиться – полдень вместе с полночью, – совсем не хотелось с сомнением прищуриваться, открывать рот с варварскими зубами и требовательно спрашивать: «Почему?» Да потому! Потому что так устроено, все так устроил Главный Устроитель – свет и тьму, сон Иакова, бабочек и стрекоз, и Гейнца Лембке в местечке Демидовка.
– Вы хотите сказать, что меня убьют? – спросила Дора Ароновна. – И всех?
– Вас депортируют, – пожал плечами Лембке. – У вас все отберут и отправят вас в лагерь или в гетто. Я отношусь к вам по-человечески, вы же видите. Теперь, когда вы знаете, ваша семья – это я! Зачем вам имущество? Дайте мне, дайте, и вы почувствуете облегчение. Когда человек делает доброе дело, у него становится легче на душе.
– И вы тогда меня спасете? – наклонясь низко над столом и понизив голос, спросила Дора Ароновна.
– Поймите и вы меня тоже, – развел руками Лембке. – Я предупредил вас, и это, считайте, много, это очень много. Другие ведь не знают, а вы – знаете. Так спасайтесь! Принесите мне то, о чем я говорю, и спасайтесь. Может быть, я сумею подбросить вас до леса на моей машине, это будет честно.
Дора Ароновна вдруг засуетилась, засобиралась.
– Хорошо, хорошо, – сказала Дора Ароновна. – Лес, вы говорите… Можно все-таки завтра утром, часов в пять? Надо попугая кому-нибудь отдать, в хорошие руки… Я принесу, принесу. Я же сказала. Кольцо, цепочка. Мамина брошка. Значит, в пять? Нет-нет, я буду готова.
– А эти ваши собственные зубы, – уже от двери озабоченно спросил Лембке, – ну, ваши я имею в виду, те, что во рту? Вы их намертво закрепили или они съемные? Тогда снимите и принесите завтра. Это же бессмыслица: золотые зубы в лесу!
Заперев за обер-лейтенантом, Дора Ароновна прошла в свой кабинет. Лекарства хранились в высоком белом шкафчике. Дора Ароновна открыла дверцу и, просунув руку поглубже, нащупала у самой стенки, за пузырьками, баночками и склянками, стопочку фантиков со снотворным порошком, перетянутых резиновым пояском. Фантики были белые, без надписей, без черепов с костями. Вернувшись в гостиную, Дора Ароновна села за стол и разложила перед собою фантики веером, как карты в пасьянсе.
Дора Ароновна не собиралась ни в лес, ни в гетто. Жизнь пришла к концу, куда более противно и мерзко, чем двадцать лет назад. Тогда тоже было страшно до слабости в коленках и до потемненья в глазах, но тот петушистый разбойник в шляпе ни в какое сравнение не шел с немецким обер-лейтенантом, учившим в школе, должно быть, Гёте наизусть. Жизнь кончилась. Проснуться на рассвете, до пяти, будет куда ужасней, чем не дожить до утра. И вот, ангелы на своих ступеньках стоят навытяжку, сложив крылья, Иаков мечется во сне и стонет, бабочки и стрекозы замерли вдруг в своем полете, чтобы не мешать свету перелиться в синюю тьму или, наоборот, тьме подняться ввысь и навсегда исчезнуть в серебряном небесном полдне. Может быть, может быть! Это как раз то, что не проходили на медицинском факультете Варшавского университета, и с покойным недолгим мужем, всегда предупредительным и услужливым до бисерного пота на лбу, не случилось поговорить об этом, а ласковых детей по молодости годов свет и тьма занимали лишь порознь.
Напольные часы с маятником проиграли и пробили полночь, к окнам льнула холодная чужая тьма, и так хотелось скорей к свету, к его серебряному позваниванию. Она налила воды в стакан из графина, ссыпала белый порошок из оберток в ладонь, поднесла ладонь ко рту и запила водой из стакана. Потом она медленно обошла комнату, останавливаясь перед каждым достойным того предметом: копенгагенской русалочкой за стеклянной створкой шкафа, немного почему-то раздражавшим своей непробудностью Иаковом, попугаем, которому предстояло осиротеть. Судьба попугая тревожила совесть Доры Ароновны: умная птица не могла существовать без человеческого благорасположенья, она даже не могла себя прокормить.
Обойдя комнату, Дора Ароновна прошла к себе в спальню, прилегла там, не раздеваясь, на кровать и послушно закрыла глаза.
Надоело.
Все надоело Иуде Гросману – грязь и дождь, постоянное недоедание, всеобщее несчастье разрухи, белополяки и красноказаки. Надоели все эти звероподобные всадники, изъясняющиеся словами угловатыми и восхитительными, и суетливые упрямые евреи надоели. И повседневная гибель жизни, и красивые лозунги, бесплотные, как привидение, и пустые, как жестянка из-под монпансье. И ночные выматывающие рейды, и дневной черный сон, и разрушительное безграничье солдатской власти: все можно. Все можно, все нынче дозволено: с «нет» снят крепкозапястной рукою запрет.
Иуде Гросману, писателю, надоела война.
Быть может, тому причиной была усталость. Однообразие взаимоуничтожения почти не оставляло места для целебных озарений души, снимающих усталость. Все обрыдло, дикая новизна ощущений подмокла по краям: не переставая, лил холодный дождь, пропитывая и размывая и материю, и дух. И Одесса под лимонным зонтиком солнца казалась отсюда Иуде желанной невестой, а не обрюзгшей каргой на лавочке.
Нет, не то чтобы глаза Иуды Гросмана наполнились зрением, уши – слушанием. Оставалось там еще место. Однако он все чаще с тревогой, почти с паникой ловил себя на том, что прежде ему незнакомые, поразительные картины и сцены неправдоподобной головорезной жизни проплывают мимо него, не задерживая его внимания, еще недавно впитывавшего, как греческая губка, всякую интересную малость в обстоятельствах куда более пресных. Он и дневник свой забросил, почти его и не открывал и глядел на когда-то праздничную, а теперь обтрепавшуюся и покрывшуюся неряшливыми пятнами тетрадочку с раздражением: он, в сущности, совершил предательство по отношению к дневнику, а значит, и к самому себе, к той части своей души, которая прикоснулась краешком и оттиснулась на линованных страничках. Никто не догадывался об этом предательстве; чтобы хоть немного проветрить совесть, Иуда Гросман сердечно досадовал на свой дневник и, перекладывая на него вину, сердился на тетрадку. Сам вид ее вызывал в нем неприятное смущение, и он прятал глаза.
Дни тащились за днями и составляли Время, отмечаемое смертями и рождениями, но никак уж не минутами или эпохами. Иуде неотступно хотелось сесть за письменный стол в светлой чистой комнате, выпить чаю с лимоном, не спеша вымыть ноги в эмалированном тазике. Обстоятельно описать хотя бы один день: отражение боя за перелеском, ординарцы, отрубленные пальцы Трофима Рохли, бойцы в бархатных фуражках, изнасилования, чубы, революция и сифилис… Но колеса тачанки все крутились и крутились, дождь все падал и сек. Пора было кончать эту войну и садиться за работу. Достаточно накопилось за четыре месяца, более чем достаточно; зарисовки желали стать рассказами. А если казачки для окончательной пролетарской победы решили добежать до Варшавы или хоть до Берлина – это их дело: пусть бегут.
К Хотину – тощему, жалкому местечку под мокрым холмом – Иуда подъехал на рассвете. Накануне вечером на подступах к деревеньке рубились, похоронная команда еще не появлялась тут, да и санитары в темноте поработали кое-как, спустя рукава. По всему голому полю чернели в мутном раннем свете тела трех-четырех десятков людей. Кричали птицы в близкой рощице. Солнце уже взошло над горизонтом, его сильные лучи проходили в прорехи туч и ударяли в рваный туман, но не рассеивали его, а причудливо растворялись в нем.
На краю поля стояла беременная баба, туго завернутая в синюю широкую шаль с бахромой. Живот беременной кругло выпирал из-под шали, женщина сложила и сплела под ним руки, как будто боялась его уронить. На подъехавшего Иуду она не оглянулась.
– Своих, что ли, ищешь? – сойдя с телеги, спросил Иуда.
– Своих, своих… – сказала баба, глядя в поле. – Мертвые-то все свои, это мы с тобой чужие.
Иуда шагнул вперед и через плечо поглядел на бабу, на ее лицо. Беременной было лет тридцать, может, с небольшим, на крупном белом лице с высокими скулами, над выпуклыми зеленовато-коричневыми, цвета вялого листа глазами темнели широкие в переносице, вытянутые и опущенные к вискам брови.
– Я ж не поляк, – пробормотал Иуда и запнулся, замолчал: сказать здесь и сейчас «я еврей» было бы неуместной нелепостью, сказать «я русак, свой, это нас положили поляки» язык не повернулся. – Какой я тебе чужой?
– Чужой и есть, – повторила беременная, как об известном. – Семья, дитятки, пока под твоей крышей живут – те свои. – Она бережно провела красивой ладонью со сведенными пальцами по крутому бугру живота. – А потом – тю-у!.. Земля-то вон какая большая, а много ли своих? А ты, парень, волк степной: из степи пришел, в степь ускачешь.
Иуде приятно было узнать, что он степной волк; тепло жесткого густого меха прилило к его иззябшему телу. Беременная на краю мертвого поля казалась, однако, тронувшейся умом или блажной.
– Ну, семья – это ясно, – мягко, как с больной, заговорил Иуда. – Общая крыша, общая постель, еда – все общее. Это понятно… Но, в конце-то концов, можно ведь во всем мире все сделать общим, и тогда все будут свои.
Беременная по-прежнему неотрывно и упорно глядела в поле, так что непонятно было, слышит ли она Иуду или нет.
– Нельзя, – сказала беременная.
– Но почему? – спросил Иуда.
– Жалости на всех не хватит, – обернувшись наконец к Иуде, сказала беременная. – Слишком он большой, мир, человеку человека не видать. А как пожалеешь, если не видно ничего? А этих я вижу всех, вот они, – она, выпростав руку из-под шали, указала на мертвых. – Мне их жалко, и матери их труждались зазря, вот за это. – Она снова обвела рукой темные кучки в поле. – А тебя не жалко: ты живой покуда, чужой человек, ты своей дорогой пойдешь, мне нет до тебя никакого дела… Как тебя звать?
– Иуда.
– Иуда… – повторила беременная. – Ну иди тогда.
Он и сам не знал, зачем назвался своим именем, как оно слетело с языка здесь, на украинском поле под Хотином, на мутном рассвете. Зачем это сумасшедшей брюхатой бабе? И кто для нее, с ее рассуждениями о своих и чужих, о близких и далеких, очкастый Иуда, прикативший на своей тачанке из ночной степи?
– А ты кто такая? – спросил Иуда.
– Иуда на суку удавился, – не ответила баба.
– Один он, что ли, был на земле? – почти крикнул Иуда. – Я-то тут при чем! Ты думай, что говоришь!
– Не шуми, – строго сказала беременная. – Чего шумишь, если тебе все равно?
– А кто тебе говорит, что все равно? – сказал Иуда. – Обидно мне!
– Хорошо, что обидно, – сказала беременная и, не оборачивая к Иуде лица, улыбнулась. – Кто обижается, у того душа еще живая. А Иуд-то этих нынче пруд пруди, бессовестных этих.