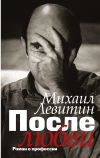Текст книги "Стать Лютовым"

Автор книги: Давид Маркиш
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 14 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Тут другое, – чуть слышно пробормотал Иуда. – Тут история темная.
– Да никакая не темная, – расслышала беременная. – Когда совести нету у человека, он какую хочешь подлость сделает, кого хочешь на смерть пошлет. Этих вот, – она кивнула в поле, – кто послал? Зачем?
Иуда промолчал. Ему сделалось тревожно, тускло. Кто послал? Революция их послала, а вот зачем – тут дело темное, как с Иудой Искариотом. Да и какая может быть совесть у революции? Где она – в кулаках?
– У кого зубы острей, тот и прав, – сказала беременная. – Вот беда… А «не убий» для одного Боженьки милосердного хорошо, больше ни для кого. Что ли, не так? Ты небось и сам кровь проливал, вон какой страшный.
– Не проливал, – сказал Иуда. – Но – интересовался.
– То-то и оно, – сказала баба. – Мать-то есть у тебя? Живая?
– Ну есть, – сказал Иуда. – А что?
– Езжай до дому, – сказала беременная. – Нельзя тебе здесь больше.
Свет был по-прежнему сер и влажен, и огненный пузырь солнца, покрытый нежной золотистой шерсткой, имел расплывчатые очертания. Иуда вдруг услышал то ли приглушенный свист, то ли шелест и быстро обернулся, благодарно ожидая увидеть светлого ангела с тонким скорбным лицом, с сизыми крыльями за покатыми мальчишескими плечами; но никто не обнаружился в поле его зрения. Внимательно оглядев блекло светящееся пространство, Иуда Гросман вздохнул и сплюнул себе под ноги.
– Совесть – это что? – спросил Иуда.
– Любовь, – сказала беременная.
Скользя по сочной грязи, Иуда шагнул к женщине и, привстав на носки, осторожно коснулся губами ее щеки. Потом, горбясь, пошел к своим лошадям.
Откуда она взялась, эта Ленка, в полевом лазарете, Иуда Гросман толком не знал. Да он и сам попал сюда вполне случайно, в соответствии с расположением заоблачных звезд в тот дождливый, ветреный и свежий вечер: ехал мимо сидящего в грязи местечка Жабокрики и завернул на огонек в поисках миски супа и сухого, теплого угла. Голод донимал его со вчерашнего вечера, чувство голода было вначале тяжким, затем оскорбительным. Абсолютное и безоговорочное отсутствие пищи бросало тень на его человеческое достоинство. Как так? Невесть уже когда обремененные разумом божьи твари, сидя в своих чисто выметенных каменных халупах, у вечернего костерка, жевали лепешку, печеный лук и пироги с финиками, а он, студент и освободитель пролетариата, рыскает по степи, как неприкаянный волк, желудок его пуст, а мысли скорбны. Нужно было прожить тысячелетия, увидеть единого Бога, застроить землю Гошен, написать «нет ничего нового под солнцем», поглядеть на «Охотников на снегу» Брейгеля и прочитать Мопассана в оригинале – для того, чтобы здесь, у местечка Жабокрики, придти к такому оскорбительно-тяжкому состоянию. Огонек госпитальной палатки расплывчато мерцал в сердце дождя, в темной степи – и Иуда повернул к нему свою тачанку.
В палатке, заваленной теми, кому не повезло, правила санитарка Ленка.
– Лютов я, – сказал Иуда, войдя. – Пока здоров, но еще немного, и тогда уже не ручаюсь.
Ленка была белой кожи, с черными, отвесно падавшими ниже плеч волосами, и каждый волосок падал сам по себе, отдельно от других. Сильные волосы обегали узкое лицо с детским подбородком и распутными нежными губами, а маленькие уши проглядывали сквозь черную зыбкую завесу. Темно-голубые, почти синие глаза, широко расставленные, пытливо глядели на Иуду, отряхивавшего воду с плаща.
– Это тебя, что ли, прислали? – спросила Ленка. – Я тебя знаю: ты раньше в газету писал.
– Никто меня не присылал, – сказал Иуда. – Я ехал, ехал, потом гляжу – огонек. Да и что за разница?
– А то и разница, – беспечально сказала Ленка, – что санитара обещали прислать. Видишь, что тут делается? Всё полно, а я одна.
– Уже вдвоем, – снимая плащ, сказал Иуда и рукой махнул, как бы отгоняя Ленкины сомнения на этот счет. – Я санитар, санитар… Дашь человеку поесть что-нибудь? А то я со вчера не жрамши.
Розовые губы над детским подбородком пришли в движение.
– Всем давать, – внятно проговорила Ленка, – знаешь, что тогда будет? Вон щи в углу, во фляге, теплые еще.
Иуда слышал об этой Ленке, многие о ней слышали. Это она жила при начдиве-шесть до самого его крушения, и начдив берег ее. Да и сам Буденный, говорят, наезжая к Савицкому, мимо синеглазой не проходил, не говоря уже о московских гостях с нашивками. Теперь, стало быть, она здесь, в лазарете, посреди ночного поля. Она и Иуда Гросман, писатель.
Что было, то прошло. Тут на горизонте не Одесса, а Жабокрики. Буденный сюда не заглянет. Да и что Буденный? Одни усы, хоть чайник на них вешай. В конях он понимает, больше ни в чем. Ему чаи из блюдца гонять с Трофимом Рохлей, а не крылом чертить вокруг этой Ленки, этой Суламифи в яблоневом саду. Конскую душу знать – это важно, но и в душу женщины надо уметь заглянуть поглубже, и такое двуединство даст право на высокое место под солнцем. А командарм если и заглядывает куда со знанием дела, так это в бутылку.
– Командарм тут, случайно, не проезжал? – как бы ненароком спросил Иуда и увидел, что ошибся, не надо было спрашивать.
Ленка презрительно уперлась в него своими синими камушками.
– Командарм на передовой, – сказала Ленка с вызовом. – Он по тылам не шляется.
– Он смелый? – неизвестно зачем подзуживая, спросил Иуда.
– Он герой, – сказала Ленка и отвернулась.
«Я тоже герой, – подумал Иуда Гросман, – если ради того, чтобы смотреть на тебя, хлебаю щи в этой тифозной палатке. Отсюда бежать надо, не оглядываясь, а я хлебаю. Значит, я герой».
– Тут у тебя тифозные тоже есть? – утерев рот тыльной стороной ладони, спросил Иуда.
– Куда ж им деться?.. – сказала Ленка, как об обычном. – Вон того выносить уже надо, а этот кончается. Санитара-то обещали прислать на ночь, а где он?
– Здесь я, – сказал Иуда и поднялся с брезентового седачка. – Можешь на меня положиться. А хочешь, я усы отращу?
Ленка поглядела на Иуду, на его очки, на его улыбку – и, словно удерживая смех, прижала ладошки к щекам и прыснула. У нее был хороший характер, хороший и легкий.
– А не боишься? – отсмеявшись, спросила Ленка. – Ведь сыпняк…
– Боюсь, – сказал Иуда. – Но мужчина платить должен, чтоб с тобой рядом стоять. Кто не платит – тот вор, фармазон. Вот я и буду платить – страхом, больше у меня ничего нет.
Минуту назад Иуда Гросман и сам не знал, останется он здесь или, схватив плащ в охапку, сядет побыстрей в свою тачанку и погонит куда глаза глядят, подальше отсюда. Теперь знал: останется, никуда не поедет. Да что там останется! Теперь он готов был, загнав свой страх в мыски кавалерийских сапог, скакать рядом с усатым Буденным ноздря в ноздрю или даже на полкорпуса впереди, в самую гущу рубки. Он и не на такое сейчас был совершенно искренне готов вот за это лукавое «чтоб с тобой рядом стоять». «Рядом стоять» имело ту же прерывистую и волнующе двусмысленную очерченность, как «положись на меня» или «уже вдвоем». Слова волшебно значили куда больше, чем сочетанья букв или даже звуков, поэтому они и носились когда-то сладкой розовой пеной над водами.
«Буденный? Тем лучше… А я Иуда Лютов; будем знакомы. Вы, командарм, вырастаете из собственных сапог, как бузина из козьего дерьма, а я стою тут, ночью, на обовшивевшей земле, я – дозорная башня с кошачьими глазами бойниц, и мокрые тучи ползут по моим плечам. Я дам вам фору, командарм, – два шара, и вы проиграете: женщина пойдет за мной. Я должен победить – я, четырехглазый еврей с сердцем пророков и головой апостолов. Я должен доказать себе, вам и всем, что существую – и только чистый выигрыш даст мне эту уверенность. Да ведь и женщина стоит того, а, командарм?»
– Ты красивая, – сказал Иуда. – Женщине вредно быть такой красивой.
Раненые и больные, лежавшие вповалку на заскорузлых дерюгах, вскрикивали и стонали. Едва ли кто-нибудь из них внятно слышал Иуду, да это его и не беспокоило: те, кому не повезло на войне, лежали здесь, на земле, как бурелом, и вывороченные изломанные корневища ног торчали. Не стоило выводить отсюда женщину, чтобы под дождем говорить ей о том, что она красива, и обнимать ее, переваливаясь в черной грязи. Какое дело ему, Иуде Гросману, до того, что вообразит о настойчивой жизни, глядя на него, какой-то несчастный в предсмертном, возможно, озарении? Интересно и важно было бы, конечно, разведать, что он там подумает, глядя умирающими глазами на жизнеродный совокупительный труд рядом со своим телом, улавливая отлетающим слухом не слабеющее мычанье своих последних товарищей, а хрип страсти, в приступе которой сильная жизнь перемешана поровну со сладкой смертью. Но этого не разведать, не узнать, а потому остается только расстелить здесь, в сухости и тепле, шинель, и лечь с женщиной, и глядеть, и запоминать, как будут приподымать головы на вялых шеях те, кому не повезло на войне.
Ветер за полостью палатки набегал порывами, с шумом пригибал к брезенту густые дождевые струи. Погромыхивал гром, прокатываясь по близкому небу. Освещенное керосиновыми лампами место мучений и смерти казалось в промозглом ночном хаосе закоулком райского сада.
Нагибаясь над лежащими, Ленка с «летучей мышью» в руке прошла по палатке. Иуда терпеливо глядел, как с каждым наклоном распахивалась ее расшитая бисером гуцульская кацавейка. Ленка нагибалась то на прямых ногах, и тогда юбка ее чуть вздергивалась, открывая розовые колечки чулок над сапожками, то как-то по-детски присаживалась на корточки, как ребенок над кустиком земляники. Наконец, она закончила свой обход и вернулась к Иуде.
– Двое… – сказала Ленка. – Выпить хочешь стаканчик? – Из дощатого ящика она достала флакон с медицинским спиртом, полный наполовину. – Пей – и понесем.
– А ты? – спросил Иуда.
– Я тоже, – сказала Ленка. – Ты разбавляешь?
– А ты? – спросил Иуда.
– Да что ты заладил: «а ты, а ты…»! – сказала Ленка, наливая. – В газету трудно писать? Я перевестись хочу отсюда в газету.
– Легко, – сказал Иуда. – Я тебя научу, хочешь?
– Ну да, научишь… – сказала Ленка, глядя недоверчиво. – Вы все только обещаете…
– …а сами об одном думаете, – подражая Ленкиной интонации, договорил за нее Иуда. – Так, что ли?
– А ты умный, – сказала Ленка и улыбнулась легко, благодарно. – Все знаешь и статьи писал. За что тебя оттуда выгнали-то, из газеты?
– С начальством поругался, – хмуро сказал Иуда. – Правду написал, а кто ее, правду, любит? Ну и загремел.
– Бедный! – жалостливо сказала Ленка и провела маленькой, мягкой, как бы просунутой из другого мира ладошкой по иудиной колючей щеке. – Чтоб ей пропасть, этой правде, из-за нее что только не делается! А кому она нужна? На стенку ее, что ли, прибить в рамке?
– Иногда нужна, – сказал Иуда. – Если б меня сюда не отправили, кого бы ты сейчас гладила? Ну гладь, гладь!
– Ты умный, – сказала Ленка. – Все знаешь… Да подожди ты, успеешь! Вынесем сначала. За плечи бери, подмышки! Подымай! А я за ноги.
– Так ведь дождь, – сказал Иуда.
– Что из этого? – строго сказала Ленка. – Не положено оставлять.
Труп еще не успел остыть, тяжелое тело провисало, волочилось по земле. Плечом отпахнув полость, Иуда выбрался из палатки наружу. Мокрый насквозь ветер обхватил его, холодная вода поползла за ворот гимнастерки, на спину пятившегося. Скользя в грязи, он поспешно опустил труп, почти уронил его. Голова тупо ударилась о набрякшую небесной влагой землю.
– Закрой его вон брезентом, – сказала Ленка, а потом добавила извиняющимся тоном: – Сейчас второго вынесем, и тогда уже всё…
Второго положили рядом с первым. Дело было сделано.
– Ну вот, – сказал Иуда, как о договоренном. – Теперь можно погреться.
Ленка промолчала, только отвернулась и встряхнула головой, сгоняя капли с волос. Это ее молчанье обожгло, опалило Иуду, как вспышка огня; скажи она ему: «Ну пошли», – это не составило бы и малой части той радости, того перехватившего горло восторга, который исходил из смутного обещающего молчанья. По собственной воле и желанию она пойдет с ним, к нему. Так должно быть, так будет. И все же переливались сомнения на самой окраине души: а если нет? И эта сомнительная неопределенность лишь подливала масла в огонь.
Запах лазарета выветрился из палатки. Пахло сыростью, прелой землей, керосином. Ленка двумя руками забросила волосы за спину, повернулась к Иуде и сказала:
– Ну пошли… Здесь, в углу, посуше. Шинель возьми подстелить!
Сказано: «Горше смерти – женщина, потому что она – ловчая яма, и сердце ее – силки, руки ее – оковы; добрый перед Богом спасется от нее, а грешник уловлен будет ею». И грешник, и праведник попадутся. Тянет человека к игре с женщиной, как тянет его к игре со смертью. Женщина – устье, и открывается то устье в море, а то море – обрыв жизни и золотая тьма. Красива ли женщина, черна или рыжа, с лицом округлым или вытянутым, чистым или веснушчатым, она – дом смерти и в то же время дом жизни, она отворяет перед человеком дверь в высокое небытие нирваны, а потом с криком отстраненья отпускает обратно, и он медленно воскресает, и сознание возвращается к нему вместе с жизнью. А в женщине смерть перетекает в жизнь, как шелковый песок в сочлененьях часов, и устье ее становится лоном, и Бог не остается в стороне от этого превращенья.
И праведник, и грешник… Никто, кроме, быть может, блаженного, чей искаженный неведомыми видениями разум и без того витает в иной сфере, не пройдет мимо женщины, как мимо неодушевленной статуэтки. Гибельная захватывающая опасность ночного леса, древний гулкий восторг перед рассветным рождением Солнца, когда косноязычная немота овладевает и отпетым краснобаем, сам дух жизне-смерти, неостановимо исходящий от женщины – все это не останется неуловленным: и грешник, и праведник, раздув ноздри, безоглядно и послушно втянет будоражащий запах.
И вот – гон, надежда, отчаянье, обожествленье, крушенье и возрожденье: все, решительно все, из чего состоит счастье. И – ищущие всеохватные руки, мельканье звезд и миров за сомкнутыми веками, невесомость податливой льнущей теплой плоти, нездешнее смешенье цветов и звуков и в сапфировом тупике дороги богоподобное одиночество человека во Вселенной.
На шестой день после той ветреной и дождливой ночи Иуду Гросмана свалил сыпняк.
В возвращении к жизни есть что-то детское: радость по этому поводу, представляющая собою не что иное, как душевное облегчение, освобождение души от тяжкого предсмертного гнета, имеет ребячливый характер. Такое возвращение из пограничной со смертью, почти уже вневременной области, где свет не отделен от тьмы, добро от зла, а сон от яви, и есть, по существу, новое рождение. Быть может, радуется и дитя, с первым великим трудом, в муках, не уступающих материнским, миновав те самые несоразмерно тесные врата, которые всех нас привели в этот мир. И первый крик ребенка – это крик радости по поводу освобождения от боли и неволи.
Иуда Гросман, во всяком случае, радовался, одолев кризис болезни и придя в себя после пяти дней умирания. Он облегченно вернулся в обжитый и привычный мир, и вот это произносимое с покачиваньем головой «чудом выжил» прилепится к нему навсегда. Он вернулся в мир из сумерек и с недоверчивой радостью обнаружил, что милый солнечный день стоит за окном госпиталя. Иуда знал, помнил, что с ним произошло – до тех пор, когда сознание его сделалось расплывчатым, а затем и вовсе бесформенным и никаким, а мир сузился и сжался до подобия темной утробы. То, что его отправили в тыловой госпиталь, – вот этого он не знал, а когда ему стало известно, что военная жизнь его позади и нет нужды возвращаться на фронт, он обрадовался совсем уже успокоенно и безоглядно. Где-то с окраины памяти улыбнулась ему Ленка и помахала рукой, и Иуда улыбнулся ей в ответ, как из проходящего мимо и исчезающего навсегда поезда. «Прощай, Ленка из вшивой палатки, быть может, я запомню твое имя».
Иуда много спал в госпитале. По большей части он просто лежал в животворном забытьи, как в зеленой теплой траве, но иногда ему снился фронт. И тогда люди и лошади войны, протянутый от неба к земле струйчатый нескончаемый дождь, евреи, украинцы и поляки – все эти картинки возникали в его подправленном сном сознании удивительно ярко и резко, почти лубочно, и были похожи на игральные карты в проворных пальцах фокусника: колода трещала, блестящие карты ложились одна на другую. Иуда Гросман глядел на эту вереницу изображений как бы со стороны, как разглядывают разноцветных тропических рыбок сквозь стеклянную стенку аквариума. И ему было отрадно ощущать эту отстраненность и отчасти даже приподнятость над видимым: извне угол зрения его становился шире, взгляд – пристальней и выборочней; не написанные еще слова, реплики и целые фразы обрамляли изобразительный ряд и двигались вместе с ним. И, просыпаясь от сна, Иуда Гросман улыбался улыбкой счастливого человека.
Казенный чаек жидок: кража всего, что можно съесть или выпить, людьми, стоящими вплотную к хлебу, мясу или чаю, не вчера стала нормой. В госпитале крали не только, конечно, чай – но и его тоже: отсыпали из цыбиков, отливали в домашний бидон из заварных чайников. И хорошо бы отлить и на том успокоиться; так нет же, доливали пристойного восполнения ради водою из-под крана. С мясом было проще: отрезали, отрубали куски и волокли по домам, а выздоравливающие глодали кости. Иуда к этим проделкам относился с пониманием, хотя по настоящему чайку́ и скучал; ему, помимо самого напитка, представлялся хрустальный стакан в серебряном подстаканнике, звяканье ложечки, солнечная долька лимона, стол под белой крахмальной скатертью, дом на Кузнецкой, Одесса на берегу моря. Хрупкая и упрямая сила жизни, возвращаясь в тело выздоравливающего, размягчила его душу. Из госпитальной палаты Одесса казалась ему приятней и чище, жена Люба – милей, а надоедливые соседи не вызывали раздражения. Однажды, к немалому удивлению Иуды, к нему пожаловал во сне нежданный гость – князь Давид Реувейни на высоком коне, и они, посмеиваясь, поболтали об эскадронном Трунове, переходе через Збруч и упрямых галицийских евреях, не желающих воевать за Палестину.
Об этом ночном визите Иуда рассказал наутро приятному человеку по имени Мустафа, кочевнику. Мустафа попал в госпиталь после тяжелого ранения, развороченные его кишки слаживались с трудом, а контуженная голова работала с перебоями. В минуты этих-то перебоев татарин нес интереснейшую околесицу, и Иуда жадно запоминал откровения тронутого. Сходились они – Иуда и Мустафа – на ветхой госпитальной веранде после утренней каши и сидели там, с жидким пойлом в руках, за дощатым столом, густо покрытым памятными надписями непристойного свойства.
– Чай не пьешь – откуда силы берешь? – побалтывая пойло в кружке, начинал разговор Мустафа.
– Ну да, ну да, – охотно поддерживал Иуда. – Чай попил – совсем ослаб.
Такая завязка ни к чему не обязывала, она была как бы присказкой, и разговор мог покатиться по любой тропинке. Собеседникам на веранде никто не мешал – больные предпочитали отлеживаться после бессонной военной жизни, а врачам с сестрами и подавно не было до них дела. За шаткими перильцами помещения открывалась южная бесснежная степь, там жили крупные птицы с хлопающими крыльями и ночные звери, не показывающиеся на глаза человеку. За степью, далеко, проживали в красивых горах дикие сородичи Мустафы, о которых он отзывался неодобрительно: бараньи люди. Горные пределы Мустафа оставил шесть лет назад ради войны с германцами и так на родину и не вернулся, подавшись – после развала фронта и благополучного оттуда бегства – к красным: агитатор попутал. Агитатор ему понравился, потому что был он человек простой и природный дурак: от новой власти обещал Мустафе землю и скот в вечную собственность, как будто заляпанные грязью бараны и заваленные льдом неодолимые камни вершин принадлежали до сих пор какому-то чужому дяде. Получалось, что агитатор врал не по вредному умыслу, а от полного непонимания горных кочевых обстоятельств, и это говорило в его пользу.
Поклонник бесхитростных природных дураков, Мустафа и сам был человек чистый до прозрачности. Но и солнце, говорят, не без пятен, и прямая на первый, ознакомительный взгляд жизнь кочевника давала кое-где извивы и загибы, и в углах стояла непроницаемая тень. Иуда Гросман вглядывался в эти сгустки тени до боли в глазах.
– Вот ты говоришь, – со смаком отхлебнув из кружки, сказал Мустафа, – этот ваш князь…
– Реувейни, – напомнил Иуда. – Под ним конь, шашка на боку.
– А камча? – глядя из-за кружки, с интересом спросил Мустафа. – Камча была?
Иуда наморщил лоб, вспоминая, а была ли камча при князе.
– Ко мне знаешь кто приезжал недавно? – понизив голос до доверительного шепота, продолжал Мустафа. – Чингисхан!
Иуда, не показывая вида, немного подосадовал про себя: Чингисхан тут был ни к селу ни к городу, Иуду занимали события посвежей и поближе.
– Ну и как? – вежливо спросил Иуда. – Что сказал?
– На нем малахай из лисьих хвостов, – наклонив вперед бритую башку, сообщил Мустафа, – шуба барсовая, сапожки блестят.
– Неверно, – возразил Иуда. – Сапожки тогда еще не блестели.
– Как так? – выкатил свои косые глаза Мустафа. – А если он по дороге сюда содрал эти самые сапожки с какого-нибудь командира?
– Это дело другое, – без подъема согласился Иуда. – Тогда – да.
– Ну а как же! – удовлетворился Мустафа. – Может, он крюка дал через Умань или даже через Житомир.
– А в Питер он не заскочил по дороге? – спросил Иуда. – Или в Москву? Там все же начальство, там власть.
– А как же, – сказал Мустафа. – Был… Ему, что ли, долго?
– Ну понятно, – разведочно заметил Иуда. – Ты ж и сам там бывал, если не путаю. А он теперь по твоим, значит, следам.
– Да, – сказал Мустафа. – Только туда, где я был, его не пустит никто: пропуск нужен.
– Без пропуска – никак? – спросил Иуда. – В Кремль, что ли?
– Зачем в Кремль? – скосив глаза в кружку, сказал Мустафа. – Был у меня один там товарищ, верный человек, я с ним куда хочешь ходил. Куда он, туда и я. Из ваших, между прочим… Он с пятнадцати шагов первым выстрелом в туза попадал, в самую середку.
– Бандит? – вскользь поинтересовался Иуда.
– Зачем бандит? – сказал Мустафа. – Культурный человек. Чекист. Яшка.
– Ну Яшка так Яшка… – сказал Иуда. – Мало ли там разных Яшек.
– Он главный, – сказал на это Мустафа с уверенностью.
– Как Чингисхан? – спросил Иуда.
– Ну да, – сказал Мустафа. – Нос у него – во, глаза сверкают.
– А фамилия? – спросил Иуда, мягко глядя.
– Секрет, – сказал Мустафа. – Нельзя.
– Не на «бэ» случайно? – спросил Иуда.
– На «бэ», – сказал Мустафа. – Да. Но дальше не скажу. Молчок.
– Дальше будет «л», – сказал Иуда. – А потом «ю».
Мустафа улыбнулся загадочно и со свистом потянул чай из кружки.
Блюмкин. Иуда даже поморгал под очками – так резко, так очерчено встала перед ним картина: литературный подвал, холодно, полно людей, знаменитый террорист с лицом одухотворенным и страшным читает стихи о снежинках, ложащихся на лицо смертника во дворе тюрьмы. Яков Блюмкин. Стихи, потом убогий стол, вино из самовара, запах табачного дыма. Дикие, волшебные рассказы об эсеровских терактах, о Савинкове. Есенин в белом кашне тянется чокнуться с убийцей посла Мирбаха… Что общего может быть между Яковом Блюмкиным и кочевым Мустафой?
– А ты что, вообще-то говоря, там делал? – спросил Иуда.
– Чего, чего! – сказал Мустафа. – Что велели, то и делал. Мы люди маленькие. Как все.
Ну не совсем как все. Если привести такого Мустафу в «Летучую мышь» или в ту же «Бродячую собаку», литературная богема накинется на него, как коршун на кровавое мясо. Еще бы! То ли он страшный горный абрек, то ли вообще какой-то керуленский монгол, тоже страшный. А может, даже на Тибет его заносило бандитским ветром. Людей пера и чернил тянуло на убоину, тянуло неостановимо и бесцеремонно. И если Мустафу привел действительно Яков Блюмкин, успех у посетителей литературных подвалов был обеспечен кочевнику.
– Ты со знаменитыми людьми там водку пил, – сказал Иуда Гросман. – С писателями разными, артистами. А?
– Люди как люди. – Мустафа цыкнул слюною сквозь редкие передние зубы и вдруг поскучнел. – Это мы не знаем.
– Там пел кто-нибудь? – продолжал подбираться Иуда. – Не помнишь?
– Пел, – не задумался Мустафа. – Этот, который пел, смеялся очень, прямо хохотал. Плясали иногда.
– Ты тоже плясал? – поинтересовался Иуда.
– Нет, – сказал Мустафа. – Нам нельзя.
– Это почему еще? – спросил Иуда.
– Нельзя – и все, – объяснил Мустафа. – Молчок.
То, что Мустафе запрещено было кем-то плясать в литературном кабаке, позабавило Иуду Гросмана, но не озадачило: ну нельзя так нельзя. Другое удивляло и даже вызывало хмурую ревность: его, Иуду, Блюмкин никогда не звал ни в «Мышь», ни в «Собаку». А как хотелось войти с этим блистательным алмазным кровопийцей в прокуренный подвал, набитый знакомыми людьми! Эти люди, все эти поэты, прозаики и драматурги, тянулись к Блюмкину, как белые, на нежных стеблях ромашки к красному солнцу. Завораживающее любопытство, любопытство кролика перед пастью удава управляло их движениями. Отброшенные грубыми, гибельными обстоятельствами от как будто бы вечного, на все времена, пока существует искусство, источника критических сомнений, но вместе с тем и обязательной надежды, они искали для себя другой сосец и готовно тыкались в страшное брюхо новой власти. Блюмкин, спустившийся к ним в подвал, был человеком этой дикой, степной, разбойной, а потому завораживающей власти. Запанибратски читая им свои достаточно серенькие стишки, он вместе с тем оставался на недосягаемой ни для кого из простых смертных высоте, густо замаранной повивальной кровью: новая, никогда не виданная и не слыханная справедливая эпоха рождалась в близких муках.
Став Лютовым, Иуда Гросман, несомненно, приблизился к Блюмкину, и это было увлекательно и жутко. Но иначе не должно было быть.
Попив с Мустафой чайку на веранде, Иуда вдруг заскучал в госпитале до ломоты в сердце. Глядя на заплеванные подсиненные стены, он видел себя в Одессе, в Москве и в Питере. Прошла вязкая приятная слабость возвращения к жизни, тянуло куда-то идти, куда-то ехать; Иуда выздоровел.
Удар железной битой по подвешенному обрезку железнодорожной рельсы никого не оставляет равнодушным в госпиталях и санаториях: одни ждут его с раздражением, большинство – с душевным подъемом. Гонг зовет к столу, а совместное сидение над мисками с манной кашей вносит оживление в вялотекущую жизнь праздных людей, выздоравливающих или умирающих. Иуда с того самого дня, как поднялся с постели после болезни и приплелся в столовую, глядел на своих потрепанных застольников с жалостливым замираньем сердца и чуть ли не со слезами на глазах: они выжили вместе с ним, они его близнецы, рожденные смертью… Теперь это прошло. Изможденные люди, хлебающие и жующие, стали ему безразличны. Он хотел лишь одного: как можно быстрей с ними расстаться. Пусть себе сидят сами в этой южной степи.
Мустафа – другое дело. Бывший кочевник по-прежнему занимал мысли Иуды Гросмана, писателя. Иуда охотно, одну за другой придумывал истории, в которых его дикий приятель играл загадочные и кровавые роли. Хорошо бы когда-нибудь встретить его еще раз – не здесь, в иных обстоятельствах. А пока что прикипело плюнуть на все и бежать отсюда – хоть пешком, хоть как. Один день затяжки, ему казалось, мог согнуть его волю, искривить всю жизнь, превратить Иуду из чуткого независимого наблюдателя в послушный объект наблюдения. То, что было задумано с любовью к себе, следовало делать сразу и не откладывая, не то мускулистое желание покрывалось волдырями и крошились зубы от бессильного скрежета. Итак – бежать. В Одессу. Домой.
Веселей было бы бежать с кем-нибудь, хотя бы с тем же Мустафой.
– Ты куда отсюда пойдешь? – спросил Иуда, возя ложкой в белесой жижице каши. – На фронт?
– К бабе пойду, – с уверенностью ответил Мустафа. – Баба – как собака. Служит, служит, пока не сбесится. Как сбесится – надо стрелять. А есть такие, которые не стреляют. И это – беда.
– Где у тебя баба-то? – снова спросил Иуда.
– Нет у меня бабы, – сказал Мустафа. – Была одна, куда-то делась… Другую возьму.
– А любовь? – сказал Иуда.
– А как же, – сказал Мустафа. – Городскую возьму, ученую. Чтоб в драп-пальто ходила.
Такое заявление укрепило Иуду в его намерении бежать отсюда с Мустафой на пару. С Мустафой не пропадешь. И весело.
– Слушай, Мустафа, – сказал Иуда. – Я сегодня вечером отсюда сматываюсь.
– Ну и что! – сказал Мустафа. – Мотай!
– Пошли вместе! – предложил Иуда. – До Одессы доберемся, там море, там всё…
– Не могу, – сказал Мустафа. – У меня сальник тянет, кишка не срослась.
– Срастется твоя кишка, – обнадежил Иуда. – Не помрешь.
– Вот именно, что помру, – сказал Мустафа. – Тебе-то что, а мне это ни к чему!
Тогда Иуда Гросман пожал плечами и решил уходить один.
К числу неразрешимых загадок славянской души, включая еврейскую, относится страсть к перемене пейзажа. Зачем, куда? Бог весть… Лучше всего и солидней застывшим и не лишенным меланхолической грусти взором наблюдать размеренное мельканье природы за окном железнодорожного вагона. Действительно, не бить же ноги в колдобинах проселка, вон, отлично различимого из того же окошка! С большака или хоть со звериной буерачной тропы все то же видать, что из вагона, только хуже: обзора нет. А тут лес, поле, луг. Степь. Горы на краю степи карабкаются друг другу на закорки. Какая красота, какой простор неодолимый! Можно и выпить по этому поводу. Наливай, ребята, чего время-то терять, глазеть по сторонам! Поехали!
Поехали. В поезде теснота, вонь и приятное дорожное безобразие. Никого покамест не колотят по мордасам в тамбуре, не слышно стрельбы. Пейзаж, картина за картиной, исправно сменяется в окнах по обе стороны вагона: смотри куда нравится. Проездные документы до Одессы, в один конец, лежат, аккуратно расправленные, в кармане иудиной гимнастерочки, болтающейся на нем, как на вешалке.
Добыть их было нелегко. Главврач госпиталя, ученый старик с отменными вставными зубами, сперва и разговаривать не захотел: завтра! Но «завтра» никак не годилось Иуде, он желал, должен был двинуться в путь сегодня. Ученый старик вмиг сообразил, что имеет дело со взвинченным человеком, готовым на разное, и завел скучный разговор об осложнениях, которыми чреват недолежанный сыпняк, и о тяготах железнодорожного сообщения. Умные слова старика отскакивали от Иуды Гросмана как горох от стены. Ему нужна была госпитальная казенная бумага с печатью, подписанная рукою умного старика. И это все. А старику по большому счету плевать было сквозь его вставные зубы на то, одним Гросманом больше или меньше останется на белом свете; под всех психованных руки не подложишь. В Одессу нужно красноармейцу? Одесский воздух целителен? Ну это как знать… Мама и жена? Но почему же все-таки не завтра, а именно сегодня ночью? Невозможно объяснить? Да, пожалуй, тут следовало бы привлечь психиатра… Вот вам, нетерпеливый молодой человек, моя подпись, вот вам печать. Готово! А теперь, извините, ваша очередь: подмахните-ка заявленьице о досрочном убытии. Так… Счастливого вам пути и доброго здоровья!
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!