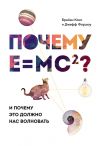Читать книгу "Самая большая ошибка Эйнштейна"

Автор книги: Дэвид Боданис
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Теперь же он стремился расширить не только собственные познания, но и пределы физики как таковой. Косвенной причиной этого рвения послужило желание помочь отцу, чьи новые фирмы в Павии и Милане, несмотря на то, что эти края не отличались антисемитизмом, принесли не больше успеха, чем мюнхенские. Деньги, которые посылали родители Альберту, значили для семейного бюджета очень много, и Альберт это понимал. Еще одна причина заключалась, так сказать, в духовном наследии его предков. Хотя он уже в двенадцать лет отказался соблюдать религиозные формальности, он все-таки верил, что во Вселенной таятся истины, которые словно бы ждут, чтобы их открыли, пока же человечеству удалось бросить лишь беглый взгляд и лишь на немногие из них. Это и станет его целью в жизни, поклялся он в 1897 году в письме матери и Марии Винтелер.
«Усиленная интеллектуальная работа и изучение божественной Природы, – писал он, – суть… ангелы, которые проведут меня сквозь все жизненные невзгоды… Но это путь особенный… Человек создает для себя тесный мирок, прискорбно незначительный по сравнению с постоянно меняющимися размерами сущего, но при этом можно ощущать свое величие и важность – это ли не чудо?»
Для большинства его друзей такие чувства грядущего «величия» простирались не дальше, чем их собственные довольно скромные планы. А вот Эйнштейн теперь начал подвергать сомнению ту картину мира, которой его учили. Вселенная делилась на два царства: энергии, несомой порывами ветра по хорошо знакомым ему улицам Цюриха, и материи – витрин его любимых кафе, глотков пива или мокко, которыми он наслаждался, размышляя обо всем этом. Но, думал Эйнштейн, ограничивается ли этим такое единство? Может быть, удастся пойти дальше?
Впрочем, на тогдашнем этапе своей жизни он мог лишь задаться таким вопросом. Да, он был умен, но проблемы, которые он ставил, казались неразрешимыми. Представление о Вселенной, состоящей из двух не связанных между собой частей, никуда не делось. Ну ничего. Он достаточно молод, чтобы пока просто принять это. Он уверен: позже он к этому вернется.
Глава 2
Возмужание
Друзьям по университету нравится думать, что они останутся вместе навсегда, но так бывает редко. В 1900 году подошло к концу четырехлетнее пребывание Эйнштейна, Гроссмана и Ми-левы в цюрихском Политехникуме. Бессо, который был несколькими годами старше, уже вернулся в Италию, где он планировал влиться в ряды сотрудников родительской инженерной фирмы, и хотя Эйнштейн пытался его отговорить («Какая напрасная трата его поистине выдающегося интеллекта», – писал он Милеве в том же году), он все же уважал решение Бессо, которое позволило бы ему перестать быть финансовым бременем для семьи. Между тем Гроссман собирался преподавать в старших классах, хотя и не исключал исследовательскую работу. В конце концов он избрал себе тему диплома, лежащую в области чистой математики, что озадачило куда более практичного Эйнштейна. Ну, а Милева Марич разрывалась между желанием остаться в Швейцарии, где можно было продолжать обучение (и где оставался ее любимый человек), и необходимостью вернуться к своей семье, жившей под Белградом.
Эйнштейн тоже не знал, как ему быть дальше. Ему очень хотелось стать настоящим ученым-исследователем, но за эти годы он успел так рассердить преподавателя физики (уже упоминавшегося профессора Вебера) непокорностью и прогулами, что теперь тот отказывался дать ему рекомендательные письма к другим профессорам или к директорам школ: обычно именно так выпускники получали работу. И тогда Эйнштейн, с потрясающей самонадеянностью, сам написал профессору Гурвицу, одному из своих бывших преподавателей математики. Хотя он особенно и не озаботился посещением большей части гурвицевских занятий, признавался Альберт, он все же «смиренно интересуется», нельзя ли ему устроиться ассистентом профессора. По какой-то необъяснимой причине Гурвица эта просьба не впечатлила, так что нашему герою пришлось продолжить свои эпистолярные упражнения («Скоро я осчастливлю моими предложениями всех физиков от Северного моря до южной оконечности Италии»), но в ответ он получал лишь отказы.
Ему это было особенно неприятно из-за того, что он понимал: его семье по-прежнему не хватает денег. Чуть раньше он признавался Майе: «Разумеется, больше всего меня огорчают [финансовые] неурядицы наших бедных родителей. Меня глубоко печалит, что я, взрослый мужчина, вынужден праздно болтаться, не в силах хоть чем-нибудь им помочь».
Некоторое время проработав учителем старших классов и даже побыв репетитором одного молодого англичанина, жившего в Швейцарии, Альберт в 1901 году вернулся в Италию, под родительский кров. И тогда его отец, понимая тягостное положение сына, отважился написать Вильгельму Оствальду, одному из величайших ученых тогдашней Германии. «Моему сыну Альберту 22 года, – объяснял он, – и он… чувствует себя совершенно несчастным… В нем все сильнее укореняется мысль, что он покинул накатанную дорогу, ведущую к успешной карьере, и теперь прозябает где-то на обочине бытия». Герман Эйнштейн просил профессора написать Альберту «несколько ободряющих слов, чтобы он вновь смог радоваться жизни. Если же вы сочтете возможным приискать ему место ассистента с нынешней или следующей осени, моя признательность будет поистине безграничной». Разумеется, все это должно оставаться между двумя почтенными мужами, ибо «сын ничего не знает о моем необычном поступке». Просьба, выраженная с немалым чувством, но довольно сбивчиво, оказалась столь же неэффективной, как и большинство деловых операций Эйнштейна-старшего. Оствальд так и не ответил на это послание.
Что касается отношений Альберта с возлюбленной, то дело обстояло так. Его мать не была знакома с Милевой, однако – заочно – уже возненавидела эту Марич, о которой ее мальчик столько говорит (потому что, если вдуматься, ну какое существо женского пола может быть достойно ее бесценного сыночка?). Паулина использовала неудачи Альберта в его поисках достойного заработка как еще один предлог для того, чтобы он прекратил переписываться с этой гойкой. После трех недель нравственных мучений Эйнштейн в отчаянии написал Гроссману. Он, Альберт, уже просто не в состоянии жить с родителями, может, Гроссман найдет какой-то выход? И тогда тот, подключив родственные связи, записал Эйнштейна на собеседование в Бернском патентном бюро. Альберт тут же ему ответил: «Прочитав твое послание, я очень растрогался: ты не забыл своего невезучего друга».
Собственно, Эйнштейн мечтал не совсем о такой работе, но он понимал, что служба в патентном бюро (если он ее получит) станет неплохим источником дохода и тем самым защитит отношения с Милевой от его матери. Помогло и то, что в том же 1901 году, чуть раньше, Эйнштейн получил швейцарское гражданство. После подачи заявления за ним даже какое-то время следил частный сыщик, отметивший, что герр Эйнштейн ведет размеренный образ жизни, почти не пьет и заслуживает того, чтобы его просьбу удовлетворили. И все равно эта должность казалась ему каким-то шагом назад – просто способом получать надежное жалованье, пока он будет пытаться вновь встроиться в академическую систему. Ему пришлось убедить родителей, что все отлично и эта работа не затормозит его научную карьеру.
По крайней мере, все по-прежнему шло хорошо с Милевой: он еще жил с родителями на севере Италии, а она оставалась в Швейцарии, но ведь это не так уж и далеко. Они могли переписываться, рассуждать о науке и о любви. И готовиться к встрече…
Май 1901
Куколка моя милая!.. Сегодня вечером 2 часа сидел у окна и думал о том, как сформулировать закон взаимодействия молекулярных сил. У меня есть на сей счет очень неплохая идея. Расскажу тебе о ней в воскресенье…
Ладно, все это писание – глупость. В воскресенье я наконец смогу тебя поцеловать. До нашего счастливого воссоединения!
Обнимаю, твой Альберт.
P. S. Люблю!
Что ж, они действительно поцеловались, наконец-то встретившись в Швейцарских Альпах, высоко над озером Комо. В письме своей лучшей подруге Милева рассказывала о том, как ей с возлюбленным пришлось перебираться через перевал, заваленный шестью метрами снега:
Мы наняли крошечные [конные] сани, из тех, какими пользуются местные жители, и там как раз хватает места для двух влюбленных, и возница стоит на приступочке сзади… и называет тебя синьорой, – что может быть прекраснее?..
Кругом был один только снег, куда ни погляди… Под нашими пальто я крепко сжимала в объятиях моего милого…
Видимо, Эйнштейн сжимал ее не менее крепко. «Это было прекрасно, – писал он ей, – когда ты позволила мне прижать всю себя, милую крошку, самым естественным образом». В результате всех этих упражнений к концу их общих каникул, в мае 1901 года, она оказалась беременна. При нравах того времени Милеве, узнавшей о своем положении, оставался один выход: вернуться к своему семейству и оставаться там до самых родов. Девять месяцев спустя Эйнштейн напишет ей:
Берн, вторник [4 февраля 1902 года]
Все-таки оказалось, что это девочка, как ты и мечтала! Она здорова? Она кричит как полагается? Какие у нее глазки? Она голодная?
Я уже так ее люблю, а ведь я даже еще никогда ее не видел!
Сохранились лишь немногочисленные свидетельства касательно их дочери: в то время для пары их происхождения и статуса, не состоящей в браке, было почти невозможно сохранить «незаконнорожденного» ребенка при себе. Они назвали девочку Лизерл (от «Элизабет»). Косвенные данные позволяют предположить, что они отдали ее приемным родителям – вероятно, кому-то из друзей семьи Милевы, проживавших в Будапеште. Судя по всему, Эйнштейн больше никогда о ней не упоминал.
* * *
После череды собеседований Эйнштейн все-таки устроился в патентное бюро – не в последнюю очередь благодаря тому, что за него замолвил словечко отец его друга Гроссмана. Бюро располагалось в Берне: конечно, не Цюрих, но все равно место вполне приемлемое. Однако жалованье не оправдало надежд Эйнштейна. Он подавал заявление на должность технического специалиста второго класса, но суперинтендант Галлер, глава патентного бюро, разочарованный «нехваткой технических способностей» соискателя, предложил ему менее высокооплачиваемую должность технического специалиста третьего класса.
Молодой человек согласился и на такую должность, однако решил поискать дополнительный заработок. Эйнштейн унаследовал от отца известную предприимчивость и уже в 1902 году поместил в местной газете следующее объявление:
Частные уроки по МАТЕМАТИКЕ и ФИЗИКЕ
для студентов и учащихся школ дает самым тщательным образом
АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН,
обладатель диплома учителя фед. Политехникума Герехтигкайтсгассе, 32
1-й этаж
Пробные занятия бесплатно
Эйнштейн, как и его отец, обладал изрядной энергией, однако излагал деловые условия весьма туманно: он действительно заполучил нескольких учеников, но при своей жизнерадостной натуре и общительности вскоре подружился с большинством из них, после чего почувствовал, что не в состоянии взимать с них плату за уроки. Каким-то образом он все-таки ухитрился скопить кое-что, в том числе и благодаря одному студенту, с которого продолжал брать деньги. Этот студент оставил нам описание тогдашнего Эйнштейна: его учитель «был ростом 5 футов 9 дюймов [175 см], широкоплечий… с большим чувственным ртом… Голос у него… по тональности напоминал виолончель».
Эйнштейн пытался продолжать собственные исследования, но это оказалось нелегко. В патентном бюро работали по 6 дней в неделю, а единственная приличная научная библиотека в Берне была по воскресеньям закрыта. Гордость не позволяла Альберту пожаловаться кому-нибудь на тяготы жизни – и уж тем более извиниться перед профессором Вебером и попытаться смиренно вернуться к настоящей научной жизни.
Может, в профессиональном отношении Эйнштейн и страдал, зато его романтическая жизнь стала осуществлением всех его мечтаний. Семья Милевы давала ей кое-какие деньги, и влюбленные знали, что теперь могут позволить себе квартиру, где хватило бы места им обоим. Милева вернулась в Швейцарию, и в январе 1903 года они поженились в бернской ратуше. Жениху было почти 24, невесте – 28. Наверняка он надел на церемонию клетчатый костюм, который, как настаивал суперинтендант Галлер, был ему необходим для службы в патентном бюро. Конечно, они скучали по своей дочери (иначе они не были бы людьми, правда?), но Эйнштейн в полном восторге писал: «Вместе мы готовы до конца жизни оставаться вечными студентами. Наплевать на весь мир».
Мать по-прежнему на него злилась за этот выбор, норовя при каждом удобном и неудобном случае сообщить всем (особенно своему сыну), как она ненавидит эту фройляйн Марич. Его верная младшая сестра Майя неустанно пыталась воздействовать на мать, убеждая не относиться к молодой жене Эйнштейна столь предвзято. Сама же Милева была уверена: в конце концов она непременно завоюет расположение семьи мужа. Она говорила собственной подруге: нужно просто найти кого-то, кого фрау Паулина уважает, и сделаться полезной этому человеку. И тогда мать Эйнштейна непременно увидит ее благие намерения, верно?
В Берне счастливые молодожены обзавелись новыми друзьями, чему немало способствовали музыкальные таланты Альберта. Эйнштейна часто приглашали семейства, где не хватало скрипача для очередного музыкального вечера. Кроме того, они с Милевой могли теперь снова общаться с веселым, непринужденным и всегда расположенным к ним Мишелем Бессо, который вскоре вернулся в Швейцарию из Италии и тоже устроился в Бернское патентное бюро. Эйнштейн говорил ему: «Стало быть, теперь я человек женатый… [Милева] чудеснейшим образом обо всем заботится, она хорошо готовит и всегда в отличном настроении». Бессо тоже успел жениться, в чем Эйнштейн сыграл свою роль: именно он познакомил Мишеля с семейством своей бывшей подружки Мари, которое так понравилось Мишелю, что он сделал предложение Анне, старшей сестре Мари (и вскоре у Мишеля и Анны родился сын). Две пары с удовольствием проводили время вместе. «Мне он очень по душе, – писал Эйнштейн о Бессо, – потому что у него острый ум и при этом он очень простодушен. Анна мне тоже нравится. Особенно же мне нравится их ребенок». К концу 1903 года Альберт с Милевой поселились в квартирке с маленьким балкончиком, откуда открывался прекрасный вид на Альпы. Они стояли там, тесно прижавшись друг к другу, иногда вместе с друзьями, иногда одни, и были счастливы, ведь им пока так везло в жизни!
* * *
С подростковых лет Эйнштейн часто чувствовал себя одиноким. Даже теперь, в окружении тех, кого он очень любил, Альберт осознавал незримые барьеры, разделяющие людей, даже если они поддерживают тесные отношения или живут в одном доме. Он признавался Милеве, что и с собственной сестрой они «стали настолько непостижимы друг для друга, что оказались не в состоянии… чувствовать, что движет другим» – и иногда «все окружающие кажутся мне чужими, словно их отделяет от меня невидимая стена». Даже удивительно, что Милеве удавалось проникать сквозь эту преграду.
Когда в 1904 году появился на свет Ганс Альберт (их первое законное дитя), доходы у юных супругов оставались весьма невеликими. «Рассуждая об опытах с часами, расположенными в разных частях поезда, – позже вспоминал Эйнштейн о работе, к которой он вскоре приступит, – сам я имел в своей собственности лишь одни-единственные часы!» Но у молодой семьи имелось все необходимое. Эйнштейн хорошо умел работать руками и вместо того, чтобы покупать сыну дорогие игрушки, импровизировал со спичечными коробками и веревочками. Однажды он соорудил действующую модель фуникулера: его сын вспоминал об этом даже несколько десятилетий спустя.
То было счастливое время. Любовь Альберта и Милевы пережила расставание с новорожденной дочерью, профессиональные разочарования, призрак бедности. Казалось, эта любовь способна пережить что угодно.
Глава 3
Annus mirabilis[1]1
Удивительный год (лат.).
[Закрыть]
Именно работая в Бернском патентном бюро, Эйнштейн сделал в 1905 году свои первые великие открытия, совершившие настоящий переворот в науке.
Во многих отношениях патентное бюро, как и опасался Эйнштейн, оказалось учреждением, где царил формализм и вечные ограничения. Оно входило в состав Федеральной гражданской службы Швейцарии, и в нем поддерживалась строгая должностная иерархия. Эйнштейн был всего лишь одним из нескольких десятков более или менее вымуштрованных сотрудников, под неустанным контролем просиживавших за почти неотличимыми высокими столами долгие дни.
Однако эта работа оказалась на удивление интересной и могла принести некоторую пользу молодому человеку, мечтавшему вернуться в академический мир. Так, Эйнштейну полагалось оценивать заявки на новые приборы, особенно в области электроинженерии, и решать, достаточно ли эти разработки оригинальны и заслуживают ли они патентования. Чем-то это походило на то, как если бы сегодня вам предоставили возможность раньше времени взглянуть на новейшие изобретения в сфере высоких технологий, придуманные в Силиконовой долине. Многие принципы, которые он сформулировал при оценке этих заявок, пригодятся ему в дальнейшем.
Еще одним преимуществом новой службы стала относительная свобода. Начальник Альберта герр Галлер отличался немалой педантичностью, однако он терпимо относился к тому, что Эйнштейн в рабочее время занимается собственными делами и пишет научные статьи. Когда Галлер проходил поблизости его стола, Эйнштейн поспешно отодвигал в сторону бумаги или запихивал их в ящик стола (который жизнерадостно окрестил своим «отделением теоретической физики»), чтобы вновь вернуться к конторским делам.
Хотя Эйнштейн знал, что только убедительные научные результаты помогут ему получить место в университете, никто не требовал от него публиковать незавершенные работы, а ведь это неизбежно пришлось бы делать, получи он должность в университете, предполагающую неустанное карабканье вверх по карьерной лестнице. («Этому искушению поверхностностью, – напишет он позже, – могут противиться лишь сильные натуры»). Если перед ним встанет настоящая большая задача, он до поры до времени никому о ней не расскажет – кроме разве что его жены. А между тем Милева очень мучилась и переживала: все ее мечты о собственных исследованиях были разбиты: ей не удалось получить место в каком-либо научном учреждении, и теперь она торчала дома с сыном. Любящие супруги вполне могли бы делиться друг с другом своими неприятностями, только вот из-за несопоставимости причин их страданий трещина в их отношениях медленно, но неуклонно расширялась.
Вечерами Эйнштейн отправлялся на долгие прогулки с Бес-со и другими спутниками, в число которых вошел его новый друг – Морис Соловин, молодой румын, когда-то пожелавший брать у Эйнштейна уроки физики (тот по-прежнему предлагал их всем желающим). (После одного-двух эйнштейновских уроков Соловин решил отказаться от физики и переключился на философию.) Иногда в этих прогулках участвовала и Милева, но чаще компания была исключительно мужской. Они заходили в сельские пивные поесть сыру, попить пива или мокко (одного из любимых напитков Эйнштейна). Они беседовали о здоровой пище, о новомодных занятиях аэробикой, которые повсюду рекламировались. И конечно, о политике, философии, о своих мечтах и планах на будущее.
Если летом эти разговоры затягивались до очень уж позднего часа, они взбирались на гору близ Берна, куда Эйнштейн иногда отправлялся и днем вместе с семьей Бессо. «Зрелище подмигивающих звезд, – писал Соловин, – производило на нас сильное впечатление». Они ждали, когда можно будет «подивиться, как солнце медленно поднимается к горизонту и наконец появляется во всем своем блеске, окутывая Альпы таинственным розовым сиянием».
В такие минуты казалось вполне естественным поговорить о физике и об основах устройства мира. Тем более что в той области, которой так интересовался Эйнштейн, со времени его выпуска из Политехникума наблюдалось неустанное движение. Маркони сумел передать радиоволны не только через Ла-Манш, но и через Атлантику. Мария Кюри в Париже открыла колоссальный и, по-видимому, неисчерпаемый источник энергии в породах, содержащих радий. Макс Планк в Германии, похоже, показал, что энергия истекает из постепенно нагреваемых объектов не плавно, а порциями: позже это явление назовут квантовыми скачками. Ученые пытались разгадать тайны термодинамики: как Вселенной удается перемещать теплоту столь точно и тонко? Да и вообще все сущее странным образом укладывается в эти два, казалось бы, идеально уравновешивающих друг друга царства – царство энергии и царство материи: ученые все чаще считали их единым царством массы. (Ученые прошлого частенько использовали термины, чьи значения несколько отличаются от нынешних. Для Лавуазье и других исследователей, живших в XVIII веке, было вполне естественно размышлять, используя понятие «материя», а сегодня мы стали бы рассуждать о тех же вопросах, учитывая количество атомов в объекте. Постепенно научный подход менялся, и к началу XX столетия ученые стали рассматривать соответствующие явления с точки зрения закона сохранения массы. В чем разница? Понятие «массы» легче всего представить себе как меру сопротивления объекта ускорению. Карандашу легко придать ускорение, а огромной горе – не очень-то, так что у горы масса больше. Штука в том, что эти два подхода тесно связаны друг с другом: горам труднее придать ускорение не в последнюю очередь именно из-за того, что в них больше атомов.) Эйнштейн, Соловин и их ближайшие друзья полагали: за всем этим должна стоять какая-то единая сущность, несколько глубинных принципов, которые объяснили бы, почему Вселенная устроена именно так и почему ее устройство позволяет всему на свете существовать и функционировать.
Но что это за единая сущность?
После долгих прогулок и горных размышлений они наскоро пили кофе в ближайшем кафе, а потом вместе возвращались в город, тоже пешком. Затем каждый начинал свой рабочий день на своем рабочем месте. «Нас так и переполняло вдохновенное настроение», – вспоминал Соловин. Им незачем было спать.
Только вот самоуверенность Эйнштейна была напускной. Он сознавал, что его собственный отец так никогда и не достиг того, на что надеялся. Новые и новые деловые предприятия не принесли желанного успеха, и родители Эйнштейна вечно зависели от милости более обеспеченной родни. К тому же он видел, как его ближайшие друзья отказываются от своих амбициозных мечтаний ради надежды на хоть какую-то стабильность. Милева перестала заниматься собственными исследованиями из-за рождения Ли-зерл (и последующего отказа от девочки). Точно так же поступил и Бессо: сначала он вернулся в семейную фирму, а затем, как мы уже знаем, поступил в патентное бюро, где трудился и Эйнштейн.
Работа в бюро оказалась интересной, но недостаточно творческой. Не о такой они когда-то мечтали. Эйнштейн знал, что в 1660-е годы сэр Исаак Ньютон, этот великий англичанин, еще совсем юным – в 22 года! – не только предложил идею дифференциального и интегрального исчисления, но и сделал первые шаги (на линкольнширской ферме матери, во время легендарного эпизода с падающим яблоком) к своей великой теории, согласно которой единый и единственный закон всемирного тяготения объем-лет все – и глубины самой Земли, и яблоневые сады на ее поверхности, и Луну в небесах, что движется по своей орбите в четверти миллиона миль от нас. Альберту исполнилось столько же. Ну и где его великое открытие?
Неужели Эйнштейну суждено стать одним из тех, кто так и промыкается всю свою жизнь где-то на задворках бытия, лишь восхищаясь чужими достижениями? Младшая сестра Майя считала его гением: по ее мнению, брат мог сделать решительно все. Но сам Эйнштейн взирал на свое будущее более мрачно, и его можно понять. В свободное от основной работы время он пытался собрать воедино свои идеи и подготовить их для публикации. Но вот ему исполнилось 24, а вот уже и 25, между тем ни одна из этих идей не оправдывала его надежд, ни одна из них не казалась достаточно глубокой. Он изучал силы, которые способствуют вспучиванию поверхности жидкости внутри соломинки, однако не пришел ни к каким особенно оригинальным выводам. И если бы он в конце концов не стал «великим Эйнштейном», эти статьи наверняка забылись бы.
А потом, ближе к 26 годам, случилось нечто необычайное. В припадке активности, продолжавшемся всю весну 1905-го, его творческий ступор прекратился, и Эйнштейн приступил к целой серии статей. Их будет пять, и вскоре они произведут настоящий переворот в физике.
* * *
В то время когда Эйнштейну исполнилось 26, его интересовали в науке самые разные вещи. Молодой человек размышлял о пространстве и времени, о свете и частицах – и начал набрасывать статьи, посвященные этим темам. При этом он обнаружил, что снова задается вопросом: нет ли во Вселенной какого-то иного, более глубинного единства, о котором ему не рассказывали преподаватели.
Воспитание Эйнштейна, может, и не дало ему предпринимательскую хватку, однако позволило подойти к этой проблеме со свежей головой. Торстейн Веблен, американский экономист норвежского происхождения, однажды описал, какие огромные преимущества дает появление на свет в семье, находящейся на грани между приверженностью традиционной религии и переходом к обучению детей чисто светским предметам. Такие дети часто вырабатывают в себе скептическое отношение ко всем «истинам в последней инстанции», будь то утверждения религиозных авторитетов, ученых или кого бы то ни было. Натуру Эйнштейна, по сути, сформировал именно такой скептицизм – как и его близких, особенно сестру Майю, чей необычный взгляд на все и вся проявлялся в подчеркнуто ироническом отношении к жизни. (Позже она вспоминала, как однажды в припадке дурного настроения Альберт кинул ей в голову тяжеленный мяч. «Из этого можно сделать вывод: сестре интеллектуала следует обзавестись прочным черепом», – замечала она.)
Скептицизм Майи выражался в остроумных подначках, а ее брата эта семейная черта побуждала усомниться во всем, что он узнавал, – будь то в мюнхенской школе, или в цюрихском Политехникуме, или в ходе самостоятельного чтения научных работ. Скептицизм очень полезен при опровержении научных основ; присущий Эйнштейну мятежный дух тоже пригодился.
По мере того как продвигалась вперед его невероятная работа 1905 года, Эйнштейн начал всерьез задумываться, не связаны ли друг с другом те два царства, которые его викторианские предшественники полагали совершенно отдельными друг от друга. В то время преобладала точка зрения, которую ему в детстве растолковывали отец, дядя и друзья семьи, а в юности вдалбливали в Цюрихе: Вселенная делится на две части. Существует область энергии, которую ученые условились обозначать буквой Е, от слова energy. И существует область материи (или, точнее, массы) – ее символизирует буква М, от слова mass, масса.
До Эйнштейна ученые полагали, что весь мир словно разделен на два громадных города, каждый из которых накрыт непроницаемым куполом. Внутри города Е обитает энергия, там мерцают языки пламени, ревут ветра и т. п. Другой накрытый куполом город расположен вдали от первого и существует отдельно от него. Это страна М, то есть царство массы. И в ней пребывают горы, локомотивы и все прочие тяжелые и весомые штуки, которые имеются в нашем мире.
В Эйнштейне крепла уверенность: есть способ объединить эти два мира. Господь (в которого он, впрочем, не очень-то верил) не имел никаких причин произвольно прекратить создание Вселенной после того, как появились эти две ее части. Если в созданном заключался хоть какой-то смысл, Он непременно пошел бы дальше, сотворив более глубокое единство, и все, что мы наблюдаем в мире, стало бы лишь различными проявлениями этого единства.
Часто говорят, что наука обедняет небеса, лишая их мистических сил и существ, давая нам мир, для объяснения которого достаточно лишь холодного рассудка. Но Эйнштейну довелось изучать историю науки, и он знал, что не одинок в своем ощущении «существования чего-то еще». Ньютон тоже намекал в своих трудах, что прозревает в открытых им законах намерения Бога.
Ньютон захватил и XVII, и XVIII век. Он не видел никаких различий между своими исследованиями в области, которую мы называем физикой, и в областях, которые нам теперь кажутся совершенно отдельными от нее, – в теологии и библеистике. Великий англичанин полагал, что в Библии скрыты истины, заповеданные Богом, и это помогало ему поверить, что и Вселенная содержит скрытые истины, заповеданные Им же.
С течением времени большинство ученых стало рассматривать религиозные гипотезы Ньютона просто как часть детства науки, как своего рода строительные леса, которые, вероятно, поначалу и были нужны, но с возмужанием науки их смело можно убрать, позволив машине научного исследования работать самостоятельно, без всяких религиозных подпорок. Постепенно возобладало представление о Вселенной как о часовом механизме, детали которого сложнейшим образом взаимосвязаны. Может быть, в самом начале этот механизм и завел Бог, но с тех пор часы эти работают совершенно самостоятельно, и всякая потребность в Божественном присутствии (или «гипотезе Бога») все больше ослабевает, уходя в прошлое. К ученым XVIII и особенно XIX столетий, чувствовавшим что-то иное, относились как к наивным мечтателям, в юности впитавшим архаические идеи. Возможно, эти специалисты и внесли немалый вклад в науку, но поскольку их верования явно не могли повлиять на их расчеты, их, эти верования, очевидно, не следовало принимать во внимание.
Эйнштейну такой подход не нравился. Как он однажды заметил, для ученых высочайшего уровня наука стоит выше религии и даже заменяет ее: «[Их] религиозное чувство принимает форму изумления перед гармонией законов природы, отражающей ум, который настолько превосходит наш, что по сравнению с ним все систематическое мышление и все действия человеческого существа – лишь жалкое подобие этого божественного разумения». Тот, кто лишен этого чувства восхищения, «все равно что мертв, и взор его замутнен». Ньютон показал: наша Вселенная организована благодаря законам таким же лаконичным, как и Божественные предписания, изложенные в Библии. Двадцатишестилетний Эйнштейн готов проделать то же, что и Ньютон: он сформулирует краткие и всеобъемлющие закономерности мироздания. Как он их понимает.
Что, если Вселенная все-таки не разделена на две независимые составляющие? Что, если (воспользуемся образом, приведенным выше) два города, под своими куполами, не пребывают в полной изоляции, на отдельных участках гигантского континента, а соединены между собой потайным ходом, через который то, что имеется в одном городе, может проходить, обретая иную форму, в другой город? Как если бы мы представили себе, что энергия – скажем, пламя, гложущее полено, – по своей природе не отличается от дерева, из которого это полено состоит, то есть от материи. И что древесина может, так сказать, взорваться, обратившись в пламя, или же, наоборот, огонь можно сжать, вновь обратив его в древесину. Иными словами, это означает, что энергия способна превратиться в массу, а масса – в энергию. То есть Е может стать M, а M может стать Е.