Текст книги "Заговор бумаг"
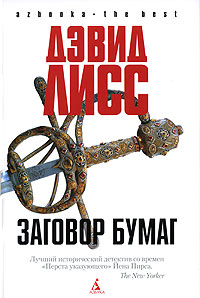
Автор книги: Дэвид Лисс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 33 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Я напряженно вглядывался, стараясь привлечь их внимание, в то время как все вокруг продолжали заниматься своими делами в надежде, что, если игнорировать этих мальчишек, они уйдут. Они приближались ко мне со смехом и громкими криками, хватая с прилавков леденцы, уверенные, что никто не посмеет их остановить. Они были футах в пятнадцати от меня, когда один из мальчишек, самый высокий, пятясь от прилавка, с которого сбросил кучу оловянных подсвечников, врезался в миссис Кантас, нашу соседку и мать моего друга. Эта грузная дама средних лет, нагруженная капустой и морковью, упала на землю, а овощи рассыпались, как игральные кости. Белобрысый мальчишка, который сшиб ее, обернулся, готовый расхохотаться, но ощутил своего рода стыд, увидев подобную картину. Он был хулиганом, но не достиг еще той грани жестокосердия, когда грубость по отношению к женщине не вызывает угрызений совести. Он остановился, и лицо его, измазанное грязью, так что молочно-белая кожа была едва видна, выразило сожаление.
Он был готов извиниться. Он, возможно, даже был готов призвать своих товарищей помочь собрать рассыпавшиеся покупки. Но миссис Кантас, побагровев от гнева, разразилась такими оскорбительными эпитетами, которые мне еще не приходилось слышать из уст дамы, а только от самых грубых уличных девок. Она ругалась на нашем родном португальском наречии, поэтому мальчишка и его товарищи только рты открыли, не зная, как реагировать на выкрики их жертвы, из которых не понимали ни слова. Я мысленно похвалил миссис Кантас за смелость, несмотря на то, что мальчишки ничего не поняли из ее гневной речи. А речь ее была чрезвычайно красочной, и я слушал ее не без удовольствия, пока она не назвала мальчишку «сукиным сыном жалкой одноногой потаскушки, вонючим молокососом, который толкает женщин, потому что его собственное мужское достоинство, не подвергшееся обрезанию, можно принять за сморщенные органы обезьяны женского пола».
Не удержавшись, я расхохотался и увидел, что был не один. Мужчины, да и женщины тоже, стоявшие вокруг, смеялись над гиперболами, которые находила женщина, чтобы выразить свой гнев. Белобрысый мальчишка побагровел от гнева и унижения, оттого что стоит осмеянный толпой евреев, за оскорбление, которое даже не мог понять.
– Я тебе покажу, чертова сука, – закричал он на миссис Кантас дрожащим голосом рассерженного юнца, который изображает из себя взрослого мужчину, – и плевал я на твою цыганскую ругань! – И он в самом деле плюнул ей прямо в лицо.
Мне стыдно, что никто, кроме меня, не стронулся с места, чтобы всыпать этому мальчишке, как он того заслуживал. Люди только оторопело пялились, а миссис Кантас, которая сама навлекла на себя случившееся своими оскорблениями, теперь готова была разразиться слезами. Меня учили выказывать почтение женщинам, и почему-то именно этот урок я принял близко к сердцу, в то время как многие другие презрительно игнорировал. Возможно, это объяснялось тем, что моя собственная матушка умерла, когда я был маленьким ребенком, и я относился по-особому к чужим матерям. Даже сегодня я не могу объяснить причин своего поступка, а могу лишь описать свои действия. Я ударил этого мальчишку. Удар был неловким и неумелым. Моя рука сжалась в кулак, я вскинул его над головой ударил сверху вниз, словно молотком, целясь ему в лицо Мальчишка упал на землю, но тотчас вскочил и бросился наутек, его товарищи следом.
Я ждал, что люди станут меня поздравлять, а миссис Кантас назовет своим спасителем, но встретил лишь смущение и замешательство. Мой поступок воспринимался не как поступок защитника, но как хулигана. Миссис Кантас поспешно встала на ноги, стараясь не смотреть на меня. Люди, которых я знал всю свою жизнь, повернулись ко мне спинами. Владельцы лавочек вернулись за свои прилавки, покупатели поспешили прочь. Все старались забыть увиденное в надежде, что это поможет забыть и другим и что моя выходка не навлечет на нас инквизицию, уже в Англии.
Однако я не забыл своей радости так быстро. Я побежал домой в надежде, что дома кто-нибудь услышит мой рассказ и похвалит, как, мне казалось, я того заслуживаю. Поскольку первым я увидел отца, я рассказал ему первому о том, что случилось, хотя мой рассказ не отличался большим авторским воображением.
– Я был на рынке, – сказал я, запыхавшись, – и там отвратительный, ужасный мальчишка плюнул миссис Кантас в лицо. Поэтому я его побил, – объявил я, вырвался из рук отца и рассек кулаком воздух, показывая, как именно я это сделал. – Я повалил его одним ударом!
Отец ударил меня но лицу.
Он никогда не бил меня, хотя, признаюсь, я был мальчиком, которого следовало бы поколачивать время от времени. Удар был сильным – так сильно меня еще никто не бил – и нанесен тыльной стороной руки, почти что кулаком, нацеленным так, чтобы прийтись по кости массивным кольцом, которое он носил на среднем пальце. Удар был неожиданным, как стремительная атака змеи, и таким сильным, что молния боли пронизала меня от скулы по всему позвоночнику и руки и ноги у меня задрожали.
Думаю, отец испугался. Он ненавидел неприятности и все, что могло привлечь внимание к нашей общине в Дьюкс-Плейс. Время от времени, надеясь сделать из меня настоящего мужчину, как он это понимал, он приглашал меня присоединиться после обеда к его гостям, где за бутылкой вина он всегда говорил о необходимости оставаться незаметными, избегать неприятностей и не сердить никого. Я отлично понимал, что отец хотел сказать этим ударом. Он смотрел на вещи как на взаимосвязанные элементы системы, как на нити в ковре, где один элемент порождает сотню других. Он испугался, что у меня войдет в привычку устраивать драки с мальчиками-христианами. Испугался, что мое безрассудство навлечет волну ненависти на евреев. Испугался, что моя драка послужит толчком для преследований, мучений и разрушения.
Выражение его лица не изменилось. На нем читался испуг и беспокойство, возможно, также разочарование, что я не свалился с ног. Он недоверчиво смотрел на красный след от удара на моем лице, словно я каким-то образом исказил его силу.
– Так чувствует себя человек, которого ударили, – сказал он. – Надеюсь, ты постараешься не испытывать подобного..
Чувство гордости исчезло, но осталось негодование. Помню, я тогда подумал: «Ничего особо страшного».
Думаю, именно этот момент определил мою каръеру на ринге, ведь, как ни странно, я не только не испугался, а испытал своего рода удовольствие. Мне было приятно, что я выдержан удар, что перетерпел боль и не упал с ног, не дрогнул, не расплакался. Мне было приятно осознавать, что я могу выдержать еще один удар, и еще, и еще, пока отец не выбьется из сил. Именно в этот день я впервые подумал об отце как о слабом человеке.
Дядя был другим. Занимаясь контрабандой, он выучился гибкости, которой не мог представить мой отец. Он советовал моему отцу быть более терпимым, всегда считал, что я имею право идти своей дорогой, что отец не должен требовать от меня такого же поведения, как от моего брата. Сейчас, в дядиной конторе, мне пришло в голову, что я должен быть ему благодарен за то понимание, которое он всегда проявлял ко мне, даже если его терпение истощалось.
Казалось, мы сидели молча не менее четверти часа, но на самом деле, полагаю, тишина длилась несколько секунд. Наконец дядя заговорил, смягчив голос, чем избавил меня от неловкости:
– Тебе нужны деньги?
– Нет, дядя, – поспешил я рассеять его заблуждение, будто я пришел с протянутой рукой. – Я, можно сказать, по семейному делу. Ты как-то сказал мне, что, по-твоему, отец был убит. Скажи, почему ты так считаешь?
Теперь он внимательно меня слушал. Он больше не мучился, пытаясь решить, как следует воспринимать возвращение строптивого племянника. Теперь он пристально смотрел на меня, пытаясь понять, почему я пришел с этим вопросом.
Тебе стало что-то известно, Бенджамин?
– В общем-то, нет. – Упустив излишние детали, я рассказал ему о Бальфуре и его подозрениях.
Он покачал головой:
– Родной дядя говорит тебе, что твоего отца убили, и ты не придаешь этому значения. Посторонний человек говорит тебе то же самое, и ты этому веришь? – От волнения его португальский акцент стал заметнее.
– Полно, дядя. Мне нужна информация. Я хочу выяснить, действительно ли мой отец был убит. Разве имеет значение, почему мне это надо?
– Естественно, имеет. Речь же о твоей семье. Мы не виделись со дня похорон Самуэля, а до этого – еще десять лет. – Я вздохнул и хотел возразить, но дядя увидел мое беспокойство и, заволновавшись, исправился. – Но, – сказал он, – все это в прошлом. И если ты хочешь сделать что-нибудь хорошее для семьи, это очень важно. Да, Бенджамин, у меня действительно есть подозрение, что твоего отца убили. Я сказал об этом констеблю и то же самое сказал мировому судье. Я также написал письма в парламент, людям, которых знаю, точнее говоря, людям, которые должны мне денег. Все говорят одно и то же – что человек, убивший твоего отца, негодяй, но что нет закона, по которому можно наказать виновника смерти в результате несчастного случая, даже если доказуемо, что несчастный случай произошел из-за халатности и опьянения. Для них смерть Самуэля лишь несчастный случай. А я —еврей с разыгравшимся воображением, поскольку думаю иначе.
– Почему ты считаешь, что его убили?
– Я не могу утверждать, что его убили, но кое-что мне подозрительно. Самуэль нажил много врагов просто в силу своей профессии. Он покупал и продавал акции, и многие разорялись, в то время как он богател. Излишне говорить, как англичане ненавидят биржевых маклеров. С их помощью они делают деньги, но ненавидят их. То, что он попал под колеса экипажа, простое совпадение? А то, что этот Бальфур, с которым у него были деловые связи, умер подобным образом? Все может быть, но я хочу знать точно.
Я помедлил, прежде чем задать следующий вопрос.
– А что говорит Жозе?
– Если хочешь знать, что об этом думает твой брат, – сказал с раздражением дядя, – почему бы тебе не написать ему? Знаешь, он прибыл в Лондон вскоре после похорон Самуэля. Он все бросил и отправился в Англию, как только узнал. Ты знал об этом и ничего не сделал, чтобы встретиться с ним.
– Дядя… – начал я.
Я хотел сказать, что Жозе тоже ничего не сделал, чтобы встретиться со мной, но это было бы как-то по-детски и лицемерно, ведь я сознательно избегал встречи с ним, когда он был в Лондоне, и застать меня дома он бы не смог, даже если бы захотел.
– Почему ты прячешься от своей семьи, Бенджамин? То, что произошло между тобой и Самузлем, давно в прошлом. Он бы тебя простил, если бы ты дал ему такую возможность.
Я не верил в это, но ничего не сказал.
– Теперь этот разрыв совершенно ничем не обоснован. Твой отец мертв, и ты с ним никогда уже не примиришься, но примириться со своей семьей, с родными еще не поздно.
Я думал об этом какое-то время, – трудно сказать, как долго. Возможно, мой отец изменился с момента нашей последней встречи. Возможно, холодный тиран, каким я его помнил, был в большей степени продуктом моего воображения. Не знаю почему, но слова дяди задели меня за живое. Я почувствовал себя безответственным негодяем, навлекшим неприятности на свою семью. Все эти годы я полагал, что лишь я и страдаю, отказавшись от богатства и влияния. Теперь я начал понимать, как дядя смотрел на мою добровольную ссылку. С его точки зрения, мое поведение было бессмысленно и эгоистично, оно ранило моих родных гораздо больше, чем меня самого.
– Ты теперь стал старше, не так ли? Возможно, ты сожалеешь о каких-то вещах, которые совершил в юности. Теперь ты уважаемый человек. Ты даже немного напоминаешь мне моего сына, Аарона.
Я ничего не сказал. Мне не хотелось ни обижать дядю, ни говорить плохо о покойнике, но я надеялся, что никоим образом не был похож на своего двоюродного брата.
– Я должен узнать имя извозчика, который сбил отца, – сказал я, возвращаясь к теме разговора. – И еще, кто именно был отцовским врагом. Может быть, ему кто-то угрожал. Не могли бы вы разузнать это для меня?
– Хорошо, Бенджамин. Я сделаю, что смогу.
– Может быть, что-то еще кажется вам важным? Что-нибудь, что связывало бы смерть моего отца и смерть Бальфура? Младший Бальфур подозревает некую связь со сделками на Биржевой улице, а финансовые дела выше моего понимания.
Дядя Мигель посмотрел по сторонам:
– Здесь не место обсуждать семейные проблемы. Здесь не место говорить об усопших, и здесь не место заниматься делами частного характера. Приходи ко мне домой на ужин сегодня вечером. В половине шестого. Поужинаешь в кругу семьи, а после мы поговорим.
–дядя, не думаю, что это лучший выход. Он наклонился вперед.
– Это единственный выход, – сказал он. – Если хочешь, чтобы я тебе помог, приходи на ужин.
– Ты позволишь, чтобы убийца твоего брата разгуливал на свободе, если я откажусь?
– Этого не будет, – сказал он. – Я сказал, что тебе нужно сделать, и ты это сделаешь. Упрямиться – терять время. Жду тебя в половине шестого.
Я вышел из пакгауза, ошеломленный происшедшим. Подумать только – я буду ужинать в кругу семьи. Я ожидал вечера с волнением и не без страха.
Глава 8
Я подошел к дому моего дяди на Брод-Корт в приходе Сент-Джеймс, Дьюкс-Плейс, точно к назначенному времени. В 1719 году евреям-иноземцам все еще не позволялось владеть недвижимостью в Лондоне, посему мой дядя снимал отличный дом в самом центре общины, буквально в нескольких шагах от синагоги Бевис-Маркс. Дом был трехэтажный, точно не припомню, о скольки комнатах, но более чем просторный для человека, проживающего с женой, одиноким иждивенцем и несколькими слугами. С другой стороны, дядя часто работал дома, как и мой отец, а также любил приглашать гостей.
В отличие от многих евреев, поселившихся в Дьюкс-Плейс, а затем, когда разбогатели, переехавших в более модные районы в западной части, мой дядя предпочел остаться, чтобы разделить участь с менее обеспеченными представителями своего народа. Это правда, что восточные районы не самые приятные, так как сюда ветром приносит запахи всех городских нечистот. Но, несмотря на вонь и нищету и изолированность Дьюкс-Плейс, мой дядя не помышлял о переезде.
– Я португальский еврей, родившийся в Амстердаме и переселившийся в Лондон, – говорил мне дядя Мигель, когда я был мальчиком. – У меня нет никакого желания переселяться снова.
Подходя к двери, я вдруг сообразил, что был вечер пятницы, начало шабата, и что дядя заманил меня на праздничный ужин. Меня захлестнули воспоминания детства – аромат свежеиспеченного пресного хлеба, гут голосов. Праздничный ужин всегда устраивали в доме моих дядя и тети, поскольку шабат – семейный праздник, а то, где я жил, можно было назвать хозяйством, но не семьей. Каждую пятницу до заката солнца мы шли от нашего дома на Кри-Черч-лейн к дому моего дяди, где мы ели и молились вместе с членами его семьи и приглашенными к ужину друзьями. Дядя всегда разговаривал со мной и братом как со взрослыми. Меня это смущало, но было приятно. Тетя незаметно угощала нас конфетами или кексами до ужина. Эти вечера были среди немногих ритуалов моего детства, о которых я вспоминал с нежностью, и я разгневался на дядю за то, что эти воспоминания вновь ожили.
Даже постучав в дверь, я не оставлял намерения бежать, отказаться от своих планов, расследования, мистера Бальфура и мысли о том, что мой отец был убит. Я почти сказал вслух: «Пусть он останется умершим». Но, несмотря на желание сбежать, я остался.
Дверь мне отворил Исаак, маленький скупой горбун, служивший у дяди со времен моего детства. Ему было не меньше шестидесяти, но он оставался вполне в добром здравии и в хорошем расположении духа, насколько это было возможно.
– Если бы вы пришли несколькими минутами позже, – сказал он вместо приветствия, как будто с нашей последней встречи не минуло десять лет, – мистеру Лиенцо пришлось бы открывать дверь самому.
Исаак всегда был особо религиозным и, как того треобет иудейский закон, отказывался работать по субботам. Поскольку мой дядя тоже отказывался работать по субботам, он не мог запретить слуге соблюдать закон.
Дом пробудил во мне лавину воспоминаний, так как я провел здесь бесчисленные часы, будучи ребенком. Все здесь оставалось так, как я помнил с детства: синий с красным персидский ковер, резная лестница, суровые лица бабушки и дедушки на портретах, висевших на стене. Но еще больше напоминали шабат моего детства запахи – аромат тушеного мяса и отварного изюма, сладкий запах корицы и имбиря.
В гостиной меня встретил дядя. Он сидел один и читал газету. Это было издание, специализировавшееся на вопросах акций и государственных ценных бумаг. Когда я вошел, он отложил ее.
– Бенджамин, – сказал он, поднимаясь с кресла, – я так рад, что ты пришел. Да, прекрасно, что ты пришел.
– Ты заманил меня, дядя, – с укоризной произнес я. – Ты не сказал, что пригласил меня на праздничный ужин шабата.
– Заманил? – улыбнулся он. – Я скрыл от тебя, какой сегодня день недели? Ты приписываешь мне большую хитрость, чем у меня есть. Не спорю, хорошо бы, если бы я был так умен, как ты думаешь.
Я хотел возразить, но тут вошла моя тетушка в сопровождении красивой женщины, на вид лет двадцати двух. Тетя София была привлекательной почтенной женщиной, слегка склонной к полноте и немного странной. Круг ее общения ограничивался исключительно евреями-иммигрантами, и она так и не выучилась как следует говорить по-английски. Подобно дяде, она одевалась так, как одевались в свое время в Голландии. Платье было сшито из тонкого черного сукна, с высоким воротником и длинными рукавами Ее волосы были зачесаны наверх, а на макушке красовался маленький белый чепец. Она напоминала женщину с полотна голландского художника прошлого века.
Она обняла меня и стала задавать вопросы на ломаном английском, на которые я отвечал на таком же ломаном португальском. Я изумился тому, насколько рад ее видеть. У нее была добрая душа, и в ее глазах не было осуждения, а лишь радость, что я пришел в ее дом. Она мало изменилась и была такой, какой я ее помнил.
– А это, – наконец промолвил мой дядя, обнимая красивую женщину, – твоя кузина Мириам.
Слово «кузина» было не совсем точным, поскольку Мириам была вдовой моего покойного двоюродного брата Аарона. Я практически ничего не знал об их браке, так как Аарон женился на ней, вернувшись из своего первого путешествия в Левант, когда я уже ушел из дому. Но Лондон не такой большой город, чтобы слухи не доходили. Мой дядя был ее опекуном, поскольку ее собственные родители умерли, когда ей было пятнадцать, оставив приличное состояние. Она вышла замуж за Аарона в семнадцать и осталась вдовой в девятнадцать. В расцвете лет и, очевидно, при деньгах она оставалась под крышей свекра.
У Мириам был типичный для евреев оливковый цвет лица, черные волосы, которые спадали кудрями, как у модных лондонских дам, и ярко-зеленые глаза. Ее платье цвета морской волны с желтыми нижними юбками тоже говорило о неравнодушии к столичной моде. Я не мог не подумать, что эта красивая женщина, имеющая достаточные собственные средства, находится в доме моего дяди как в ловушке и ждет избавителя. Состоянием я похвастать не мог, но подумал, что ее денег хватило бы на нас двоих, и чуть не рассмеялся при мысли о том, что, будучи евреем, собрался играть роль Лоренцо по отношению к Джессике[1]1
Персонажи драмы У. Шекспира «Венецианский купец» (1600).
[Закрыть].
Я отвесил низкий поклон.
– Кузина, – сказал я, чувствуя себя красноречивым и модным. Я был своенравным кузеном, вернувшимся в лоно семьи, и надеялся, что она сочтет меня интересным.
– Премного о вас наслышана, сударь, – сказала она с улыбкой, открывшей белые здоровые зубы.
– Вы делаете мне честь, сударыня.
– Мы в Англии, а не во Франции, Бенджамин, – сказал мой дядя. – Можно обойтись без формальностей.
У меня не было остроумного ответа, но этого никто не заметил, так как в этот момент постучали в дверь.
– Солнце зашло уже слишком давно, – сказал дядя, – чтобы Исаак открыл дверь.
Они с тетей поспешили встретить гостей.
– Разве кто-то еще должен прийти? – спросил я у Мириам, довольный, что выдалась возможность продолжить беседу.
– Да, – сказала она, нахмурив брови, что я поначалу принял на свой счет. Она обошла диван, на котором я сидел, и грациозно опустилась в мягкое кресло, стоявшее напротив. – Вы знакомы с Натаном Адельманом?
Я понял, что ее недовольство направлено на другого.
Я кивнул:
– Конечно, я слышал о нем. Важная персона.
Адельман приехал в Англию из Гамбурга вслед за двором короля Георга в 1714 году. Он, как и мой отец, былодним из немногих евреев, которые получили официальную лицензию брокера на бирже. Также он был богатым купцом, торговал с Ост– и Вест-Индией и с Левантом, а вдобавок имел закулисные связи с «Компанией южных морей» и даже с самим Уайтхоллом. Ходили слухи, что он был тайным советником принца Уэльского по всем финансовым вопросам. Это все, что о нем я знал, но недовольство, явно читавшееся на лице Мириам, говорило, что ей его общество неприятно.
Когда он вошел в комнату, все стало ясно само по себе. Он широко и радостно улыбнулся Мириам, которая была моложе его лет на тридцать. Адельман же всего пару лет уступал моему дяде. Невысокий, плотный, хорошо одетый мужчина, гладко выбритый, в длинном черном завитом парике – для всего света он выглядел таким же английским джентльменом, как любой другой завсегдатай респектабельной кофейни. Его выдавал только голос. Как и мой дядя, он, по всей видимости, много сил положил, чтобы избавиться от акцента. Однако в его случае легкий немецкий акцент давал некоторое преимущество при дворе короля-немца. Всем было известно, что Георг принципиально отдавал предпочтение родному немецкому языку. Адельман же отдавал предпочтение сыну короля Георга. Из-за своей преданности принцу Адельман попал в щекотливое положение, поскольку в то время принц и король враждовали, и Адельман лишился расположения монарха, которым, как говорили, пользовался в прошлом.
Мириам холодно кивнула, а я поднялся с места и низко поклонился, когда меня ему представили. Не требовалось быть профессиональным раскрывателем секретов, чтобы понять, какие взаимоотношения связывают людей передо мной. Адельман желал жениться на Мириам, Мириам же не имела никакого желания выходить замуж за Адельмана. Я даже не стал гадать, как мой дядя относился к этому ухаживанию.
После нескольких минут светской беседы о погоде и о политической ситуации во Франции снова раздался стук в дверь, известив о приходе последнего гостя. Дядя вышел и вскоре вернулся, дружески подталкивая в спину Ноя Сарменто – клерка, работавшего на его складе. Это был молодой человек с вежливым, но строгим выражением лица. Он был гладко выбрит и носил небольшой аккуратный парик. В одежде его, хоть и довольно высокого качества, преобладали блеклые тона, то же можно было сказать и о покрое его платья.
– Вы наверняка знаете мистера Адельмана. – сказал дядя.
Сарменто поклонился.
– Я имел удовольствие встречаться с ним много раз, – сказал Сарменто радостно, что не соответствовало его облику, – хотя не так много, как того желал бы.
Улыбка шла ему, как адмиральский мундир обезьяне. Хотя, вероятно, это неправильное сравнение, поскольку, уподобляя Сарменто обезьяне, следовало предполагать в нем нечто игривое и озорное. Ничего подобного. Более сурового человека я еще не встречал, и, хотя многие философы отказывают физиогномике в праве называться наукой, перед нами был человек, чей характер читался в острых и неприятных чертах его лица.
Адельман слегка поклонился, когда дядя представил меня таким образом, чтобы не упоминать моего принятого имени:
– Это мой племянник Бенджамин, сын моего покойного брата.
Сарменто лишь кивнул и отвернулся.
– Миссис Лиенцо, – сказал он, поклонившись ей, – для меня большое удовольствие видеть вас снова.
Мириам кивнула и полузакрыла глаза.
– Скажите, будьте любезны, – начал Сарменто, обращаясь к Адельману, – какие новости слышны в «Компании южных морей»? Все кафе взбудоражены, все ждут, что последует дальше.
Адельман вежливо улыбнулся:
– Полно, сэр. Вы знаете, что у меня чисто неофициальные связи с «Компанией южных морей».
– Ба! – Сарменто хлопнул себя по бедру. Было неясно, выражал ли этот жест удовольствие, или он хотел себя приободрить. – Я слышал, Компания и шага не делает, не посоветовавшись с вами.
– Вы оказываете мне слишком много чести, – уверил его Адельман.
Я оценил этот разговор только потому, что мы с Мириам обменялись взглядами, выражающими наше общее отсутствие интереса. Вскоре мы перешли в столовую, и там продолжилась беседа, казавшаяся мне бессвязной и неловкой. Несколько раз дядя заставлял меня произносить застольные молитвы, принятые в шабат, но я делал вид, будто забыл то, что вбивалось мне в голову в детстве. На самом деле мне хотелось участвовать, но я сомневался, что молитвы, которые я помню, – правильные, и мне не хотелось ударить в грязь лицом перед кузиной. Я не сказал этого, но подумал, что молиться перед едой – предрассудок. Тем не менее, когда дядя произносил эти молитвы, у меня сжалось сердце – то ли от воспоминаний, то ли от утраты, и мне доставляло странное удовольствие слышать звук древнееврейской речи. В моем доме, когда я рос, не молились. Отец отослал нас с братом учить законы нашего народа в еврейскую школу, потому что так полагалось мужчинам. И мы посещали синагогу, потому что для отца было проще туда ходить, чем объяснять, почему он туда не ходит..
Я наблюдал за остальными, чтобы увидеть их реакцию на молитвы. Мне показалось странным, что Сарменто, который до этого не скрывал своего восхищения Мириам, теперь не сводил глаз с Адельмана.
– Скажите, мистер Адельман, – начал Сарменто, как только дядя закончил молитвы, – повлияет ли угроза якобитского восстания на курс государственных ценных бумаг?
– Я не смогу сказать вам ничего такого, о чем не говорят в кофейнях, – сказал Адельман. – Общественные потрясения всегда приводят к колебаниям цен на капиталы. Но без такого колебания не было бы рынка, поэтому якобиты, полагаю, оказывают нам небольшую услугу. Но, повторюсь, это общеизвестно.
– Ваше мнение не может иметь ничего общего с общеизвестными вещами, – настаивал Сарменто. – Мне так хотелось бы его услышать.
– Я вам верю, – сказал Адельман со смехом, – но, вероятно, нашим друзьям,, которые не проводят время на Биржевой улице, это не так интересно, как вам. —Он отвесил поклон в сторону Мириам.
– Может быть, мы можем договориться о встрече в другом месте.
– Вы можете встретиться со мной в любое время, – ответил Адельман, хотя тон его был столь холоден, что мог бы отпугнуть кого угодно, кроме самых закоренелых подхалимов. – Меня можно часто застать кофейне «У Джонатана», вы также можете послать мне туда депешу, и будьте уверены – я непременно получу ее.
– Если мы не можем говорить о деньгах, давайте побеседуем о столичных развлечениях! – громко воскликнул Сарменто, надеясь, что выражает воодушевление. – Что скажете, миссис Лиенцо?
– Думаю, что мой кузен может больше сказать на эту тему, – сказала Мириам тихим голосом, стараясь не смотреть на меня. – Мне сказали, он знает толк в развлечениях Лондона.
Я не знал, как реагировать на ее замечание, но не мог усмотреть в ее словах никакого подвоха. Было лишь очевидно, что Сарменто задал ей вопрос, а она переадресовала его мне. Я решил воспользоваться предоставленной возможностью, уверенный, что смогу произвести на нее впечатление. Я рассказал, что слышал о новом театральном сезоне, и высказал свое мнение о нескольких исполнителях и пьесах прошлого сезона. Сарменто хватался за каждую высказанную мной мысль, используя ее для собственных рассуждений об актерской игре, пьесах и тому подобном. Этот задавала никогда бы не осмелился оскорбить меня на публике, но здесь, за столом моего дяди, он не скрывал своего ко мне презрения. Из уважения к дяде я не мог позволить себе поставить этого молокососа на место. Я делал вид, что не понимаю его взглядов и жестов, и в душе надеялся, что у меня будет возможность встретиться с ним в другом месте.
У дяди была традиция, что в отсутствие слуг-ужин подают живущие в доме дамы. Традиция не изменилась, и к моему восторгу, я заметил, что Мириам тщательно избегает как Сарменто, так и Адельмана, предоставив их заботам тетушки Софии, и смотрит исключительно на меня, подавая миски с супом и тарелки с бараниной, приправленной кардамоном. Я с нетерпением ждал каждого нового блюда, чтобы насладиться ее близостью: шелестом ее юбок, лимонным ароматом ее духов и соблазнительной грудью, едва видной в вырезе платья. Когда она приблизилась ко мне в третий, и последний, раз, она перехватила мой взгляд, упивающийся этим великолепием, и встретилась со мной глазами. Я напрягся, поскольку знал только две реакции на мой взгляд у лондонских дам и не мог сказать, осудят ли меня строго или сладострастно оскалятся. В обоих случаях я был бы разочарован. Не могу описать, насколько я был рад и смущен, когда Мириам не сделала ни того, ни другого, а только улыбнулась весело, словно давая понять, что радость, которую я испытываю при ее приближении, будет нашим общим секретом.
После ужина, как того требуют английские традиции, мы, четверо джентльменов, удалились в отдельную комнату с бутылкой вина. Адельман несколько раз предпринял попытку обсудить с моим дядей деловые вопросы, но тот ясно дал понять, что не будет говорить на подобные темы во время шабата. Сарменто вновь повернул разговор па слухи о новом восстании якобитов. Тема последователей свергнутого короля интересовала дядю, и ему было что сказать об этом. Я внимательно слушал, но, к своему стыду, не был в курсе политических событий, и многие вещи в беседе были мне непонятны.
Адельман, чьи интересы были непосредственно связаны с правящей династией, считал якобитов безмозглым сбродом, а претендента па трон – папистским тираном. Дядя молча кивал в знак согласия, поскольу Адельман выражал мнение вигов. Сарменто же цеплялся за каждое слово Адельмана, превознося его идеи, словно тот был философом, и слова – словно тот был поэтом.
– А вы что скажете, сударь? – обратился ко мне Сарменто. – У вас есть мнение об этих якобитах?
– Я так далек от политики, – сказал я, смотря ему прямо в глаза.
Я был уверен, он задал этот вопрос не чтобы узнать о моих политических взглядах, а посмотреть, как я отреагирую на его дерзость.
– Но вы ведь не станете умалять достоинство короля? – не отставал Сарменто.
Я не понимал, куда он клонит, но в эпоху, когда короне угрожал мятеж, такой разговор не был пустой болтовней. Публичное признание в симпатиях к якобитам могло погубить репутацию и, возможно, даже привести к аресту.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!








































