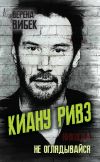Текст книги "Нуреев: его жизнь"
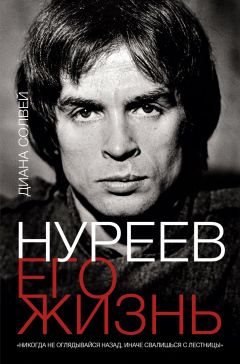
Автор книги: Диана Солвей
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 7 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 13 страниц]
Поскольку его техника требовала незамедлительной коррекции, Рудольфа определили в шестой класс для пятнадцатилетних мальчиков, который вел Валентин Шелков. В скором времени башкирское Министерство культуры одобрило ему стипендию и перечислило в Ленинград деньги на проживание и питание. Все остальное теперь зависело только от него самого.
Точно так же, как уфимские ребятишки в детском саду подняли на смех мальчика в девичьем пальтишке, так и сокурсники в балетной школе поначалу встретили Рудольфа недоверчиво. Они то и дело «косились на это дикое с виду существо» – странного юношу из Уфы, глаза которого «сверкали дерзко» и вызывающе. Все в нем выдавало чужака: и спутанные, свисавшие на глаза волосы, и поношенная одежда, и короткий веревочный поясок, обвивавший его необыкновенно тонкую талию, и грубые манеры, и, конечно же, его возраст! «Он явился в жутких солдатских сапогах до колен и пальто наподобие армейского, – вспоминала его одноклассница Мения Мартинес. – А в руке держал только маленький чемоданчик». Показателен и рассказ Елены Чернышевой: едва она оторвала взгляд от своего учебника, раскрытого на описании Чингисхана, как в класс вошел Рудольф. «Вот он – сам Чингисхан во плоти», – подумала она.
Рудольфа, как ученика из Башкирской автономной республики, поселили в общежитии в комнату для студентов из числа «меньшинств», приехавших на учебу в Ленинград из азиатских республик и стран-сателлитов. Из шестисот учеников училища пятьсот были ленинградцами; большинство из них жили дома. Остальные проживали в общежитии: самые старшие – в так называемых холостяцких, более просторных комнатах на первом этаже. Спальня Рудольфа, располагавшаяся на третьем этаже, представляла собой длинную и узкую комнату с выстроенными в ряд, как в бараке, кроватями и широкими арочными окнами, выходившими на улицу Росси. Разобщенный со своими сверстниками, Рудольф оказался в окружении девятнадцати мальчиков девяти – пятнадцати лет. Ни один из них не обладал его яростной целеустремленностью. И Рудольф «не проявлял заинтересованности в дружбе с ними», – вспоминал Серджиу Стефанши, ученик из Румынии, бывший на три года младше уфимца и занимавший соседнюю с ним кровать. В отсутствие замков и ключей Рудольф прятал свои немногочисленные ценности – нотные партитуры и репродукции картин – под матрасом. Долгий опыт коммунальной жизни научил его «метить свою территорию». Вернувшись в комнату, Рудольф сразу же заглядывал под матрас – убедиться в том, что все вещи лежат на месте. А перед тем как уйти из комнаты инструктировал Серджиу: «Присматривай за ними, пока ты тут. Если кто-нибудь тронет мои ноты, я его убью».
И в этом никто не сомневался. Проходя однажды вечером мимо комнаты Рудольфа, Елена Чернышева заметила группу мальчиков, сбившихся в кучку у закрытой двери, как мыши. Приблизившись к ним, Елена услышала музыку, доносившуюся из комнаты. Поддавшись любопытству, она открыла дверь и едва успела увернуться от полетевшего в нее сапога. Рудольф сидел на своей кровати и слушал на проигрывателе пластинку Баха, запретив всем входить, пока она не кончится.
Возможно, Рудольф и верховодил в комнате общежития, но своевольничать в классе ему не позволяли. В стенах училища он снова столкнулся с режимом – таким же авторитарным и патриархальным, как и тот, что изводил его в отцовском доме. Здесь, как и в семействе Нуреевых, господствовал армейский порядок: ученики вели строго регламентированный образ жизни, основанный на уважении к традициям, дисциплине и иерархии[49]49
До революции и учащиеся Императорского петербургского Театрального училища, и армейские и морские курсанты имели одинаковый ранг и носили одинаковую форму. Единственным различием были нашивки на воротничках: скрещенные сабли означали армию, якоря – флот, а лира Аполлона в обрамлении пальмовых листьев с короной наверху – балет. Линкольн Керстайн, создавший с выпускником Императорского театрального училища Джорджем Баланчиным Школу американского балета, называл ее «балетным Вест-Пойнтом». «Балетная школа, – заметил он однажды, – это самое недемократичное учреждение, и о ней надо знать три вещи. Во-первых, там нет справедливости. Во-вторых, там никогда нельзя жаловаться. И, в-третьих, там следует помалкивать».
[Закрыть].
К приходу Рудольфа в училище времена, когда его учащимся выдавали по три форменных костюма (черный на каждый день, темно-синий на праздники и серый льняной на лето) и по паре шинелей с серебряными пуговицами, давно канули в Лету. Но, даже лишившись роскоши и царских портретов, училище на улице Росси претерпело со сменой власти разве что внешние изменения: портреты Романовых заменили образы Ленина и Сталина, а романовскую «униформу» – грубые серые рубашки и колючие серые брюки (по одному комплекту на каждого ученика). А в остальном прежний строгий распорядок отвечал целям партии: «Нам всем подсознательно внушали, что великий талант в академии – а значит, и в стране – ничего не стоит, если не подчиняется установленному порядку, – писал в своих мемуарах о том времени танцовщик Валерий Панов. – Распорядок, то есть безоговорочное подчинение дисциплине, расценивался как наивысшее благо в нашей работе, тогда как артистическая индивидуальность, бросавшая вызов “нормам” поведения, решительно преследовалась. Чем более одаренным был ученик, тем быстрее руководство старалось его исключить за грубость, ребяческие шалости или неуспеваемость по общим предметам. Но в первую очередь – за нарушение правил».
Рудольф оказался не из тех, кто способен был легко вписаться в атмосферу училища. И хотя заведенные здесь правила следовало чтить как священные заповеди, он в скором времени стал их нарушать одно за другим, начиная с первого пункта дневного распорядка – завтрака. Занятия начинались в восемь утра, но учащимся приходилось вставать раньше, чтобы отстоять очередь в туалет, умыться и добежать до столовой за своей кашей и чаем. В их комнате имелся всего один кран с холодной водой, и «все, ожидавшие своей очереди, кричали тому, кто умывался, чтобы он поторапливался, а тому, кто сидел в туалете, чтобы он не портил воздух». Рудольф терпеть не мог умываться и есть всем скопом; после побудки он натягивал себе на голову одеяло и ждал, пока комната опустеет. Теперь ему не требовалось бегать между домом, театром и школой рабочей молодежи, как в Уфе. Достаточно было спуститься с одного этажа на другой и пройти из срединного здания чуть выше по улице Росси, потому что спальни и столовая общежития, классы и мастерские размещались в соседних корпусах. Его одиннадцатичасовой день был заполнен самыми разнообразными уроками, ориентированными на сценическую карьеру. Утро начиналось с лекций по истории балета, музыки или искусства, затем следовали два часа классического танца – главного предмета в расписании. После обеда наступало время общеобразовательных дисциплин и класса характерного танца. Несколько раз в неделю к и без того перегруженному расписанию добавлялись занятия по сценическому гриму, фортепьяно и уроки французского. История Советского Союза, математика и естественные науки навевали на Рудольфа скуку. А вот литература, история искусства и балета вызывали у него живой интерес. Историю балета вел Николай Ивановский, элегантный худрук училища, носивший гетры и туфли из настоящей кожи и приветствовавший учеников легким поклоном. Бывший одноклассник Джорджа Баланчина и исключительно культурный человек, он на собственном примере учил подопечных изысканным манерам. Он словно являлся хранителем и проводником петербургских традиций. «Он описывал балетные стили и манеры танцовщиков, и казалось, будто в классе оживают Нижинский и Павлова, – рассказывал Серджиу Стефанши. – Мы его обожали!»
Другим любимцем был Игорь Бельский, ведущий характерный танцовщик Кировского театра. Экспрессивный и одаренный богатым воображением, он буквально завораживал учеников, демонстрируя им разные движения под попурри из известных балетов. Характерный танец был одной из отличительных особенностей русской балетной школы; его богатый репертуар, подпитанный народными танцевальными традициями, Рудольф изучил еще ребенком.
А еще ему, конечно же, сразу полюбился преподаватель истории искусств – сотрудник Эрмитажа, предпочитавший иллюстрировать свои лекции не картинками в учебниках, а подлинниками в картинных галереях. Зачарованный благодетельными Мадоннами итальянских мастеров и густыми драматичными мазками Винсента Ван Гога, Рудольф начал вскоре наведываться в Эрмитаж самостоятельно – по воскресеньям, в свой единственный свободный день.
Попал он и под обаяние Марии-Мариэтты Франгопуло – ветерана Кировского театра с тридцатилетним стажем и бывшей одноклассницы Баланчина. С 1940 года она преподавала в ЛХУ историю балета, а с 1957 года заведовала небольшим музеем училища, в создании которого принимала активное участие. В его собрании хранились программки, костюмы, альбомы со старыми фотографиями, которые пополнили представления Рудольфа об истории балета. Поскольку в программе ЛХУ истории западного балета отводилось совсем мало времени (из-за его «безжизненных форм и бессодержательных модернистских постановок», как регулярно напоминали учащимся), Франгопуло с радостью делилась с учениками всей обрывочной информацией, какую ей удавалось добыть.
Среди всех преподавателей, с которыми Рудольф познакомился на первой неделе учебы в училище, неожиданно разочаровал его балетный педагог.
Счастливая цепочка доброжелательных и участливых наставников, первыми звеньями которой стали Удальцова и Войтович, резко оборвалась на Валентине Ивановиче Шелкове – коренастом директоре училища с поджатыми губами, с которым Рудольф встретился в свой первый день в Ленинграде. Казалось, Шелков задался целью отослать Рудольфа с первым же поездом обратно в Уфу. Он придирался к новому ученику постоянно и без видимых причин. «Не будет преувеличением сказать, что Шелков просто не выносил Руди, – вспоминал его одноклассник Александр Минц. – У Руди был такой сложный, дерзкий характер, что он просто не вписывался в рамки политики, проводимой в училище Шелковым».
Но, поскольку Костровицкая разглядела в Рудольфе потенциал великого танцовщика, Шелков все-таки определил его в свой шестой класс – на тот случай, если она не ошиблась. Однако видел он перед собой лишь необученного парнишку, который не имел никакого понятия о настоящем балете и с которым у него никак не получалось найти общий язык. В классе Шелков ставил Рудольфа позади всех, обделял его вниманием и частенько напоминал о благодарности за свое великодушие. «Не забудь, что ты учишься здесь только благодаря нашему добросердечию и по милости руководства училища», – повторял он с глумливой ухмылкой, которую Оливер Твист узнал бы без труда. Иногда Шелков высмеивал Рудольфа в присутствии других учеников, называя «провинциальным ничтожеством». И порой ему даже удавалось довести Рудольфа до слез. Но если он надеялся сломать уфимца, то худшую стратегию выбрать было трудно. Подобное отношение вызывало в Рудольфе внутренний протест. По свидетельству одного из учеников ЛХУ, «Шелков не отличался мягким нравом и снисходительностью. Его уроки больше строились на муштре и натаскивании, чем на объяснении и стимулировании сознательной работы воспитанника. А Рудольф был нетерпим к такому наставничеству, задевавшему его творческие побуждения». Юноша быстро понял, что Шелков мало чему мог его научить. «Он – солдафон, привыкший командовать, а не балетный педагог», – поделился он своим проницательным выводом со Стефанши.
Неприязнь к директору училища испытывал не только Рудольф. «Товарища Шелкова» побаивалось большинство воспитанников. Особенно Стефанши, которого несколько раз вызывали в директорский кабинет за слишком вольную стрижку ежиком и для осмотра воротничка. «Мы стояли навытяжку, как солдаты, пока он проверял белизну наших воротничков». Доставалось и Марине Чередниченко, будущей балерине Кировского, – Шелков обвинял ее в том, что она завивала волосы, в действительности вившиеся от природы. Он патрулировал здание в поисках сора. Мало кому удавалось пройти мимо директора, не получив от него приказания подобрать в коридоре какой-нибудь клочок бумаги. Зато по вечерам в своих комнатах воспитанники училища отыгрывались, вовсю передразнивая директора и покатываясь со смеху.
Рудольф проделал такой трудный путь в Ленинград вовсе не для того, чтобы страдать от ежедневных придирок товарища Шелкова. И открытая стычка между аппаратчиком и вольнодумцем-индивидуалистом была лишь вопросом времени. Миг расплаты настал через две недели после начала занятий. Однажды вечером Рудольф сбежал в Кировский театр, нарушив строжайший запрет ученикам отлучаться из общежития без разрешения. В Уфе он уже привык почти каждый вечер бывать на балетных спектаклях. И менять свои привычки – тем более в Ленинграде, где каждый вечер его манил Кировский, – не собирался. Вернувшись в общежитие, Рудольф обнаружил, что его кровать убрали, а с тумбочки исчезли талоны на питание. Ночь он провел на полу в оконной нише. А наутро, не позавтракав, отправился на урок литературы. Преподаватель вызвал его и задал какой-то вопрос. Рудольф встал и, вероятно, из-за нервного истощения, тут же упал в обморок. Придя в себя, он объяснил педагогу в присутствии всего класса, что накануне вечером его наказали за то, что он сходил на балет. Рудольф не только не выразил никакого раскаяния, но и пошутил над суровостью наказания: «Видимо, мы все еще живем в эпоху Александра I». А потом заявил, что пойдет к друзьям – поесть и отоспаться. Класс был потрясен.
Об этом вопиющем акте непослушания, естественно, доложили директору. И в тот же день Рудольф оказался в его кабинете. Шелков был в ярости. Как он посмел нарушать правила?! – раскричался директор. И потребовал сообщить ему имена ленинградских друзей. Рудольф сообщил координаты дочери Удальцовой, Марины. Но Шелков настолько разъярился, что выхватил у него из рук записную книжку. Рудольф никогда еще не чувствовал себя таким оскорбленным. Ему только предстояло налаживать свою жизнь в Ленинграде, а Шелков уже совал нос в его дела.
Опасаясь, как бы за дальнейшими стычками с Шелковым не последовало его исключение из училища (а затем и призыв в армию), Рудольф решился на беспрецедентный шаг. Он попросил худрука Ивановского перевести его из шестого класса в восьмой, который вел Александр Пушкин. Рудольфу была известна репутация Пушкина как преподавателя крайне требовательного. Но, видимо, он решил, что терять ему нечего[50]50
Насретжинова – первая танцовщица, которую Нуреев увидел в Уфе, – училась вместе с Пушкиным в Ленинградском училище в 1930-х годах. Но неизвестно, знал ли об этом Рудольф, когда приехал в Ленинград.
[Закрыть]. С таким педагогом, как Шелков, Кировский ему не светил, а в семнадцать лет Рудольф больше не мог тратить время впустую. Он не стал жаловаться на некомпетентность Шелкова, но подчеркнул свое желание закончить обучение. И Ивановский согласился замолвить за него слово.
Шелков не собирался портить себе жизнь из-за неудачного старта татарина. Он лишь обрадовался возможности от него избавиться. И не преминул напоследок предупредить Рудольфа о Пушкине: «Я пошлю тебя к преподавателю, который даже не удосужится посмотреть в твою сторону… и не станет понапрасну тратить на тебя время». Как директор, Шелков мог выгнать Рудольфа из училища, но, памятуя о том, что Костровицкая разглядела в нем талант, он надеялся, что его мнение поддержит и другой педагог. А Пушкину он отрекомендовал Рудольфа так: «Посылаю вам упрямого болвана, бесхарактерного, испорченного мальчишку, не имеющего никакого представления о балете… Предоставляю вам судить, но если он не исправится, нам ничего другого не останется, как только вышвырнуть его из училища».
Глава 7
Пушкин
Окажись его новым педагогом кто-нибудь другой, а не Александр Иванович Пушкин, – и Нуреев, скорее всего, танцевал бы всю жизнь в труппе Уфимского театра. Но в лице сдержанного и терпеливого Пушкина Рудольф обрел действительно идеального учителя, к которому быстро проникся восхищением, уважением и безграничной любовью.
Пушкин был на тот момент лучшим в СССР преподавателем мужского танца, хранителем тех традиций утонченности и классической чистоты балета, на которых зиждился стиль Кировского театра. Сам выпускник ЛХУ (тогда Петроградского театрального училища) и бывший солист Кировского, Пушкин соединял в себе две эпохи: императорской и советской России. Родившись в 1907 году, он до поступления в училище обучался у Николая Легата – последователя Петипа, балетмейстера Императорского Мариинского театра и педагога Императорского Петербургского театрального училища, среди учеников которого были Нижинский, Карсавина, а, позднее, и Марго Фонтейн. Именно Легат разглядел на вступительном экзамене талант Нижинского и, несмотря на возражения своих коллег, принял его в училище. («Этого юношу можно выковать в прекрасного танцовщика, – сказал он, – и принял его без каких-либо дальнейших объяснений»[51]51
Легата ценили и любили ученики. Однако его отношения с Нижинским стали натянутыми после того, как тот начал флиртовать с Антониной Чумаковой – танцовщицей, в которую был влюблен сам Легат. Легат добился руки Антонины; она стала его женой. Их внучка Татьяна Легат – воспитанница ЛХУ и солистка Кировского театра – была коллегой Нуреева и вышла замуж за его одногруппника, Юрия Соловьева.
[Закрыть].) Как и Легат до него, Александр Пушкин стал звеном в длинной, непрерывной цепи балетных педагогов, перенимавших друг у друга, «подобно бегунам в эстафете, самую совершенную технику, самый чистый танцевальный стиль» и скреплявших прошлое с будущим. Пушкин пришел в Кировский театр в 1925 году, а свою педагогическую деятельность начал в 1932-м, еще выступая на сцене. Специальный класс, который вел этот замечательный педагог, привлекал большинство ведущих мужчин-танцовщиков. Даже не наделенный красивой внешностью романтического героя, Пушкин был блистательным солистом и вызывал восхищение своим изяществом; а наибольшую известность ему, как танцовщику, принесла партия Голубой птицы в балете «Спящая красавица». Со сцены Пушкин ушел в 1953 году и с тех пор щедро передавал свой опыт начинающим танцовщикам.
48-летний педагог стал для дерзновенного юноши настоящим образцом для подражания, тем добрым и чутким «родителем», о котором Рудольф всегда мечтал, который понимал все его устремления и никогда не пытался их изменить. Они как нельзя лучше подходили друг другу по складу характера. Если отец и Валентин Шелков старались переделать Рудольфа на свой лад, в соответствии с собственными представлениями о жизни и танце, то Пушкин поощрял его искать свою индивидуальную манеру исполнения. «Он обладал завидным терпением и сдержанностью в общении с воспитанниками, – вспоминал еще один его ученик, Михаил Барышников. – Он не заставлял, а учил тебя танцевать. Он учил тебя воспринимать танец как способ самовыражения, управлять своими мыслями и телом». Пушкин не только обеспечивал техническую выучку своих питомцев, но и требовал от них все делать осмысленно, постигать основы движения, внутреннюю структуру любой комбинации. И никогда не посягал на их индивидуальность. А, напротив, умел окрылить каждого, предоставляя своим воспитанникам свободу творческого развития, проявления своей уникальности и музыкальности. Этот подход Пушкин унаследовал от своего собственного выдающегося педагога Владимира Пономарева[52]52
Владимир Иванович Пономарев был принят в Мариинский театр по окончании Императорского Петербургского театрального училища в 1910 году. Прославившись своим строгим изяществом и благородной манерой танца, он с 1913 году преподавал в Императорском театральном училище, а затем ЛХУ. Один из самых почитаемых педагогов мужского танца, Пономарев подготовил множество выдающихся артистов балета. Среди его воспитанников – Чабукиани, Сергеев, Захаров, Якобсон, Лавровский и Пушкин. После его кончины именно Пушкин взял его класс и продолжил развивать его методы.
[Закрыть].
А для склонного к скорым разочарованиям Рудольфа не менее важным было и то, что Пушкин всегда оставался «спокойным и уравновешенным. С ним почти невозможно было поссориться», – подтверждала бывшая балерина Кировского театра Алла Сизова, постоянная партнерша Нуреева в его последний год учебы в ЛХУ.
Мускулистого сложения, со строгим лицом, с крупным носом и залысинами, Пушкин выглядел солидным и серьезным. Держался с необыкновенным достоинством. В накрахмаленной белой рубашке с темным галстуком и в темных брюках, он излучал спокойную властность; но его требовательность педагога уравновешивал добрый нрав. А метод обучения был настолько простым, что, по словам Барышникова, «люди, впервые оказавшиеся в его классе, часто удивлялись: что здесь такого особенного? Все как будто бы происходило само собой». Хотя Татьяна Легат, внучка Николая Легата и коллега Нуреева по Кировскому театру, как-то призналась, что занятия в классе у Пушкина было «очень трудно выдерживать. Казалось, урок близился к концу, потому что твои ноги уже гудели от усталости, и тут выяснялось, что это была только разминка». В отличие от Шелкова, Пушкин предполагал в своих учениках врожденную интеллигентность. Он сосредоточивал внимание на их сильных сторонах, говорил мало и никогда не повышал голос. «Он очень хорошо знал то, чего ты объяснить не можешь. В этом была его сила, – рассказывал Барышников. – Выполняя его задание снова и снова, ты начинал понимать масштабы задачи, амплитуду движений, темп и все остальное».
Пушкин сразу же понравился Рудольфу. А вот педагог, предупрежденный на его счет, первые недели даже не смотрел в его сторону. Мягкий и доверчивый Пушкин попросту полагал, что ему достался танцовщик сомнительного происхождения, а поскольку Рудольф еще не сравнялся с другими воспитанниками восьмого класса, доказательств обратного он не видел. Рудольф догадывался, как мог его отрекомендовать Шелков. И понимал, как нелегко будет заслужить одобрение Пушкина. Но он также сознавал, что одобрение такого выдающегося педагога – залог его карьерного роста. Впервые в жизни убежденный в том, что он оказался в самых надежных и лучших руках, Рудольф без колебаний доверился опыту Пушкина.
Все бы ничего, да только его новые одноклассники вовсе не горели желанием потесниться ради странного, диковатого и «неотшлифованного» провинциала. Из-за сурового отсева, который продолжался непрерывно, с момента поступления и до итоговых экзаменов, конкуренция в училище была очень сильной. Ежегодно только двое – трое выпускников получали работу в Кировском или в Большом театре; некоторые попадали в Малый или в Музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко. Остальные рассеивались по стране, по третьесортным труппам. Доучившись до восьмого класса у Пушкина, его воспитанники обладали техникой, близкой к профессиональной, и снисходительно косились на попытки Рудольфа соперничать с ними. Они искренне недоумевали, почему Пушкин взял его к себе из шестого класса. Однажды они подвели Рудольфа после урока к зеркалу и высказали все, что думали: «Посмотри на себя, Нуреев! Ты никогда не сможешь танцевать – это невозможно. Ты просто не создан для этого. У тебя ничего нет – ни школы, ни техники. Откуда только у тебя берется наглость заниматься с нами в восьмом классе?»
На самом деле их больше всего раздражал подход новичка к тренингу. Рудольф отчаянно пытался догнать сверстников. Он рьяно отрабатывал все позиции и свою осанку, рисунок, фразировку и динамику каждого танцевального движения, выразительность сценических жестов – то, о чем никто особо не беспокоился. Он часами простаивал перед зеркалом, оттачивая подачу руки балерине или переходы от одного движения к другому, из позиции в позицию. По воспоминаниям его ровесника Никиты Долгушина, Рудольфа «не столько интересовал эмоциональный аспект исполнения, сколько совершенствование ног и тела, что, в общем-то, не типично для советских танцовщиков. В его увлеченности внешним совершенством проглядывало западное влияние».
Вдобавок ко всему Рудольф так и не научился обуздывать свой темперамент. Он, как и раньше, легко вспыхивал, и даже не думал скрывать свое недовольство или досаду от посторонних глаз. Когда отражение в зеркале не соответствовало тому образу, что рисовало ему воображение, юноша разражался слезами или впадал в ярость.
Как и в Уфе, он заставлял себя отрабатывать те элементы, которые находил наиболее трудными. «Кабриоли, например, мне давались нелегко, – признавался позднее Рудольф, – поэтому я повторял эти прыжки перед зеркалом, чтобы видеть свои ошибки. Я мог их делать в любом направлении и вполне прилично без особых усилий, но тогда бы я выполнял их не совсем правильно»[53]53
Кабриоль – виртуозный танцевальный прыжок, при исполнении которого одна нога поднимается на взлете (вперед, назад или в сторону) и удерживается на заданной высоте, а другая нога, отделяясь от пола, подбивает ее один или несколько раз.
[Закрыть].
Рудольф проявлял такой фанатизм, какого остальные ученики просто не понимали. Не менее преданные своему делу, они считали Рудольфа одержимым. Каждый день его можно было увидеть в пустом классе, с неистовой энергией упражнявшегося в одиночку. «Вы только посмотрите на него, – перешептывались одноклассники. – Он же просто удержу не знает!» Но желание присоединиться к Рудольфу их не посещало, и, стоило парню захлопнуть дверь, как они тут же разбегались. «Мы слышали, что он диковатый и грубый парень, – озвучила потом сложившееся о Рудольфе мнение Марина Чередниченко. – Он очень резко на все реагировал. Не думаю, чтобы кто-то испытывал к нему большую симпатию, уж слишком необщительным он был».
Каждый вечер Рудольф с пристрастием выпытывал у Серджиу Стефанши, чему тот научился за день в шестом классе. Он не интересовался ни его самочувствием, ни его переживаниями и мечтами, ни его семьей, оставшейся в Румынии. Он мог говорить только о различных па и комбинациях, и пока остальные ребята в их общежитской комнате спали или играли, Рудольф заставлял Серджиу повторять их уроки. «Вставай! Давай потренируемся! – командовал он. – Мне надо догонять». Застав как-то днем изнуренного Серджиу в постели, он велел ему подниматься: «Ты чего надумал отдыхать?» А когда Серджиу ответил, что устал, Рудольф сдернул с него одеяло и рывком поднял на ноги. «Да оставь ты меня в покое, башкирская свинья!» – выкрикнул Серджиу. Он надеялся, что Рудольф оскорбится и отстанет от него. Но не тут-то было. «А ты румынская свинья!» – завопил Рудольф и, повалив Серджиу на пол, принялся колотить его кулаками.
Если бы Рудольф был уступчивей и считался с другими ребятами или проявлял к ним хоть какой-нибудь интерес, возможно, и они относились бы к нему по-другому – терпимей и мягче. Но Рудольф держался особняком и боролся за свое место. Его высокомерный вид раздражал одноклассников; они не понимали, что это была лишь защитная маска – в ответ на унижения. Ленинградцы подтрунивали над его провинциальным акцентом, залатанными брюками, невежеством его манер и буйными выходками. «Я очень страдал из-за их насмешек, – признавался Рудольф позже одному ленинградскому приятелю. – В классе я ненавидел смотреться в зеркало. Я казался себе уродом».
Тоскуя по настоящему дружескому общению, Рудольф частенько вспоминал в ту первую осень Альберта, оставшегося в Уфе. И даже послал ему открытку. «Моему дорогому другу Альберту, – написал он на ней, – в честь нашей дружбы». Рудольф в одиночку осматривал городские достопримечательности. Особенное удовольствие ему доставлял Кировский театр. В его здании цвета морской волны, всего в полутора километрах от училища, балетные спектакли давались каждую среду и субботу. Обитель легендарных звезд русского балета, этот театр стал для Рудольфа своеобразной творческой лабораторией, местом важных открытий.
Воспитанники училища получали сценический опыт, исполняя в постановках Кировского выходные роли. Но даже в таких случаях находились под пристальным наблюдением. В театр их привозили на автобусе, подъезжавшем к училищу ровно в семь вечера. (А их предшественников и вовсе возили в закрытых экипажах, чтобы они не сбежали.)
Зато юные танцовщики приобретали полное представление о репертуаре театра и о музыке. Будучи на сцене, за кулисами или в зале, Рудольф не отрывал глаз от разворачивавшегося перед ним действа. Он запоминал все балеты, и потом, уже в своей комнате, восстанавливал их по памяти. Поначалу он попытался фиксировать балетные па на бумаге, но, увидев свой последний листок с записями подвешенным в туалете, решил просто все запоминать. («Можешь представить, как использовались остальные листки, – посетовал он своему первому биографу, Джону Персивалю. – Меня это сразу излечило».) Если сверстники Рудольфа фокусировали свое внимание и усилия на исполнении мужских партий, то он разучивал и мужские, и женские роли. Стефанши постоянно приходилось становиться его «партнершей». «Свет в комнате надлежало выключать в половине двенадцатого ночи. Но по возвращении из театра нам хотелось станцевать все сольные эпизоды. Мы пребывали в сильнейшем возбуждении, ведь в Кировском театре выступали блестящие артисты. И Руди обычно говорил: “Становись, Серджиу, будешь девушкой, а я твоим партнером”. И мы повторяли балет с самого начала».
Позже в том же году, в пору белых ночей (когда сумерки в городе длятся от заката до рассвета), Рудольф и Серджиу репетировали свои купе гран жете ан манеж на широкой площади перед Зимним дворцом. Его величие было прекрасным фоном для будущих балетных принцев.
Соученики Рудольфа редко отваживались без спросу покидать пределы училища и еще реже наведывались в Кировский театр. Но Рудольф не мог обуздать свою любознательность и, тем более, следовать чужому примеру. Если он не находился в Кировском, то оказывался в Эрмитаже, в филармонии, в Государственном театре драмы им. А. С. Пушкина или в Большом драматическом театре им. М. Горького. Рудольф мог высидеть любое представление, даже агитационно-пропагандистские постановки о колхозах, тракторах и работавших на них счастливых крестьянах. «Неважно, что они говорят, – сказал он как-то сопровождавшему его Стефанши. – Меня интересует только их техника». Рудольфа интересовали все виды искусства, которые он считал такими же взаимосвязанными, как мириады островов, составляющих Ленинград. Но наибольшую страсть он питал музыке и танцу. Дома он в основном слушал музыку по радио, «транслировавшуюся по случаю смерти какого-нибудь выдающегося государственного деятеля». Но, часто посещая филармонию, расположенную в бывшем доме Дворянского собрания, в котором Чайковский и Римский-Корсаков исполняли свои ранние произведения, Рудольф «впервые открыл для себя, какую чистую радость способна доставить музыка». И у него сформировались свои музыкальные вкусы. Рудольф благоговел перед Бахом и Бетховеном, из советских композиторов предпочитал Шостаковича и Прокофьева и – исключая Скрябина и Чайковского (его балетную музыку) – не любил почти всех русских композиторов, особенно Рахманинова. Музыка последнего, по утверждению Рудольфа, «пахла русскими сарафанами»[54]54
Традиционная одежда крестьянок в виде платья без рукавов.
[Закрыть], и этот ярко выраженный национальный колорит отталкивал его.
Именно экзотика привлекла его в Мении Мартинес, ставшей первой и единственной близкой подругой Рудольфа в училище. Открытая, непосредственная, жизнерадостная и пышущая энергией, Мартинес была первой кубинской ученицей в ЛХУ – «диковинкой» в мире, не отличавшемся веселостью. Покачивая своими рельефными бедрами в облегающих бриджах и светло-каштановыми локонами, выбивавшимися из-под заколок, Мения наигрывала на гитаре кубинские песни и танцевала босой в спальнях общежития, аккомпанируя себе на там-тамах. «Она показывала афро-кубинские танцы, и все девочки пытались ей подражать», – вспоминала Татьяна Легат. Одаренная певица с низким контральто, Мартинес регулярно давала концерты в училище, а вскоре стала выступать и во Дворце культуры имени Первой пятилетки, напротив Кировского театра. «Поющая танцовщица была редкостью в те времена, – рассказывал Никита Долгушин, сохранивший и спустя сорок лет живые воспоминания о кубинке. – Она по-особому красилась. Такой макияж мы тогда считали «западным». То, как она подводила глаза, не имело ничего общего со стальной каймой на веках у наших девушек. И еще она носила эффектные серьги и кубинское платье с оборками и тугим корсажем». Ее тропическая натура интриговала Рудольфа. Мения часто надевала две юбки сразу и никогда не снимала свои гетры в балетном классе (подобной привилегией никто из учеников больше не пользовался). А то, что по-русски она говорила с запинками и испанским акцентом, добавляло ей еще больше обаяния. «Она была сумасшедшая и отличалась от всех. Рудольфу это нравилось», – признавал Стефанши, тоже явно очарованный Менией.