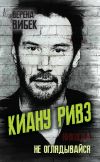Текст книги "Нуреев: его жизнь"
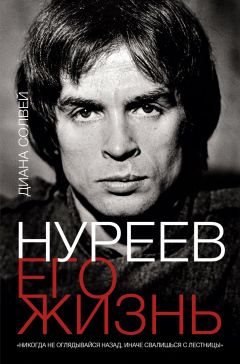
Автор книги: Диана Солвей
Жанр: Музыка и балет, Искусство
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 14 (всего у книги 53 страниц) [доступный отрывок для чтения: 17 страниц]
Но уже на следующий вечер все услышали крики, разносившиеся из их номера. Утром в классе забродили сплетни. По одним слухам, Соловьев вытолкал Рудольфа в коридор после какого-то спора. А кое-кто даже утверждал, будто Нуреев и Соловьев делали друг другу массаж и, когда Нуреев попробовал «подкатить» к Соловьеву, тот в порыве гнева вышвырнул его из номера. Но никто не признался, что лично слышал ссору или видел драку. По свидетельству Аллы Осипенко, хотя откровенных сплетен о гомосексуализме Нуреева прежде не ходило (а все, кто хоть как-то интересовался сексуальной жизнью Рудольфа, допускали его любовную связь с Кургапкиной), теперь ситуация переменилась. Некоторые коллеги поспешили заподозрить Рудольфа в приставании к Соловьеву. Но, насколько было известно Осипенко, «все, что они видели, – это как Рудольф выбегал из номера». Сама Алла не придала этому инциденту большого значения и никогда не обсуждала его с Соловьевым; ей казалось «странным подозревать Рудольфа в гомосексуализме, особенно после слухов о нем и Нелли [Кургапкиной]. Но театр есть театр. Довольно малейшего повода, а порой и повода не надо, чтобы люди стали говорить, что ты гомосексуалист».
Клубок из правды и вымысла о происшествии с Соловьевым в Париже, наверное, уже никогда не удастся распутать. Но одно можно сказать наверняка: то, что между ними тогда случилось, было не настолько значимо, чтобы запустить процесс отзыва Нуреева в Москву. В бывшем Центральном архиве КПСС хранится множество документов по делу Нуреева, но нигде не упоминается хоть о каком-то инциденте с Соловьевым. Более того, все эти документы свидетельствуют, что решение вернуть Рудольфа в Россию власти приняли уже в самом начале гастролей и задолго до предполагаемого инцидента с Соловьевым. Долгое время считалось, что решение о возвращении Нуреева на родину было принято поспешно, по окончании парижского тура 16 июня. Однако архивные документы подтверждают: в действительности приказ о его отправлении домой поступил за тринадцать дней до назначенной даты вылета труппы из Парижа в Лондон. И, если бы на него отреагировали быстро, Нуреев бы тихо исчез из Парижа и, скорее всего, путь на Запад ему был бы закрыт навсегда. Но столкновение интересов разных советских ведомств вынудило их отложить его высылку из Парижа – с далеко идущими последствиями. Отсрочка позволила Нурееву не только укрепить свои новые дружеские отношения, которые вскоре оказались для него бесценными, но и изменить весь ход своей жизни, а вместе с ним – и историю танца, и отношения между Востоком и Западом.
Сам Нуреев так никогда и не узнал, как рано были запущены планы по его возвращению домой. Как не узнал он и о попытках Сергеева, которого всегда считал «серым кардиналом» в заговоре против него, блокировать эти планы так долго, как только он мог[123]123
«Сергеев обладал достаточными полномочиями, чтобы “нажать на кнопку” вдали от Москвы, и все из-за чего? Из-за зависти», – высказался Нуреев в интервью 1981 года.
[Закрыть]. Возможно, Сергеев и завидовал парижскому успеху Нуреева, но он отлично сознавал, сколь многое даст ему самому даже чужая слава.
Первыми предложили отозвать Нуреева с гастрольного тура Стрижевский и резиденты КГБ при советском посольстве в Париже. 1 июня они сообщили в Москву, что его поведение становится неприемлемым и ставит под угрозу безопасность Кировского театра. В ответ ЦК КПСС созвал экстренное совещание Комиссии по выездам за границу, на которое срочно вызвали главу Ленинградского горкома партии. Уже через два дня, 3 июня, Центральный комитет разослал распоряжение о немедленном отзыве Нуреева, с акцентом на необходимость соблюдения всех надлежащих мер предосторожности.
Это распоряжение поставило Сергеева, Коркина и советского посла в чрезвычайно затруднительное положение. За два дня до этого труппа Кировского удостоилась чести выступать в более просторном Парижском Дворце спорта, а из всех танцовщиков-мужчин публика стремилась увидеть именно Нуреева. Руководство даже разрешило ему станцевать Зигфрида в «Лебедином озере» в вечер открытия на сцене Дворца спорта, хотя эта роль была для него новой (до этого он исполнял ее только два раза)[124]124
Рудольф дебютировал в роли принца Зигфрида 1 апреля 1961 года в паре с Нинель Кургапкиной. Во второй раз он исполнил эту партию 16 апреля 1961 года в партнерстве с Ириной Зубковской. «Лебединое озеро» было последним полномасштабным балетом, в котором он танцевал на сцене Кировского театра до отъезда в Париж.
[Закрыть]. Более того, на той же неделе ему вручили престижную премию имени Вацлава Нижинского, а значит, Нуреев способствовал формированию позитивного представления о советской стране и, как сейчас принято говорить, повышал рейтинг труппы. Он стал звездой гастролей. И как бы Сергеев и Коркин объяснили его неожиданное исчезновение? Сотрудники КГБ виделись им филистерами, ничего не смыслившими в культурном обмене. Хрущев пропагандировал интернационализм, а они как раз и демонстрировали в Париже высшие достижения советской культуры.
Сергеев и Коркин решили потянуть время. Нуреев же бывал порою сговорчивым, рассудили они, – возможно, им самим удастся удержать его в узде. Он же послушался и явился вместе с остальными артистами на интервью и фотосъемки для «Юманите» – популярного издания французских коммунистов. И правда, в тот же день фото Нуреева появилось на первой странице газеты. Он был запечатлен в группе с Сергеевым, Коркиным, Ириной Колпаковой, Ольгой Моисеевой, Аллой Осипенко и французским танцовщиком Мишелем Рено. На других страницах газеты были размещены еще один снимок советских артистов (Нуреева, Колпаковой, Моисеевой и Сергеева), интервью под названием «Вариации танцовщиков на тему дружбы» и восторженный отзыв на показанное в день открытия «Лебединое озеро» с Нуреевым и Моисеевой в главных ролях.
Проигнорировав официальное распоряжение, Коркин тем не менее строго-настрого предупредил Рудольфа, чтобы он больше не общался с Кларой. Компромиссное решение в свете нараставшей напряженности «холодной войны»: в следующем месяце Хрущев и Кеннеди должны были встретиться в Вене впервые после апрельских событий в Заливе Свиней.
Не понимая, что Коркин пытался выиграть для него время в Париже, Рудольф, естественно, возмутился его нападками на Клару и цензорским тоном. «Они запретили мне видеться с вами, – сообщил он Кларе и Лакотту. – Но я не собираюсь их слушаться. И в номере сидеть не буду». Но официальное предупреждение встревожило Лакотта: он считал, что Нуреев «играет с огнем». А Рудольфа больше злили, чем пугали попытки начальства ограничить его свободу, хотя до этого он ни словом не обмолвливался с французскими друзьями о своем желании остаться на Западе. Напротив, он постоянно их упрашивал навестить его в Ленинграде и требовал пообещать, что они скоро приедут.
Возможно, кому-то покажется, будто Нуреев злоупотреблял своим «звездным» положением, пренебрегая увещеваниями. Но на самом деле он просто продолжал делать то, что делал всегда: следовал своим личным стандартам поведения, независимо от обстоятельств. Танцуя в «Баядерке», он поскользнулся в самом начале своей вариации и тут же ушел со сцены, вынудив дирижера оборвать музыку на полуноте, танцовщиков – замереть на полушаге, а своих коллег и публику – оцепенеть в недоумении. Чуть ранее, на репетиции, Рудольфа упрекнул и Лакотт. За то, что тот сбросил балетные туфли и погрозил ими дирижеру: «Он рассердился из-за того, что дирижер задал неверный темп. Через несколько минут он вернулся и кивнул дирижеру, как бы говоря: “Теперь можете продолжать”. А я подумал, вспоминал Лакотт, что, не танцуй он так хорошо, все могло бы закончиться плачевно». А Рудольф потом, торжествуя, заявил Лакотту: «Ты говоришь, что мне не следовало так разговаривать с дирижером, но согласись – ему пришлось остановиться. Ему пришлось меня послушать. Я делаю, что хочу»[125]125
На Западе танцовщиков учили следовать за дирижерской палочкой, тогда как в России танцовщикам разрешалось задавать желательный для них темп. Но при этом никто из них не покидал сцену посередине акта, даже если музыкальное сопровождение их не устраивало.
[Закрыть].
И он продолжал делать что заблагорассудится. Не только в танце, но и вне сцены. Он отправился с Кларой к ее матери на Ке-д’Орсе и поужинал с ними на кухне, хотя ему строго запрещалось гостить в частных домах. Он осматривал в свободное время Лувр вместе с Майклом Уишартом – английским художником с богемным прошлым, встречавшимся с любовниками обоего пола, дружившим с Жаном Кокто и художником Фрэнсисом Бэконом и страдавшим пристрастием к алкоголю и опиуму, что могло вселить ужас в сердце любого аппаратчика. Уишарт сам захотел познакомиться с Рудольфом и, оставив ему за кулисами записку, однажды с радостью встретил его у служебного входа. За ними тенью следовали агенты, но Рудольф не выглядел обеспокоенным. «Не волнуйтесь, – говорил он Уишарту, – я смогу все уладить». Уишарт повидал на своем веку много обладателей уникальных талантов, но танец Рудольфа в «Баядерке» настолько его впечатлил, что он сразу же отправил своей приятельнице, Колетт Кларк, письмо, в котором настоятельно рекомендовал ей не пропустить выступление Нуреева в Лондоне. Колетт, дочь английского историка искусства Кеннета Кларка, была близкой подругой Марго Фонтейн.
6 июня из Москвы поступило повторное распоряжение выслать Нуреева на родину. Сознавая его важность для успеха гастролей, Сергеев и Коркин проинформировали советское посольство, что поведение Нуреева заметно улучшилось. Продолжать гастроли без него невозможно, предупредил Сергеев посла, тоже купавшегося в лучах дебютного успеха Кировской труппы в Париже. Поверив им на слово, посол 8 июня уведомил Москву, что необходимость в отзыве Нуреева отпала.
На следующий день, 9 июня, Рудольф позвонил в Ленинград Тамаре. Не скрывая восторга, он рассказал ей о премии Нижинского. А потом признался, что с нетерпением ждет вылета из Парижа, где публика была «сборищем идиотов». Рудольфу уже хотелось танцевать в Лондоне – перед «настоящими знатоками» балета. Тамара в свою очередь рассказала ему, с каким нетерпением она ждала дебюта Королевского балета, который должен был состояться через неделю в Кировском. И Рудольф пожалел, что не сможет увидеть Марго Фонтейн и других английских звезд, о которых он читал в «Данс мэгэзин». Тамара обещала дать ему по возвращении полный отчет о гастролях англичан.
Успокоив Москву, Коркин с Сергеевым все же начали предпринимать дополнительные меры, чтобы удержать Нуреева под контролем. Теперь Сергеев повелел ему избегать и французских друзей; он напомнил Рудольфу, что «не личность красит коллектив, а, наоборот, коллектив дает силу и жизнь личности. Отбиться от стада – вернейший путь в никуда…». Словно в подтверждение его мнения, одна любопытная фраза в рекламных буклетах Кировского напоминала критикам о том, что Нуреев, хоть и был «прекрасным танцовщиком с блестящим будущим», но еще нуждался в дисциплине. Правда, что под этим подразумевалось на самом деле, никто не понимал.
14 июня, за два дня до вылета Кировской труппы в Лондон, Москва прислала третью директиву: откомандировать Нуреева домой. Пока Коркин и Сергеев пытались сыграть на успехе Рудольфа, Стрижевский и посольские агенты осуждали его поведение в своих ежедневных докладах в Москву[126]126
Посол отчитывался перед Министерством иностранных дел, а резиденты КГБ в Париже посылали доклады непосредственно в центральный аппарат КГБ в Москве. По свидетельству Аркадия Шевченко, бывшего высокопоставленного советского чиновника, сбежавшего в 1980-х годах на Запад, в пересылаемых в Москву рапортах «никогда не указывалось имя человека, предоставившего информацию».
[Закрыть]. Два лагеря действовали наперекор друг другу, но каждая сторона по-своему старалась заслужить благосклонность партийных чинуш дома. Если руководство Кировского радело о высоком имидже своей труппы в танцевальном мире за рубежом, то Стрижевский и резиденты посольства видели свою задачу в том, чтобы удержать советских артистов под контролем. Нуреев, как танцовщик, приводящий заграничную публику в восторг, мог прославить советский балет и принести «дивиденды» Сергееву и Коркину, но своим дерзким поведением он выставлял советские органы безопасности беспомощными и безрукими. Не думая о важности его участия в гастролях, Стрижевский и посольские забили тревогу и убедили Москву в подрыве мер безопасности.
После третьей директивы из столицы руководителям труппы не оставалось ничего другого, как подчиниться. Они и без того уже слишком рисковали. Большой театр всегда пользовался большей благосклонностью у советских чинуш, и они переживали, как бы отзыв Нуреева не подорвал репутацию Кировского в Москве. Но в следующий и заключительный вечер в Париже Рудольфу предстояло танцевать с Аллой Осипенко в «Лебедином озере». Поэтому решено было отправить его домой 16 июня – в день предполагаемого вылета труппы в Лондон. План по возвращению Нуреева держался в тайне до последнего момента – посадки в самолет. А доставить своего «клиента» обратно в Москву должен был Стрижевский.
«Смотрите, какой у нас замечательный успех!» – похвастался Рудольф Сергееву на следующий вечер после того, как они с Осипенко ушли со сцены под вопли и выкрики «браво». «Ничего удивительного, – ответил Сергеев пренебрежительно, к большому огорчению Осипенко. – Обычное дело, публика всегда себя так ведет».
Но критик «Ле Монд» Оливье Мерлен не усмотрел в их исполнении ничего обычного. Это «самая блестящая интерпретация “Лебединого озера”, которую я когда-либо видел», написал он, добавив, что имена Осипенко и Нуреева «уже встали в ряд с именами Карсавиной и Нижинского на небосводе сильфид». Но это было чуть позже.
А в тот вечер вышедших из Дворца спорта Нуреева и Осипенко (со Стрижевским на хвосте) поджидала группа поклонников, чтобы пригласить их на прощальный ужин. Рудольф и Алла обратились к Стрижевскому за разрешением.
«Исключено, – рявкнул тот в ответ. – Вам завтра лететь в Лондон. Сегодня никому не разрешается никуда выходить».
Поклонники принялись скандировать: «Отпустите с нами Осипенко и Нуреева! Отпустите их! Отпустите их!»
Взбодренная криками поклонников и хвалебными отзывами о ее мастерстве, Осипенко набралась храбрости и сыграла свой козырь: «Владимир Дмитриевич, это скандал, просто скандал», – заявила она.
Фанаты вошли в раж, и уже сложно было предугадать, что они способны учудить, если их кумиры получат команду вернуться в отель. Негативные отзывы в прессе в преддверии лондонского тура могли выйти Стрижевскому боком. Желая любой ценой избежать скандала, он уступил. Все равно Нурееву осталось веселиться недолго, утешил он себя.
«Ладно, идите, – буркнул Стрижевский и предупредил Осипенко: – Только помни, если он не вернется вовремя, отвечать будешь ты».
Едва зайдя в кафе с поклонниками, в числе которых были Клара и Пьер Лакотт[127]127
Клер Мотт уехала на гастроли в Испанию с Парижской оперой.
[Закрыть], Алла и Рудольф, опьяненные головокружительным поворотом событий, решили позвонить в Ленинград. Алла направилась к телефону звонить матери, и тут Рудольф ее остановил: «Алла, попросите, пожалуйста, передать Александру Ивановичу [Пушкину], что наше выступление прошло блестяще». А когда Алла засомневалась, не стоит ли смягчить бравурный тон, Рудольф остался непреклонен: «Нет, так и скажите: блестяще». Нуреева переполняла гордость, поняла Алла, – ведь им не только доверили закрыть парижский сезон «Лебединым озером», но и предстояло танцевать в нем на первом показе в Лондоне.
Почти до трех часов утра никто и не думал уходить с их замечательной, веселой вечеринки. А между тем уже наступил день рождения Аллы, и Наташа Макарова наверняка еще дожидалась ее с бутылкой водки, прибереженной для этого случая. Предостережение Стрижевского еще звучало у Аллы в ушах, когда она в шутку спросила: «Рудик, ты спать собираешься?» Но Нуреев сказал ей, что они с Кларой решили погулять. И они расстались, посмеиваясь и прекрасно понимая, что никто из них даже не подумает ложиться спать.
Вдохновленный перспективой танцевать в Лондоне, Нуреев все сильнее ощущал печаль из-за скорой разлуки с Парижем. Они долго бродили с Кларой по набережным правобережья Сены – Рудольфу не хотелось идти в отель. «Он все время говорил, как прекрасен Париж и как ему грустно оттого, что он, возможно, видит его в последний раз».
Когда они подошли к гостинице «Модерн», перед ней уже стоял знакомый синий автобус, и ближайшие кафе медленно просыпались. Пытаясь подбодрить и себя, и своего спутника перед разлукой, Клара напомнила Рудольфу, что они с Пьером и Клер решили приехать на несколько дней в Лондон, чтобы посмотреть на него. «Да, – ответил Рудольф, – только это будет уже не то, потому что Париж, и правда, волшебный».
Не успел Рудольф войти в свой номер, как зазвонил телефон. «Можно я приеду проводить тебя в аэропорт?» – спросил Пьер Лакотт. «Если хочешь, – ответил Рудольф, – только я не знаю, смогу ли я с тобой пообщаться». Он едва успел упаковать свои вещи до посадки в автобус. До Ле Бурже, небольшого аэропорта в южном пригороде Парижа, ехать было полчаса. В дороге администратор труппы, Грузинский, вдруг начал раздавать билеты на самолет в Лондон. Так обычно не делали, билеты на руки артистам никогда не выдавались. Но в тот момент Рудольф не придал этому значения. А вот когда Грузинский безо всяких объяснений попросил артистов сдать билеты при прохождении таможенного контроля, это уже выглядело бессмыслицей. И в этот момент Рудольфа осенило: это связано с ним! Должно что-то произойти! Но что именно, он еще не понял. Быстрое переглядывание коллег тоже не укрылось от его глаз. Рудольф нехотя вернул свой билет Грузинскому.
Осмотрев зал вылета, он не заметил ничего подозрительного. Сергеев с Дудинской пили кофе в баре. Танцовщики слонялись туда-сюда, ожидая посадки на самолет компании «Бритиш юропиан эйрвейс», вылетавший в Лондон в 11.30. Стрижевский, Грузинский и Коркин стояли в дверях, снова раздавая артистам билеты и направляя их поочередно в самолет. Багаж, включая вещи Рудольфа, уже погрузили. И, насколько он мог судить, все было в порядке.
Проводить труппу Кировского в аэропорт приехали поклонники, танцовщики Парижской оперы и журналисты. Выхватив глазами среди них Лакотта и его приятеля Жан-Пьера Боннфу, Рудольф подошел к ним. Пьер сказал, что надеялся привезти с собой Клару, но девушка не поехала, сославшись на сильную усталость. В этот момент к Лакотту подошли Сергеев с Дудинской и поинтересовались, полетит ли он в Лондон посмотреть выступление труппы. «Обязательно. Я хочу увидеть Рудольфа в “Жизели”, – ответил Лакотт. «Может быть, выпьем?» – предложили они, и вся группа направилась в бар.
Улучив момент, когда Лакотт отвернулся переброситься словами с Боннфу, Сергеев заявил Рудольфу: ему нужно с ним поговорить наедине. Все это время Сергеев улыбался, чтобы не возбудить подозрений у доброжелателей Нуреева.
«Рудик, ты с нами сейчас не поедешь, – сказал ему Сергеев. Лицо Рудольфа стало пепельно-серым. – Мы только что получили телеграмму из Москвы, – продолжал Сергеев, – о том, что ты должен танцевать завтра в Кремле. – Кроме того, они только что узнали, что заболела мать Рудольфа. – Сейчас мы оставляем тебя, а ты сядешь на “Ту”, который вылетает через два часа – в Москву».
Нуреев сразу понял: его карьере конец. «Я отлично понимаю, о каком концерте вы говорите», – вскричал он. «Нет, нет, ты присоединишься к нам в Лондоне через пару дней», – начал уверять его Сергеев. Но Рудольф уже знал цену пустым обещаниям. Сердце когтями стиснуло отчаяние: его не только никогда больше не выпустят за границу, но и могут отослать обратно в Уфу. Или, хуже того, на какую-нибудь северную окраину, где он будет томиться в забвении. Нурееву хотелось покончить с собой. Скользнув взглядом по зоне посадки, он заметил Сергеева, переговаривавшегося о чем-то с Коркиным. Это они виноваты в его неожиданном отзыве в Москву!
«Меня высылают обратно в Москву, – торопливо шепнул Рудольф Лакотту. – Я не еду в Лондон. Для меня все пропало. Меня отправят в захудалую провинциальную труппу, и на этом моя карьера закончится. Помоги, помоги мне, я хочу остаться!» С этими словами Рудольф достал серебряный ножичек, который Лакотт подарил ему в качестве сувенира на прощанье. «Если ты мне не поможешь, я себя убью!» – весь дрожа, пробормотал танцовщик.
Лакотт схватил переводчика и бросился к Сергееву. «Если вы отправляете Рудольфа назад из-за того, что он общался со мной и моими друзьями, то уверяю вас – он не говорил ничего плохого ни о вас, ни о своей стране. Мы разговаривали только о танце. Я подпишу все, что угодно. Пожалуйста, не наказывайте его!»
Взмахом руки Сергеев перебил Лакотта: «Его никто не наказывает. И с вами это не связано. Его мать больна, и ему надо вернуться на несколько дней, а потом он снова присоединится к нам в Лондоне, вот увидите».
Лакотт не знал, кому верить. Вокруг уже начали кружить агенты КГБ, и Лакотт почувствовал себя беспомощным: он ничего не мог сделать. Он передал слова Сергеева Рудольфу. Тот заметался, на глазах выступили слезы. «Не слушай их. Все кончено. Ты должен мне помочь!» – взмолился танцовщик.
Отчаяние Нуреева не укрылось от других артистов. Но поговорить с ним подошли только Ирина Колпакова, Ирина Зубковская и Алла Осипенко. «Меня отсылают обратно в Москву!» – сказал он им. Балерины расплакались и стали уговаривать его подчиниться. Они пообещали подать протест в советское посольство в Лондоне и потребовать его возвращения в гастрольную труппу. Абсурдные, бесполезные посулы… «Мы все были в шоке, – вспоминала Колпакова. – Мы говорили ему: “Не волнуйся, все будет хорошо”, но, конечно же, сознавали, что ничего хорошего уже не будет. Мы все понимали: происходило что-то непоправимое». Осипенко испугалась, как бы Нуреев не сделал с собой чего-нибудь: «Не делай глупостей! Возвращайся в Москву!» Встретившись с ней глазами, Рудольф вскинул руки со скрещенными пальцами – знак, понятный им всем. Классический жест «небо в клеточку», означавший тюрьму и точку в карьере.
Стрижевский уже поторапливал оставшихся артистов к выходу на посадку. Вот скрылись из виду Сергеев с Дудинской. А люди в штатском начали подталкивать к выходу на взлетную полосу трех балерин. Колпакова с Зубковской даже не посмели оглянуться. Но Осипенко, услышав за спиной плач Нуреева, обернулась. Рудольф бился лбом о стену – жуткая сцена, преследовавшая потом Аллу много лет. Кто-то закричал, чтобы она не останавливалась. А уже через несколько секунд – так ей показалось, по крайней мере, – она уже сидела в самолете, и работники аэропорта откатывали от него трап.
Безотчетно Алла воззвала о помощи к Коркину, сидевшему в первом ряду. «Георгий Михайлович, Рудик в ужасном состоянии! Сделайте хоть что-нибудь! Высадите меня из самолета, скажите ему, что мы вместе полетим в Москву на правительственный концерт. Вы же знаете Нуреева! Он непредсказуем. Он что-нибудь сделает с собой…» Осипенко не задумывалась над своими словами. Парижский успех сблизил ее с партнером; она узнала его лучше, и теперь боялась одного: как бы он не покончил с собой. Алла надеялась, что предложение вернуться вместе успокоит Рудольфа, и он полетит с ней в Москву выступать на концерте. А затем они присоединятся к артистам в Лондоне. И в то же время она, как и все остальные в самолете, сознавала: этого не случится. Как только Нуреев окажется дома, он навсегда станет невыездным. Что могло бы его спасти – никто из артистов даже не представлял. Таких прецедентов раньше не было. Единственные «предатели родины», о которых им доводилось до этого слышать, были политиками.
Коркин выслушал страстную мольбу Осипенко с каменным лицом. «Я сделал все, что мог, – с усталым смирением вымолвил он. – Больше я ничего не могу поделать».
И больше никто не сказал в защиту Рудольфа ни слова. «В самолете повисла гробовая тишина, – вспоминала через тридцать четыре года Осипенко картину, неизгладимо запечатлевшуюся в ее памяти. – Никто не разговаривал. Никто не выпивал. Никто не мог ничего делать. А это был мой день рождения. В тот день мне исполнилось двадцать девять. Даже сейчас при воспоминании об этом у меня по коже пробегают мурашки».
А в терминале Лакотт безуспешно пытался успокоить танцовщика. «Пойми: я не могу тебе помочь, стоя рядом», – втолковывал он Рудольфу, но тот не воспринимал его слов. «Если ты отойдешь, – рыдал он, – меня уведут в другое помещение, и я ничего не смогу поделать».
Стрижевский стоял всего в нескольких шагах от них, до рейса Рудольфа в Москву оставалось всего два часа. Лакотт был в полном отчаянии. И только все время поглядывал на часы. «Скажите Рудольфу, что я могу увезти его на своем мотоцикле», – шепнул ему журналист Оливье Мерлен. «Вы с ума сошли? – возразил Лакотт. – Оглянитесь, кругом же агенты КГБ. Они легко его схватят».
Лакотт видел только один выход из ситуации. Он незаметно сунул Жан-Пьеру Боннфу записку. В ней был номер телефона Клары Сент. Клара была знакома с Мальро – возможно, ей удастся что-то сделать!
В половине десятого утра Клару разбудил срочный звонок Боннфу. «Вам необходимо немедленно приехать в Ле Бурже», – прошептал он в трубку. Присутствие в зале русских агентов пугало его, как и всех остальных французов, и Боннфу хотелось быстрее прервать разговор. Но Клара не удержалась от расспросов и услышала в его голосе панику: «Руди хочет, чтобы вы приехали. Я сейчас не могу говорить. Я звоню вам из автомата».
Через двадцать пять минут Клара в больших темных очках и шелковом платке на голове примчалась в Ле Бурже на такси. Боннфу поджидал ее на улице у входа. Артисты Кировского сели в самолет на Лондон, объяснил он, а Руди остался. Через два часа его отправят в Москву. «Этого не может быть, – тряхнула головой Клара, толком не отдохнувшая после трех часов сна. – Где он?» Боннфу провел ее через стеклянную дверь в здание аэропорта и указал глазами на Рудольфа. Он сидел в баре, зажатый с обеих сторон «двумя крупными мужчинами, настоящими монстрами, как в кино». Клара мало знала о политике «холодной войны», судить о ней могла только по тому, что почерпнула из фильмов. Но при виде «захваченного силой» Рудольфа ее сердце сжалось: парню надо было помочь! Неподалеку она заметила Лакотта, Мерлена и нескольких артистов Парижской оперы. Они явно обсуждали ситуацию и пребывали в сильнейшем волнении, но никто из них не пытался ничего предпринять.
«Как, по-вашему, чего он хочет?» – спросила Клара Боннфу. Лакотт намекал, что Рудольф не прочь остаться в Париже, ответил тот. «Спросите об этом у самого Рудольфа!» – подстегнула его Клара. Боннфу колебался. И Клара поняла: ей придется действовать самостоятельно. Парижские танцовщики явно опасались за собственную карьеру и «не хотели вмешиваться. Они все надеялись когда-нибудь выступить в России. Они просто стояли там в панике, ломая головы, что же им делать. А мне терять было нечего», – расскажет она потом.
Едва Клара приблизилась к Рудольфу, Стрижевский поднялся. «Я хочу всего лишь попрощаться», – объяснила девушка, пытаясь разобрать по лицам агентов, понимают ли они английский. Убедившись, что нет, Клара наклонилась, расцеловала Рудольфа в обе щеки и принялась эмоционально разыгрывать сцену прощания. «Хочешь остаться?» – шепнула она Рудольфу, осыпая его новыми поцелуями. Сердце девушки стучало быстро-быстро. «Да, сделай, пожалуйста, что-нибудь», – ответил ей Нуреев, когда она наклонилась к другой его щеке. «Ты уверен?» Еще один поцелуй. «Да, да, пожалуйста, я очень хочу остаться». Клара улыбнулась агентам. «Они решили, что я – его подружка, пришла попрощаться, – вспоминала потом она. – Они были такими сильными, что совершенно не опасались меня».
Вернувшись к французским танцовщикам, Клара сообщила им, что Рудольф просит помощи. Те стали убеждать ее не вмешиваться. «Это очень опасно, – шептали они. – Конечно, все это ужасно, но мы ничего сделать не можем». Клара поняла, что теряет драгоценное время. В поисках выхода она обвела взглядом зал. Заметив у лестницы табличку «Полиция аэропорта», она осторожно поднялась на второй этаж.
«Там внизу, в баре, сидит русский танцовщик, он хочет остаться во Франции», – сообщила Клара двум полицейским в штатском, сидевшим за столом. Они переспросили: а уверена ли она в том, что он «только танцовщик». Полисмены не слышали о Нурееве. Он точно не ученый?
«Да, он великий танцовщик, – подтвердила Клара и объяснила, что смотрела балеты с его участием в Парижской опере и во Дворце спорта. – Его отзывают домой за то, что он проводил время с французами. Он не похож на других, вел себя более независимо. Они, наверно, боялись: если бы он узнал об их планах, то обратился бы во французское посольство. Поэтому тянули до приезда в аэропорт. Но я знаю, он действительно хочет остаться, а его собираются отослать его обратно в Москву. Мы можем что-нибудь сделать?»
Клара знала, что французские полицейские были в большинстве своем ярыми антикоммунистами, и сделала на это ставку. «Видите ли, мы не можем к нему подойти, он должен сказать нам все сам, – объяснили ей полицейские. – Пусть он к нам придет, и тогда мы обо всем позаботимся».
«Но как? – спросила Клара. – Его сторожат двое мужчин».
Полицейские предложили ей такой план: Клара спустится в бар первой и закажет себе кофе. Они придут через десять минут и встанут рядом с ней. После того как они займут позицию, Клара снова подойдет к Рудольфу и объяснит ему, что он должен сам обратиться к блюстителям французского закона.
Ноги Клары стали «словно резиновые», когда она во второй раз направилась прощаться с «бедным Руди». «Так грустно, что он уезжает», – посетовала она Стрижевскому, пытаясь уверить его в том, что сильно расстроена. Экзальтированная влюбленная француженка! Для пущего эффекта Клара притворилась, будто нашептывает на ухо Рудольфу нежные слова. «Как же жалко, что ты уезжаешь, – повторила она во всеуслышание, и, уже вполголоса, добавила: – Видишь двух мужчин в баре? Они тебя ждут. Ты должен к ним подойти». И снова поцеловала Рудольфа. Тот, возвращая ей поцелуй, сказал просто: «Да».
Через пять минут Рудольф вскочил со своего стула и бросился к барной стойке, всего в нескольких метрах от него. «Я хочу остаться во Франции!» – успел выкрикнуть он по-английски, прежде чем Стрижевский и другой агент набросились и схватили его. Борьба продолжалась целую минуту. «Довольно! – прикрикнули на русских полицейские. – Вы во Франции!» И русским ничего больше не осталось, кроме как отпустить Рудольфа. Полицейские повели его наверх, в свой офис, а посольские агенты бросились к телефонным автоматам докладывать скверные новости.
На выходе из бара Клару встретили человек тридцать свидетелей; в их взглядах сквозило неодобрение. Все танцовщики говорили [ей]: «Что вы наделали? Это ужасно. Разве вы не понимаете, как плохо для него все может закончиться? Эти люди очень могущественные. Они заберут его. То, что вы сделали, это ужасно!» Жорж Сориа, парижский импресарио Кировского, упрекнул Клару в том, что она поставила под угрозу культурный обмен с СССР в будущем. «После этого не будет больше ни Большого, ни Кировского», – раскричался он. «Послушайте, – попыталась объяснить ему Клара. – Я это сделала потому, что он меня попросил».
Поднявшись наверх, Клара застала Рудольфа пьющим кофе в окружении жандармов и инспекторов всех мастей. Выглядел Нуреев плохо – в тот момент он был уверен, что французы предпочтут выдать его Советам. Нуреев настолько не доверял властям, что решил: советские чиновники непременно добьются его «освобождения», это только вопрос времени. Рудольф не знал, что начальник службы пограничного контроля Ле Бурже, Грегори Алексинский, был кровно заинтересован в пресечении подобных попыток.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?