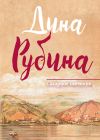Читать книгу "Жилаю щастя. Афтор (сборник)"

Автор книги: Дина Рубина
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 16+
сообщить о неприемлемом содержимом
Один из распространенных типов моих зрителей-слушателей – тип старого недоверчивого еврея. Один такой, в Бохуме, заявляет организатору моего выступления:
– Вот вы собираете взносы на общину… А я не знаю, куда эти деньги идут.
– А вы приходите завтра на концерт, – доброжелательно говорит координатор культурной программы, – тогда узнаете.
Тот, ровным голосом:
– Что за концерт.
Культуртрегер на подъеме:
– Выступает писательница из Израиля!
Старик тем же безынтонационным тоном:
– Что за писательница?
Культуртрегер вдохновенно:
– Замечательная писательница из Израиля!
– Израиль випустил двух видающих писателей, – назидательно говорит старый еврей, – Пастернак и Бродский. Других не знаю!
В этом, довольно смешном, замечании есть своя правда. Странствующий писатель отнюдь не эстрадный певец, которому стоит лишь рот раскрыть, чтобы его по крайней мере слушали. Писатель, самый «замечательный», вовсе не обязательно – «замечательный выступальщик». Как правило, наоборот.
И вообще, в искусстве трудно бывает что-либо кому-либо доказать.
Предпочтения – вот истинная в искусстве оценочная шкала.
Мне кажется, идеально иллюстрирует это очередной «случай из моей жизни». Есть такой композитор Кейдж. У него есть фортепианная пьеса, называется «Ожидание». Исполняется она так: выходит пианист, садится за инструмент и, не прикасаясь к клавиатуре, сидит с секундомером в руке ровно три минуты сорок четыре секунды. Потом встает, раскланивается и уходит за кулисы. Такая пьеса. Такая музыка. Однажды в годы моей консерваторской юности приехал в наш город известный пианист, и мы с моим однокурсником Сенькой Плоткиным пошли на концерт. Где-то в середине программы между ноктюрном Шопена и пьесой Хиндемита объявляют Кейджа, «Ожидание». Выходит пианист, садится к инструменту, сидит… Сидит… Проходит минута, другая, на третьей минуте зал понял, что это не недоразумение, пианист не забыл ноты, не помрачился рассудком, что это музыка такая. Тогда Сенька хлопнул меня по колену и восторженным шепотом завопил: «А Пашка Егоров играл это лучше!»
Так что в искусстве, особенно в литературе, вы никогда никому не докажете, что «Пашка Егоров» не «играет это» лучше вас.
Вот еще беда: не умею давать интервью. Не умею однозначно отвечать на вопросы, самые, казалось бы, ясные, простые и определенные. Торопею и всерьез задумываюсь, пытаясь вот в эту минуту проникнуть в суть предмета. Очень тяжело и мучительно взвешиваю слова. Может быть, потому, что ни в чем относительно себя не уверена. Постоянно, ежесекундно меняюсь на каком-то глубинном, клеточном уровне. Нет твердого мнения по многим вопросам, вернее, оно просто не успевает затвердевать. Поэтому, когда читаю собственные излияния, неделю назад записанные корреспондентом на пленку и пунктуально (я ставлю обычно такое условие) воспроизведенные на бумаге, я прихожу в отчаяние. Хоть в суд на саму себя подавай за клевету и искажение мыслей.
В связи с вышесказанным к жизни меня привязывают не фундаментальные мировоззренческие канаты, не крепко сплетенная многолетняя сеть человеческих отношений (родственных, дружеских), а такие пустяки, такая шелуха картофельная, такие фантики разноцветные, что и признаваться стыдно.
И все-таки бывают в жизни потрепанного дорожными передрягами офени свои звездные часы – полные залы, ломящиеся за книгами читатели. Бывают и «свои» неформальные, странные отношения с поклонниками творчества. Иногда от переизбытка чувств мои читатели дарят мне на выступлениях подарки: вязаные носки, керамические фигурки, маски, сумочки… Это всегда трогает меня чуть не до слез, и я стараюсь «в обмен» всучить свою книжку.
«Ну что ж, – заметил на это один мой приятель-экономист, – ты делаешь успехи. Уходишь в глубь веков. Вступаешь уже не в товарно-денежные, а в доденежные отношения».
И вот я думаю: может, недаром я – офеня? Может, это такая форма бродяжничества – там словечко подберешь, тут картинку ухватишь, здесь типаж приметишь. А заодно и книжку свою продашь, глядишь, и прокормимся.
Я и эту страну вдоль и поперек изъездила, что нетрудно. Запасешься бутербродами, сумки в руки, и – на автобус: ходебщик, контюжник, торгаш в разноску и в развозку, щепетильник и мелочник, одним словом – офеня.
А когда на спинке израильского автобуса написано фломастером по-русски: «Ася – сука», как-то уютнее чувствуешь себя на этой земле…
Под знаком карнавала
Разница между комической стороной вещей и их космической стороной зависит от одной свистящей согласной.
В.В. Набоков
Который год пытаюсь понять – что держит меня на плаву в моем небезупречном, небезболезненном и небезоблачном здешнем существовании. И думаю – его откровенная, брутальная, убийственная карнавальность. Перемена лиц, образов и масок; вывернутый наизнанку смысл существования; ситуации-перевертыши, их откровенная театральность и откровенный фарсовый идиотизм. Маски грубо размалеваны, служанка переодета госпожой, госпожа – куртизанкой, и все играют чьи-то роли. Играют грубо, упрощенно, условно, ибо ничего не поделаешь – площадной театр.
И только иногда блеснет в прорези глаз идиотской маски внимательный и насмешливый взгляд, каким смотрят на нас с портретов шуты Веласкеса.
Вот такая история.
Живет в Израиле человек по фамилии Ленский. Это еще не начало карнавала, еще не смешно. Обычная еврейская фамилия, у нас и Пушкины попадаются.
Когда-то в Советском Союзе этот Ленский в знак протеста против ввода советских танков в Прагу сжег красный флаг на площади Свободы в Риге. Разумеется, его схватили, судили, дали срок, который он отсидел тютелька в тютельку.
После чего репатриировался в Израиль, на историческую Родину, в демократическое государство, где, как он полагал, забудется страшный коммунистический сон.
Но в Израиле в то время у руля стояла Рабочая партия, у которой, как известно, на трибуне с одной стороны был национальный бело-голубой флаг, а с другой – красный.
Что там говорить. Ленский сжег красный флаг на площади Царей Израилевых в Тель-Авиве. Его схватили, судили, дали срок (надо отдать справедливость – гораздо меньший), он отбыл его и вышел на свободу. И вышел он на израильскую свободу законченным диссидентом.
Жил на так называемых «территориях», состоял в экстремистской организации КАХ, ходил с оружием, участвовал во всех антиправительственных демонстрациях (не важно – какая партия стояла у власти), а также митинговал на всех митингах. Он участвовал во всех забастовках – будь то служащие аэропорта Бен-Гурион или работники детских садов и ясель. Словом, человек сросся с карнавальным костюмом «закоренелый правонарушитель».
Стоит ли говорить, что израильская полиция и органы госбезопасности в любой заварушке привыкли тянуть за ниточку, которая приведет к вечному диссиденту Ленскому.
И вот моя соседка, работающая каким-то мелким секретарем в следственном отделе иерусалимского полицейского управления, описала мне сценку, свидетелем которой стала на днях.
Действующие лица.
Студент, юноша лет двадцати, из интеллигентной ленинградской семьи, привезенный в страну в возрасте шестнадцати лет – то есть человек, обремененный некоторым грузом русской культуры.
Офицер полиции, йеменский еврей лет сорока пяти, привезенный в страну в детстве. В любом случае никак не обремененный грузом русской культуры.
Между ними происходит следующий диалог.
Полицейский:
– Ты про Ленского слышал?
Студент:
– Да… конечно.
Полицейский:
– От кого?
Студент иронически поднимает брови, оглядывается на секретаршу, наконец говорит:
– То есть как – от кого? От Пушкина.
Офицер быстро помечает что-то на листке перед собой.
– А где он сейчас – знаешь?
– В каком смысле – где? – настороженно спрашивает молодой человек. – Его же это… убили…
– Как – убили?! – вскрикивает визави. – Кто убил?!
Он вскакивает из-за стола и начинает в страшном возбуждении кружить по комнате. Очевидно, его сильно задевает тот факт, что этот сопляк знает об убийстве Ленского, а он, офицер полиции, почему-то не знает. Он останавливается напротив студента и повторяет:
– Кто убил?
Студент, уже чувствуя, что этот странный разговор с сумасшедшим любителем пушкинского романа пошел по какому-то неправильному руслу, поеживается и тихо говорит:
– Ну, как же… ну, этот… Онегин же…
Полицейский подскакивает к столу, быстро записывает и это показание.
И только когда он пытается выяснить точную дату убийства, а юноша, явно подсчитывая что-то в уме, бормочет, что приблизительно в первой четверти девятнадцатого века… следует, как – у Гоголя – финальная сцена с застывшими фигурами и вытаращенными глазами…
Гротескным преображениям, искажениям, перевоплощениям смыслов подвергается и язык – важнейшая, если не главная, субстанция нашего существования в социуме.
Обратите внимание: коверканье языка, комические языковые ситуации занимают сейчас обширное место на страницах юмористических изданий повсюду в эмиграции – Германии, США, Израиле.
Мучительное надевание чужого языка, постепенное переодевание сознания – это ли не трагический карнавальный процесс, суть болезненных эмигрантских перевоплощений! А ведь с годами происходит еще и обветшание родного языка, частичная его потеря, прорехи именно в смысловых, подтекстовых оттенках.
На днях сижу в офисе своего издателя, обсуждаю условия опубликования новой книги. Радио на русском языке, которое работает у нас двенадцать часов в сутки, включено на всю катушку. Идет передача, в которой обычно знакомят слушателей с тем или иным печатным изданием, берут интервью у известных журналистов и писателей, у редакторов газет и журналов. Ведет передачу бойкий старожил. Обладатель глубокого бархатистого баритона, когда-то, в далекой молодости, он озвучивал линии ленинградского метро («Осторожно, двери закрываются, следующая станция «Василеостровская»). Репатриировавшись, обнаружил, что метро здесь еще не построили, зато радиостанции «Голос Израиля» требуется диктор. С началом Великой Алии он расцвел, стал вести литературные передачи, брать интервью у приезжих и местных знаменитостей. Правда, за эти годы язык он не то чтобы подзабыл, а как-то… перестал вслушиваться в смысл того, что говорит.
Его собеседник – главный редактор одной из газет, выходящих на иврите, назовем его господин Шапиро. В молочном возрасте его привезли сюда из России, и он понимает по-русски, пытается говорить и искренне считает, что знает этот язык, на котором говорили с ним его родители. Стоит ли уточнять, что смысл многих его слов и фраз тоже нуждается в некотором дополнительном объяснении.
И вот в открытом эфире происходит следующий диалог:
– Господин Шапиро, – бодро и напористо вступает ведущий, – многие наши радиослушатели интересуются: какого размера ваш почтенный орган?
Господин Шапиро, профессор, автор нескольких монографий, почетный член нескольких зарубежных академий, задумывается на мгновение, затем, преисполненный достоинства, медленно произносит:
– Обычного. Нормального. По пятницам несколько увеличивается… (само собой, он имеет в виду ряд пятничных приложений к своей газете).
И оба этих, весьма довольных собой, господина даже не задумываются, что они несут в открытом эфире.
В этом перевернутом, вывернутом наизнанку мире наши дети – особая статья. Понятно, что везли их сюда за: здоровым национальным самоощущением, чувством собственного достоинства, раскованностью, знанием языка предков, традиций, культуры, религии. Но – боже мой! – не за тем же, чтоб они потеряли наш болезненно любимый, родной, самый – прекрасный – на – свете русский язык! А они, наши дети, катастрофически его теряют.
Заставить мою двенадцатилетнюю дочь прочесть несколько страниц по-русски – забойный труд шахтера, вгрызающегося в скальные породы.
– Ну почитай «Трех мушкетеров»!
– Я уже читала на иврите.
– Вот видишь, а роман «Двадцать лет спустя» на иврит еще не переведен. Французского ты не знаешь, выходит, вообще эту книгу не прочтешь? А знаешь, сколько прекрасных книг на иврит еще не переведены, а на русский уже переведены? Ты согласна их не узнать никогда? А книги своей матери ты тоже будешь на иврите читать?
И т. д., и т. п.
И с бессильной горечью наблюдаешь, как медленно и неотвратимо уплывает твое дитя к берегам другого языка, и с ужасом понимаешь, что ему неинтересны книги твоего любимого Юры Коваля, что про Мэри Поппинс и про Винни-Пуха твой ребенок прочел уже на иврите, а по-русски не прочтет никогда.
Объявление на дверях книжного магазина: «Удержите детям язык!!!»
Два года подряд я предпринимала в этом направлении почти героические усилия. Например, отправила свою дочь на уроки русского языка и литературы в вечернюю русскую школу. После занятий пробовала обсуждать пройденное на уроках заискивающим тоном.
– Ну… что вы сегодня учили?
– Этого… ну… Толстов.
– Льва Николаевича Толстого! – преувеличенно артикулируя, говорю я. – Великого русского писателя. Что именно вы читали?
– Это… «Сливная костячка»…
– «Косточка»! – подхватываю я с преувеличенным вдохновением. – Это прекрасный рассказ для детей. А ты можешь пересказать мне содержание?
Она мнется, похныкивает, переминается с ноги на ногу и посматривает в сторону телевизора, где должна начаться популярная юмористическая передача «Зэ у зэ!» (точно это восклицание перевести невозможно, приблизительно так: «О, это оно!» или точнее: «Ото то!»). Актеры – довольно крупные мужчины, переодетые женщинами (огромные накладные сиськи, лохматые парики, вульгарно накрашенные губы), бегают друг за другом, виляя задами, падают на пол, задирая вверх волосатые ноги в дамских туфлях сорок второго размера, и щиплют друг друга за все мыслимые части тела.
Долгое время ничего, кроме недоумения и омерзения, эта политическая передача во мне не вызывала. Пока вдруг я не поняла: да это же не что иное, как площадный театр, карнавал в чистом виде!
– Если ты перескажешь мне содержание «Косточки», – говорю я, понимая всю жалкость этого педагогического приема, – я разрешу тебе включить телевизор.
Она долго думает, морщит лоб, ковыряет болячку на руке, выворачивая локоть, наконец говорит:
– В общем, там подняли хай из-за фруктов… Представляешь, считали, кто сколько съел! И папа сказал детям: «Дети мои! Или вы съели эту сливу? Или вы хотите через это хорошо получить? Не говоря уже об совсем, умереть?..»
– Можешь включить телевизор, – разрешаю я упавшим голосом.
Тут уж не до бесед типа «поговори со мною, мама!». Хоть бы на старости лет стакан воды нам подала, что ли, говорю я мужу, если к тому времени не забудет, как по-русски будет «вода»…
Любопытно, что все ино-земное, ино-родное, ино-культурное, попав сюда, в эту стихию кромешного карнавала, немедленно вовлекается в его бешеный водоворот. Глядишь – то тут, то там, в сумасшедшем пробеге мелькнет новая маска, размыкается на мгновение круг, принимая ее в хоровод и… вот уже мчится в колоннадах древней римской улицы Кардо какой-нибудь бывший инженер из Куйбышева, нацепив на себя костюм, например русского экскурсовода. Он бежит, машет палкой, на конце которой завязана яркая тряпочка, и кричит: «Группа из Винницы, не разбредаться!»
Кстати, на ниве русского экскурсоведения происходят чарующие истории, буквально напичканные обмененными смыслами.
Один мой знакомый, экскурсовод, вел недавно группу туристов из Баку по маршруту «Еврейский Иерусалим». На всем протяжении экскурсии под ногами у него путался маленький глуховатый старичок, слушал, оттопыривая ладошкой большое седое ухо.
Стоя у Стены Плача, экскурсовод говорил, что после Катастрофы европейского еврейства произошел взрыв национального самосознания, и евреи провозгласили независимость Израиля.
После экскурсии старичок подходит к моему приятелю и, явно волнуясь, спрашивает с чудовищным акцентом:
– Послушай, дорогой, не могу понять: какой тут у вас катастроф, какой взрыв?
Тот терпеливо и громче объясняет, что после гибели шести миллионов евреев, что принято называть Катастрофой, произошел взрыв на-ци-ональ-ного са-мосоз-нания, и евреи провозгласили государство.
Старичок вздохнул с огромным облегчением, заулыбался и говорит:
– Ух, слав богу! Я думал – Пампей!
К слову: костюм полураздетого туриста под знаком хамсина и к нему маска с намалеванным на ней обалделым выражением: «Ну и жарища тут у вас!» – явление, распространившееся за последние годы, с падением железного занавеса.
К моей подруге приехал в гости – поглядеть Израиль – сват Владимир Иванович, между прочим, кандидат химических наук. Приехал, разделся до трусов (у нас действительно довольно жаркий климат) и принялся расхаживать по квартире, вышлепывая ладонями на голом животе «Турецкое рондо» Моцарта. День эдак ходит, два, неделю ходит… Наконец домашние, ошалев от «Турецкого рондо», решили удалить этого ударника из дому – хотя бы на день – проверенным способом: ему купили билет на экскурсию в «Иерусалим – город трех религий».
Живут они под Хайфой, а экскурсионный автобус отправляется от центрального автовокзала. Ну, объяснили свату, как добраться до автовокзала, нарисовали – куда и как, только забыли написать название экскурсии. А он, пока добирался, забыл – в какой город едет, помнил только, что в столицу. И пошел он искать по улицам русскоговорящих людей (что нетрудно), и наткнулся на совсем свеженькую репатриантку, и спрашивает ее:
– А скажите, гражданочка, какой у вас тут город – столица?
И эта дура отвечает – что? Правильно: Тель-Авив. Как ее учили в советской школе: «длинная рука Тель-Авива».
И пошел сват Владимир Иванович искать автобус, следующий по маршруту «Тель-Авив – город трех религий», что на слух местных жителей звучит ну до колик смешно.
Кстати, о религиях.
Я не говорю о взаимоотношениях трех великих религий, сгрудившихся на священном пятачке Масличной горы. Я говорю о противостоянии, распрях и противоборстве внутри каждой из них. Да у нас внутри каждой конфессии сект, ответвлений, дворов и направлений – видимо-невидимо! У нас только православная церковь делится здесь на Белую и Красную, смертельно враждующие церкви. А католики, а протестанты, а армянская и грузинская епархии! А лютеране! А «Христиане за Израиль», устраивающие ежегодные абсолютно карнавальные шествия по Иерусалиму! А… христианская Пасха – с усиленными нарядами израильской полиции, стянутыми на площадь перед храмом Гроба Господня, Пасха с ежегодными кровопролитными потасовками между братьями во Христе, принадлежащими к разным направлениям христианства, – вот это всем карнавалам карнавал!
Есть в Иерусалиме ресторанчик «Кенгуру». Держат его Лина и Дато – она грузинская еврейка, он настоящий грузин, истовый христианин, долгое время был секретарем патриарха православной грузинской церкви. Бывший российский народ любит там бывать: симпатичные хозяева, вкусная кухня, да и компания своя собирается.
Однажды художник Саша Окунь привел в «Кенгуру» своего гостя из Италии, отца Серджио, иезуита. Вот, говорит, познакомьтесь, это отец Серджио. Иезуит.
Дато, который и без того похож на кота, выгнувшего спину, совершенно ощетинивается, отзывает Сашку в сторону и шипит:
– Ты что! Как ты смел привести иезуита в мой дом! Их на порог пускать нельзя, в Швейцарию, например, их не пускают, указ такой есть!
Тем не менее прирожденное грузинское гостеприимство, очевидно, не позволило ему выгнать гостей. Они уселись за стол, заказали вина, сациви, лобио…
И отец Серджио, который к тому же оказался экуменистом, сидит, вкусно ест, благодушествует и рассуждает, как прекрасно станет в мире, когда сольются в любви все веры.
Дато слушает, слушает и тихо закипает.
– Серджио, скажи, – наконец вкрадчиво спрашивает он, – когда все-все сольются, кто наверху будет?
Отец Серджио все-таки иезуит, выучка чувствуется, складывает под подбородком ладони лодочкой, возводит очи и смиренно произносит:
– Наверху будет Бог.
И Дато ничего не остается делать, как повторить этот жест. Несколько секунд они сидят друг напротив друга, как два прихожанина одного прихода.
Помолчали… Трапеза возобновляется.
– Серджио, скажи, – опять вкрадчиво вступает Дато, – когда все-все сольются, ниже Бога кто будет?
– Папа, – кротко отвечает иезуит.
– Ни-ког-да!! – кричит Дато, сверкнув глазами.
Помолчали… Из кухни приносят свежую зелень, молодую картошку с солеными огурчиками…
– Серджио, скажи, – опять вступает Дато, – когда все-все сольются, в самом-самом низу, внизу всех – кто будет?
– Я, – отвечает иезуит, улыбаясь.
– Нет, я!! – страстно восклицает грузин, стукнув кулаком по столу.
Но пока не слились в порыве любви все-все веры – с единой вершиной и единым краеугольным камнем в основании – нашим добрым Дато, – случается так, что на наших площадях бьют кровавые фонтаны.
Впрочем, это тоже в традиции средиземноморского карнавала – возьмите любую итальянскую или испанскую средневековую новеллу: под грохот музыки и раскаты смеха, в брызгах огней всегда сводились счеты с неверной возлюбленной, жестоким мужем, коварным другом, подлым предателем…
Вот только наша ближневосточная мясорубка внесла нечто новое в историю извечного арабо-израильского карнавала: когда в воздух взлетают ни в чем не повинные, никого не предавшие, никому не изменившие дети…
Возвращаюсь домой из города. Дверь открывает взвинченный сын, кричит мне:
– Где ты гуляешь, мы тут с ума сходим!!!
По телевизору передают экстренный выпуск новостей: двадцать минут назад в центре Иерусалима, на пешеходной улице Бен-Иегуда (в одном из магазинов которой я час назад купила себе отличный ежедневник в кожаном переплете), взорвали себя три террориста-самоубийцы. По предварительным данным, они были переодеты в женские платья и прогуливались среди столиков кафе, вынесенных на улицу в этот упоительный час предвечерней прохлады. Есть много раненых, больше десятка убитых, среди них – дети, женщины…
На экране телевизора под вой амбулансов мечутся санитары с носилками, бегут полицейские, мелькают искаженные ужасом, окаменевшие от шока, залитые слезами лица людей…
Я представляю себе, как три безумца надевают на себя огромного размера лифчики, чтобы больше вошло в них взрывчатки, как нацепляют парики, надевают дамские туфли, красят помадой губы, – как три безумца готовятся к последнему в своей жизни карнавалу только ради того, чтобы убить еще с десяток евреев. Я пытаюсь представить себе, как они переодевались, как смотрели друг на друга – ведь это страшно весело, ведь это смешно, ведь невозможно не рассмеяться?!!
Я швыряю в угол сумку с новым отличным ежедневником, который в любую минуту может больше не пригодиться мне в этой жизни, и ору:
– Гос-по-ди, на-до-ело!! Господи, как надоел этот кошмарный карнавал! Господи, что надеть, во что переодеться, чтобы стать невидимой, недостижимой, неуязвимой! Господи, во что переодеть детей, всех близких, весь народ, чтоб перестать быть вековечной мишенью!!
На следующее утро после бессонной ночи я запрещаю домашним включать телевизор и радио. Я не хочу ничего слышать, ни одной подробности о вчерашнем теракте, ни одного имени, не хочу видеть ни одной фотографии жертв. Я выжата, как лимон, измучена, у меня нет сил не то что работать – просто жить, двигаться, совершать какие-то бытовые действия.
Медленно шаркая тапочками по кухне, в полной тишине варю себе кофе и слышу, как, почти крадучись, чтобы не раздражать меня, муж выходит за газетой, а потом тихо шуршит страницами в комнате.
Вдруг раздается – я ослышалась, наверное? – его почти истеричный смех.
– Опечатка! – кричит он мне. – Ну и опечаточка!
И показывает в разделе «Объявления»:
«Каин с большим опытом предлагает услуги по части обрезания».
Ну конечно. Наборщица, наверняка новая репатриантка, вместо «коэн» набрала более понятное ей – «Каин», мгновенно вписавшись в стихию этого вечного, невозможного, не остановимого ни на минуту, трагически прекрасного карнавала.