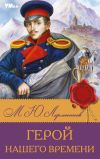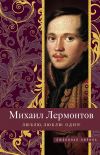Читать книгу "Ангелы и демоны Михаила Лермонтова"

Автор книги: Дмитрий Быков
Жанр: Документальная литература, Публицистика
Возрастные ограничения: 18+
сообщить о неприемлемом содержимом
Вот честный контрабандист есть. Есть честный служака. Есть честный юнкер Грушницкий, списанный с такого же честного Мартынова. Про Печорина никто не скажет, что он честный. Вся честность Печорина заключается в отсутствии у него той идентификации, с которой он мог бы радостно и успокоено совпасть. Он места себе нигде не находит. И немудрено, что главным героем его становится такой персонаж, как Наполеон. И другой замечательный трехсложник, едва ли не лучший амфибрахий в русской литературе Лермонтов посвящает ему, когда цедлицский «Воздушный корабль» перелицовывает на новый лад…
По синим волнам океана,
Лишь звезды блеснут в небесах,
Корабль одинокий несется,
Несется на всех парусах…
Думаю, что сквозная тема, сквозной инвариант лермонтовской любовной лирики, о чем тоже надо, наверное, сказать, удивительным образом разрушает этот демонический образ. Лермонтовский лирический герой, в отличие от Печорина, очень сентиментален и лиричен. Он не может поступить с чистотой, с невинностью так, как поступает с ней Печорин в «Княжне Мери», в общем, довольно жестоко надругавшись над милой девочкой. Лирический герой Лермонтова как раз скучает по абсолютной чистоте. И влюбиться может только в эту абсолютную чистоту. Вот здесь, наверное, его главная любовная драма. Достаточно смешно это звучит, но вспомним себя подростками, и мы поймем, почему это нас так трогает. Всем нам всегда хотелось бы обладать абсолютной чистотой. Хотя мы прекрасно понимаем, что как только мы начнем ею обладать, ни о какой чистоте здесь уже не может быть и речи. Я думаю, что лермонтовская любовная тема – это какое-то, может быть, продолжение исламской мечты о вечных гуриях, которые всегда остаются девственницами, сколько бы ими ни обладали. Лермонтовский герой, он как в «Сказке для детей» – помните задуманную им поэму в сорок песен, из которой написано 27 строф? Вот эта вечная мечта, когда странный Мефистофель, странный Бог Зла, такой Демон, прилетевший в Петербург, любуется вариацией княжны Мери – петербургской девочкой, едва развившейся…
На кисее подушек кружевных
Красуется младой, но строгий профиль…
Тогда он любуется этой чистотой и боится, не может ее взять именно потому, что тогда она перестанет быть ангелом. И ровно так же последовательно этот сюжет реализуется и в «Демоне», где Демон мечтает только об абсолютно недоступном. Потому что стоит ему завладеть Тамарой, как в ту же секунду он перестанет ее желать. Вот отсюда вечная трагическая тема. Лермонтов, в отличие от Пушкина, не мечтает о женщине равной, не мечтает о женщине-собеседнице, не мечтает даже о мадонне семейственного очага, потому что ничего ужаснее семейственного очага он не может себе представить. Помните, как Печорин говорит о возможности тихого счастья и тут же с негодованием отбрасывает ее? «Я, как матрос, рожденный и выросший на палубе разбойничьего брига: его душа сжилась с бурями и битвами, и, выброшенный на берег, он скучает и томится, как ни мани его тенистая роща, как ни свети ему мирное солнце; он ходит себе целый день по прибрежному песку, прислушивается к однообразному ропоту набегающих волн и всматривается в туманную даль: не мелькнет ли там на бледной черте, отделяющей синюю пучину от серых тучек, желанный парус, сначала подобный крылу морской чайки, но мало-помалу отделяющийся от пены валунов и ровным бегом приближающийся к пустынной пристани…» Ничего этого для него нет. Для него есть только вечная тоска по тому недосягаемому идеалу, который он, едва заполучив, немедленно проклянет.
И эта, может быть, подростковая, может быть, смешная идиллия, к сожалению или к счастью, отзывается в нас самой невероятной, самой больной нотой. Это наша 13-14-летняя мечта о том, что никогда не будет нашим. Многие говорят о том, что Лермонтов – писатель для подростков. Когда-то Роберт Шекли, замечательный фантаст, приезжая в Россию, на мой вопрос о своем любимом подростковом чтении ответил – «Так говорил Заратустра». Когда я несколько смутился, он сказал: «После пятнадцати лет это уже смешно». Действительно, пожалуй, это так. Но тот, кто не читал этого в пятнадцать лет, тот в тридцать – глубоко обделенный человек. Может быть, потому, что он не перенес этой кори, не перенес этой прививки.
Лермонтов не столько наш вечный спутник, хотя это, безусловно, так, – это наше воспоминание о потерянном аде отрочества. Конечно, об аде, об отроческой пустыне. Но тем не менее без этого ада душа никогда не была бы совершенной. Больше того, из этого ада так невероятно чиста, так недосягаема вот эта лазурная степь, та пустыня, о которой мы не перестаем мечтать.
Сегодня мы живем – не скажу в лермонтовской ситуации, это было бы жирно, это было бы чересчур комплиментарно – но мы живем в лермонтовской декорации, скажем так. Мы живем в том самом мире, который предоставляет нам возможности для сверхчеловечности. У нас вокруг полно добрых, милых, порядочных людей, которые, может быть, гораздо лучше Печорина, которые, может быть, человечнее Печорина, но мы должны помнить и о том, что соблазн великой души тоже остается, и дай бог, если она реализуется в творчестве. В конце концов, Лермонтов мог бы повторить, наверное, о себе слова Отто Вайненгера предсмертные: «Я умираю, чтобы не стать убийцей». Может быть, его предсмертная трансформация была так ужасна, что другого выхода, кроме фактического самоубийства, у него не оставалось. Может быть, это выход для единиц. Но, по крайней мере, никто не запретит нам мечтать о том порыве за пределы человеческого, которым дышит каждая лермонтовская строчка. И хотя мы никогда, может быть, не станем как он и не должны стать как он, но каким-то далеким веянием рая эта поэзия должна для нас остаться. Потому что если об этом не помнить, вся наша жизнь сведется к скучным песням земли.
Вот это все, что я имел сказать, если у вас будут какие-то вопросы, я на них с удовольствием отвечу.
Дуэль Лермонтова очень похожа на самоубийство. Правда, чужими руками. В то же время Лермонтов – глубоко верующий человек и понимает, какой это грех: самоубийство – грех и подставление другого не легче.
Здесь большая этическая проблема. Мы говорим о Лермонтове как о человеке религиозного, если угодно, мистического опыта, но говорить о нем как о человеке христианского опыта довольно сложно. Не случайно в «Герое нашего времени» есть откровенная проговорка: «Я люблю врагов, но не христианскою любовью». Понимаете, почему он любит: потому что «они меня забавляют, они меня разогревают мою кровь». Мария Васильевна Розанова любит повторять: «Из вас из всех я одна – христианка, потому что искренне люблю своих врагов». «Люблю их, – как она добавляет, – гельминтологической любовью». Замечено, безусловно, точно.
Лермонтовское христианство вообще проблема сложная. Я бы сказал, что он скорее поэт ислама в гораздо большей степени, поэт Корана. Потому что если Пушкин говорил, что мщение есть христианская добродетель, и в этом смысле уже довольно далеко отходил от Евангелия, то Лермонтов отошел еще дальше. И, будучи человеком опыта религиозного и мистического, он тем не менее к смерти относится не совсем по-христиански – игра со смертью для него важная добродетель. И жизнь в соседстве со смертью. Думаю, если бы при его жизни была переведена книга «Самураи» Ямамото Цунэтома, это было бы его настольное чтение. Это христианство в очень радикальном изводе, в очень предельном его понимании, экзистенциальном. Лермонтов в каком-то смысле такой первый русский экзистенциалист, поэтому говорить о том, что самоубийство представлялось ему грехом, я думаю, не совсем верно.
Дуэль Лермонтова – это та тема, которой можно было бы посвятить отдельную лекцию, ежели бы у нас было на то время и желание, и если бы у нас действительно имелся серьезный специалист. Я таким специалистом называться не могу, но в этой дуэли очень много странностей. Значит, мы НЕ ЗНАЕМ, из-за чего они поссорились. Между ними был какой-то разговор еще после выхода с этой злосчастной вечеринки, когда он придрался к двум кинжалам, когда он Мартынова всячески задирал. Состоялся еще какой-то разговор, который привел к окончательной ссоре. О чем они говорили, мы не знаем. Есть версия, что с сестрой мартыновской были какие-то трения, какая-то интрижка. Есть версия даже, что Лермонтов вскрыл и прочел мартыновское письмо к родне, даже такое приходится читать, хотя никаких доказательств нет. Темная история. Те многие, побывавшие на месте дуэли в Пятигорске, видели этот типичный для начала двадцатого века очень модерновый, очень дурновкусный и вместе с тем очень эффектный памятник. Те, кто знают этот тенистый и лесистый склон и пятигорскую атмосферу и могут себе еще представить дикую грозу, которая на ровном месте на чистом небе в этом момент разразилась, – те понимают, что здесь, наверное, какие-то не совсем человеческие силы взыграли. Во всяком случае, вспоминал Столыпин, что взгляд Лермонтова в последние дни выдержать не мог никто, что-то страшное глядело из глаз его – почти гоголевская формулировка. Было ли это искание смерти? Безусловно. Было ли предчувствие? Безусловно. И более того, есть даже версия, что Мартынов-то собирался выстрелить в воздух, как выстрелил Лермонтов. Но Лермонтов ведь перед смертью сказал: «Буду я еще стрелять в этого дурака!» Вот после этого не выстрелить – это уже действительно надо было обладать каменным самообладанием. То, что Мартынов абсолютно не понимал, с кем он имеет дело, это верно, но ведь, простите меня, и 90 % лермонтовских современников не понимали, с кем они имеют дело.
Если мы рассмотрим подробную хронологию лермонтовских последних дней, прочтем его биографию, изложенную объективно, если мы почитаем некоторые его сочинения, адресованные недругам и даже женщинам, которые ему имели несчастье не понравиться, мы поймем, что быть другом этого человека и любить его было чрезвычайно сложно. Не говоря уже о том, что, пожалуй, из всех русских литераторов этот позволял себе больше всего. Россия и вообще не знала, вот наша национальная религия и литература наша – она не знала, как ни странно, таких уж особенно праведных служителей. Пожалуй, тут одного Пушкина можно вспомнить как пример такой абсолютной солнечности, и то нам вспоминается все время цитата из гадкого булгаринского письма: «Сам подумай, можно ли было любить его, особенно пьяного?» В общем, русские национальные добродетели не очень совпадают с официальными, ежели мы вспомним некоторые выходки Ивана Сергеевича Тургенева и Николая Алексеевича Некрасова (о нем мы маленько еще поговорим в свой час), да и Лев Николаевич Толстой тоже у нас, прямо скажем, не был образцом смирения. На этом фоне то, что вытворял Лермонтов, иной раз способно вывести из себя и самого пылкого его поклонника. Конечно, говорить здесь о какой-то безоговорочной вине, видеть в Мартынове такое же страшное, гаденькое существо, как в Дантесе, затруднительно, – это орудие судьбы, «топор судьбы», как называет себя иногда и сам Печорин. То есть, конечно, это искание смерти и, думаю, по вполне сознательной причине: он понимал, что вокруг него тоже людей косит, обратите внимание, что и судьба секундантов сложилась крайне несчастливо. Васильчиков, который потом никогда не знал покоя из-за мук совести, Глебов, через год убитый на дуэли, в общем, достаточно это все было безрадостно.
Если бы этот человек не был так ужасен сам для себя и для окружающих, то «Дубовый листок оторвался от ветки родимой…» он бы не написал. Потому что сила отторжения, которая уносила его так высоко, питалась во многом той мерзостью, в которую он загонял сам себя. Если мы прочтем воспоминания Сушковой, например, настолько откровенные, что их старались всегда объявить фальсификацией, мы поймем, что он и с любимыми не особенно церемонился. Ведь эта та Сушкова, которой посвящено
У врат обители святой
Стоял просящий подаянья
Бедняк иссохший, чуть живой
От глада, жажды и страданья.
Куска лишь хлеба он просил,
И взор являл живую муку,
И кто-то камень положил
В его протянутую руку.
Так я молил твоей любви
С слезами горькими, с тоскою;
Так чувства лучшие мои
Обмануты навек тобою!
Пишет этот семнадцатилетний мальчик, который прекрасно умеет коленями выжимать у читателя слезы, да? А то и убивать ногами. Это действительно страшное сочетание сентиментальности и жестокости, которое в Лермонтове прослеживается на всем его пути. Можно ли это назвать христианскими добродетелями, мы не знаем, но знаем, что это можно назвать русскими добродетелями.
– Расскажите еще о женщинах (смех в зале).
– Мне сложно об этом говорить, потому что я мало знаю. Я всех отсылаю к «Загадке Н.Ф.И.» – замечательному андрониковскому расследованию. Но трудно миновать одну судьбу, трудно миновать Вареньку Лопухину, из которой сделана была впоследствии так безжалостно Вера. Вот эта идеальная любовь, бывшая подруга, вышедшая за другого, встреча с ней, потом возобновление любви этой. Я думаю, что «Разливы рек» Паустовского очень сильно преувеличивают близость Лермонтова с Щербатовой, потому что Щербатова – тот идеал, к которому лучше не приближаться. А вот Варенька Лопухина – это действительно такая вечная любовь, жалкая, робкая, безнадежно обожающая, все черты ее отданы Вере, включая родинку на щеке. Пожалуй, это та единственная любовь всепрощающая, любовь такого порочного ангела, которая могла Лермонтову хоть отдаленно заменить звуки небес. Его история с Варенькой Лопухиной, подробно и много раз записанная, – она могла хоть как-то ему действительно светить.
Тут вообще интересная штука. Немножко сделаю уклон в сторону. Я забыл рассказать об одной важной закономерности. Эта моя гипотеза, к сожалению, всеми отвергается с порога, а очень напрасно: в русской литературе есть интересные четыре «лишних человека», даже пять, все они образованы от названий крупных или, может быть, мелких русских рек. Есть Онега – понятно, Онегин, есть названный в честь Печоры, совершенно понятно, по той же логике Печорин, который в отличие от дурака Онегина, хлыща и развратника, действительно «лишний человек», действительно титаническая фигура. Есть река Руда, текущая себе по Средней России, есть Рудин, продолжающий линию лишнего человека. И есть Волгин у Чернышевского в «Прологе», тоже своего рода «лишний человек» в не очень маленьком губернском городе на Волге, где тоже он не находит приложения своим силам. Но есть еще одна великая сибирская река, в честь которой назвался еще один «лишний человек», явно сознающий себя лишним, потому что мы все тут гадаем о тайне псевдонима, мы думаем, что он влюблен был в некую Елену… В Елену был влюблен Платон Еленин, существо гораздо более мелкое. А может быть, ему кто-то из приятелей с такой фамилией это одолжил, – совершенно очевидно, что это Владимир Ульянов, читавший, конечно, «Пролог», уж во всяком случае знавший о нем, знавший о Волгине, Онегине, Печорине, сознает себя в России точно таким же могучим, вольнолюбивым и абсолютно лишним человеком, поэтому имя Ленин имеет именно такой генезис. Все мои попытки в этом убедить почему-то наталкиваются на скепсис историков, которые не могут предложить никакой сколько-нибудь альтернативной версии. И, видимо, так и будет до тех пор, пока какой-нибудь Енисеин или Байкалин, или Москвин, Окин не опрокинет, наконец в очередной раз вот эту скучную русскую действительность. Так что Печорин и Ленин гораздо более близкие персонажи, чем мы привыкли думать. И, может быть, наша суровость к вождю пролетариата несколько смягчится, если мы представим, какие бури разрывали его одинокую лишнюю душу (смех в зале).
– А с Ленским он себя не ассоциировал?
– Нет, я думаю, что такая ассоциация у него не возникала никак: во-первых, ЛенСКИЙ, а вообще – СКИЙ – это всегда какая-то странная, знаете, в русской литературе слабоватость. Конечно, она восходит не к еврейству, не к Польше, но герой с фамилией – СКИЙ очень редко бывает удачлив и положителен. Он всегда немного Бельский, Вольский, что-то в нем немного не так. Хорошие герои кончаются на – ИН – это герои такие, враждебные человечеству и злобные, и на – ОВ – это герои добрые и симпатичные. Это такие варианты, как Левин, Каренин, а Вронский… вот что-то в нем все-таки не то, что-то в нем не наше, да? А вот Нехлюдов – он совсем хороший. Кстати, очень интересная тема русских литературных фамилий, но вряд ли кто за это возьмется.
К вопросу о пресловутой женской привлекательности: вот тут немножко стоит сделать крен в модель толстовского отношения к женщине – я очень люблю историю написания «Воскресения». Он писал, все шло ровно и гладко до середины, до 1895 года (так называемая «коневская» повесть, повесть со слов Кони) все шло хорошо, и вдруг оно у него застопорилось. Вы все помните этот сюжет великолепный, Нехлюдов узнал Катюшу Маслову, Нехлюдов пытается ее выцарапать из каторги, ничего не получается, тогда он идет в каторгу вместе с ней – ну, едет с большим комфортом, но сопровождает ее туда. И вот тут у Толстого застопорился сюжет. Дело доходило до таких припадков бешенства, что на невинный вопрос Софьи Андреевны, как продвигается «коневская» повесть, он взял да и грохнул сервиз, каких в Ясной Поляне, слава богу, было много, видимо, на случай дальнейших творческих застоев. Тем не менее однажды, войдя в «комнату под сводами» где-то в 1896 году, Софья Андреевна увидела Толстого ликующим, очень радостным, и он сказал: «Ты представляешь… Я все понял! Она за него не выйдет…» А по-че-му?! А потому что она полюбит другого, полюбит бедного пропагандиста, бедного марксиста, идущего в ссылку. Вот это очень точное понимание женской природы и понимание ситуации вообще. Потому что если бы Катюша Маслова вышла за Нехлюдова, полюбила бы его и стали бы они жить-поживать и добра наживать на далекой сибирской заимке, получилась бы чудовищная пошлятина, махровейшая. А получился гениальный роман, я думаю, один из лучших в конце XIX века.
Это не потому, что женская природа подлая такова, а потому, что при таком варианте вышло бы, будто Нехлюдов идет в ссылку из-за нее. А так получилось, что он идет только из-за себя, и настоящий подвиг – это тот, который никем не оценен. Я считаю, что это продолжение лермонтовской линии, потому что у Лермонтова откровенно черным по белому в «Герое нашего времени» сказано: он любит не ради «них», он любит ради себя, ради того, что ему это дает. И, в общем, страшную вещь скажу, но ТАК И НАДО!
– А можно пояснить, почему совершенно разные образы Печорина созданы в «Княгине Лиговской» и, соответственно, в «Герое нашего времени»?
– Видите, «Лиговскую» писал молодой человек для шутки, в соавторстве с приятелем Раевским, насколько я помню. Писал без какой-либо надежды на публикацию, без каких-либо видов на серьезный текст. Это еще раннее, такая абсолютно петербургская история, с маленьким человеком, сюда же затесавшимся. Печорин здесь романтический персонаж. Печорин «Героя…» – это страшный, трагический, верный, к сожалению, автопортрет. И не случайно Печорин в «Герое…» обретает все лермонтовские черты: глаза, которые никогда не смеются, гибкость всего стана, вот эти маленькие руки, позу бальзаковской тридцатилетней кокетки и силу, которую он тем не менее выдает.
То, что он любил в своем облике – широкие плечи при маленьких руках, выносливость, храбрость, устойчивость при отсутствии бытовой приспособленности – вот это признак аристократизма. Ранний Печорин – романтический герой, поздний Печорин – автопортрет. Только так я и могу это объяснить, но, строго говоря, такова была эволюция всякого крупного писателя. Всю жизнь выдумываешь героя, а под конец начинаешь писать о себе, потому что уже не боишься. Может быть, именно поэтому Левин еще недостаточно похож на Толстого, а Нехлюдов уже очень похож. И в нем внутренне больше толстовского, он отдал ему больше своих колебаний, своей робости, не побоялся признаться в собственной порочности. Левин ведь чист невероятно, а Нехлюдов не чист. И по этой же логике, наверное, и протагонисты Достоевского так сильно меняются, потому что он появляется перед нами, например, в «Бесах» в образе мудрого старца Тихона, который все про всех понимает. А в «Братьях Карамазовых» это сквозной собирательный образ, собранный из четырех братьев, где большинство составляют очень неприятные персонажи. Так что чем дальше в лес, тем честнее. Виктор Шкловский однажды сказал Лидии Гинзбург: «Бог даст, Вы доживете до глубокой старости, разозлитесь и напишете, наконец, о людях то, что думаете о них действительно».
– Почему он тогда взял то же самое имя, того же героя?
– Имя как раз очень удачно придумано, потому что совершенно очевидна его преемственная связь с Онегиным. Но просто Печорин от Онегина бесконечно дальше. Печорин в «Княгине Лиговской» – это светский молодой человек, Печорин «Героя нашего времени» – это «печальный демон, дух изгнанья». А фамилия придумана ловко, я думаю, что он и дальше бы писал про этого героя.
– Вы сравнили времена, когда писал Лермонтов, с нынешними. Скажите, есть ли сейчас, с вашей точки зрения, поэт, сравнимый по масштабам с Лермонтовым?
– Нет. Хочу сделать очень серьезную поправку. В свете своей типологической теории циклической, которая всем уже надоела, но мне еще нет, я вижу абсолютно лермонтовскую фигуру в русском Серебряном веке, фигуру совершенно очевидную – это Гумилев. Более того, его «Миг» – это абсолютная калька с «Мцыри», сознательная, поздняя лирика, предсмертная лирика 1921 года – это, конечно, отзвук гениальной предсмертной лирики Лермонтова. Эти люди перед смертью пережили какое-то мистическое откровение. Более того, и Печорин, и Лермонтов всю жизнь мечтали о путешествиях. Печорин говорил, что если могу – поеду путешествовать в Америку, в Африку, только, боже упаси, не в Европу. Поэтому, собственно, Гумилев в Европу-то ездил очень мало, а в Африку дважды и очень успешно.
В Серебряном веке я такую фигуру типологически вижу, а сейчас почему-то у нее не получилось осуществиться: то ли гнет недостаточен, то ли, что более вероятно, военная служба очень сильно стала разлагаться. Уже и Гумилеву она казалась идиотской, а Гумилев-то все-таки вольноопределяющийся, два солдатских Креста, Два Георгия получил и к третьему был представлен. А вот что касается Лермонтова, то он мог зародиться, видимо, только в гвардии или в Нижегородском полку армейском, куда он был отставлен, значит, отправлен за «Смерть поэта».
Предположить, что сегодня в каком-либо полку зародился поэт, довольно сложно, видимо, как-то армия деградировала, а гражданская жизнь таких возможностей не предполагает. Надо подумать. Вообще, вы меня натолкнули на интересную задачу, потому что, может быть, он выйдет не из военной, а из кавказской среды… такой пограничной… Потому что уж что-что, но одно в нашей реальности абсолютно не изменилось – «по камням струится Терек,// плещет мутный вал,// Злой чечен ползет на берег,// точит свой кинжал.// Но отец твой – храбрый воин,// закален в бою, //Спи, малютка, будь спокоен, //Баюшки-баю»». Очень может быть, что такая фигура где-то там вызревает, но пока просто не заявила о себе.
– Это будет нерусский поэт?
– А знаете, странно, Чечня же тоже не русская республика, вместе с тем как бы и русская, эти же границы стираются. Можем ли мы назвать Лермонтова поэтом русской поэтической традиции? Он в гораздо большей степени принадлежит традиции кавказской. Отсюда его интерес к кавказской песне, к грузинскому фольклору, к кавказской стилизации – такой вечный кавказский пленник.
Кстати, вот некоторые напоминали мне о судьбе Сергея Бодрова в этой связи. Но Бодров, конечно, Царствие ему Небесное, фигура совершенно другого плана, другая личность. Надо поискать среди молодых поэтов, склонных к воинственности. Может быть, такой человек есть, а может быть… Вот что самое странное: при возрождениях мировой души она чему-то научается… Вот, скажем, Блок, возродившись, как мне кажется, в Окуджаве, научился писать прозу, зато разучился писать поэмы. А Лермонтов новый, возродившийся, он, может быть, вовсе не пишет, а он, может быть, занят или политикой, или войной, или программированием, чем-то, нам еще неизвестным. Но то, что такой тип обязательно есть, тип сверхчеловека, порожденного безвременьем, – это даже к бабке не ходи, он ходит где-то рядом с нами обязательно. Просто, я думаю, его еще не печатают, потому что для толстых журналов он слишком радикален, а издаться за свой счет у него нет богатой бабушки.
– Лермонтов и Бродский…
– Это интересная очень тема, потому что Бродский, пожалуй, никаких влияний Лермонтова в себе не несет. У него даже нет сколько-нибудь явных отсылок к Лермонтову, кроме, может быть, нескольких скрытых цитат в ранних стихотворениях («Мальчику вторя..»), и то я не уверен, что это о Лермонтове речь идет. Я думаю, что Лермонтов повлиял на него в наименьшей степени, именно потому, что в Лермонтове есть почти невыносимое сладкозвучие, во всяком случае, в лучших стихах, есть удивительная метафизическая глубина. А Бродский любил, когда стихи более резкие, царапающие. Он в огромной степени растет из Слуцкого, и я думаю, что Лермонтов был тем соблазном, который он отринул сознательно.
Вот пушкинское у Бродского есть, пушкинский объективизм, пушкинский эллинизм, так своеобразно понятый, через Мандельштама, конечно, преломленный. А лермонтовская линия как-то до него не дошла. Ведь понимаете, в чем дело? Бродский, при всем своем жизнеотрицании, при всем своем скепсисе – очень радостный, очень энергичный поэт. И видно, что это поэт, умеющий хорошо устроиться в жизни, хорошо в ней укорененный, отсюда его великолепная американская успешность. А Лермонтов ему противоположен по самому типу. Бродский всю жизнь влюблен в одну и всю жизнь вымещает эту несчастную любовь на остальных, которые падают к его ногам. А Лермонтов, как ни странно, фигура гораздо более целомудренная и гораздо более одинокая. Бродский – очень социолизированный поэт, очень ориентированный на отклик. Лермонтов – поэт одинокий, застенчивый и даже друзьям не всегда читающий и не любящий печататься. Бродский – агрессивно романтический поэт. Лермонтов – поэт аскезы религиозной. Лермонтов – очень русский поэт, а Бродский очень еврейский, грубо говоря. И при том, что, конечно, Бродский – поэт замечательный, но уж очень ветхозаветный, а Лермонтов совсем даже наоборот. Я думаю, что Лермонтову бы нравились стихи Бродского, я уверен, что Бродскому нравились стихи Лермонтова, но более несовместимую пару мне в русской литературе трудно придумать. Даже Гумилев и Ахматова, мне кажется, влияют друг на друга больше.
– И в «Просодии» нет?
– В «Просодии»… Бродский же очень рано свою «Просодию» начал насиловать, мучить и переводить в дольник, а трехсложников у него нет почти вовсе. Наверное, они где-то есть. Ну там…
Еврейская птица ворона
Зачем тебе сыра кусок?
Но это единичный случай такой. Амфибрахий. Основной размер Бродского – это сначала пятистопный ямб, потом дольник, даже хорея у него мало. Что касается Лермонтова, то тут, боюсь, его великолепное ритмическое разнообразие и его музыкальность каким-то образом Бродскому очень противопоказаны. Объединяет их только гордыня, но эта гордыня очень разной природы.
– На прошлой лекции вы приводили слова Толстого, что если бы Лермонтов прожил еще сколько-то лет, «всем нам нечего было бы делать». Как вы думаете, он достиг бы психологизма Достоевского?
– Вот насчет Достоевского не думаю, потому что Достоевский – все-таки такой эксцесс на этом аристократическом пути русской литературы. Потому что аристократизм Лермонтова, аристократизм Толстого и некоторое подчеркнутое плебейство разночинства, неровность, неловкость, тушевание Достоевского одновременно с дикими комплексами – это немножко разные дела. Я не думаю, что он дошел бы до этого, и уж представить себе, что алмазная проза «Героя нашего времени» превратилась бы неряшливое пришепетываение «Дневника писателя», очень трудно. Хотя, конечно, и тот гений, и другой гений. Но просто вот ничего бы не получилось. А то, что он шел толстовским путем, довольно очевидно. Толстовским, я думаю, сразу в двух планах: где шло и к большому историческому роману, который он, по свидетельству Белинского, задумал – трехтомный роман из эпохи Екатерины, потом из 1812 года, потом из 1840-х. И думаю, что дело шло к созданию новой религии, во всяком случае, к углублению религии, какое предпринял Толстой, авторской редакции религии. Только если Толстой пытался искать на пересечении с иудаизмом, как ни парадоксально это звучит, потому что очень многие принципы у него оттуда взяты, то Лермонтов искал бы на пересечении с исламом. И думаю, что для сближения России с исламом сделал бы больше, чем все остальные, потому что Коран во многих отношениях для него источник вдохновения и суфийские традиции тоже. Думаю, что он двигался бы так или иначе в сторону религиозного пересмотра, в сторону какой-то религиозной реформации. Думаю, что и тургеневские романы могли быть вдохновлены в огромной степени именно его прозой, а «Стихотворения в прозе» так прямо восходят к
Синие горы Кавказа, приветствую вас! вы взлелеяли детство мое; вы носили меня на своих одичалых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня приучили, и я с той поры всё мечтаю об вас да о небе. Престолы природы, с которых как дым улетают громовые тучи, кто раз лишь на ваших вершинах творцу помолился, тот жизнь презирает, хотя в то мгновенье гордился он ею!..
– Что вы думаете о теории Георгия Гачева – о русском Космо-Психо-Логосе?
– Может быть, перекликается. Я очень Гачева любил, Царствие ему Небесное, и никогда не понимал того, что он говорит и пишет. Очень люблю у него «Исповедь», мне очень нравятся его записи о семье, о мифе, мне очень нравится все, что он делал, но не могу сказать, что я это хоть в какой-то степени понимаю. А ужасное слово «психо-логос» вообще наводит меня на какие-то отдаленные и не совсем приличные ассоциации. То есть, очень его любя, я мыслю совершенно в другой традиции. Лермонтов близок русскому космизму в одном отношении, отношении не очень приятном, в плане некоторой, страшно сказать, имморальности. Потому что традиционные моральные категории и для Лермонтова, и для космистов значат очень мало. Но в Лермонтове есть детская тоска по этому поводу, а в космистах уже нет, именно поэтому с ними холодновато. Я думаю, что идеи Федорова Лермонтова бы очень распотешили. Я думаю, что ему весело бы сделалось от чтения этого безумца. Я думаю, что идеи русских космистов в целом, как и любая другая философия, ничего бы у него не вызвали, кроме насмешки. Тем не менее, некоторое сходство здесь, безусловно, есть, как одна гора похожа на другую гору. Наверно, так. Именно потому, что на них очень мало растительности. То есть, как одно облако похоже на другое облако. В том смысле, что они оба не чернозем.