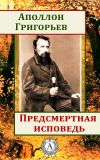Читать книгу "Пахатник и бархатник"

Автор книги: Дмитрий Григорович
Жанр: Русская классика, Классика
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
XXVI
Взглянув на лицо фабриканта, нельзя было поверить, чтобы мог он так успешно вести дела свои. Наружность Никанора ставила в тупик – так резко противоречила она его действиям. На всем свете не было, казалось, тупоумнее человека. Бесцветные навыкате глаза, как у разварной рыбы, смотрели мутно, как будто угасла в них способность осмысливать предметы; плоские, как щепки, волосы мертвенно висели по обеим сторонам пухлого, но крайне болезненного лица, окруженного редкими бакенами и такою же чахлой, жидкой бородкой; все черты выражали одну сонливость, вялость, неспособность. Все в нем было одно к одному; говорил он вяло, словно клещами хомут натягивал; ногами своими, обутыми в башмаки, передвигал медленно, словно против воли. Ходил он всегда, запахиваясь в длинный бумажный набивной халат такого же почти грязновато-больного цвета, как и лицо его. Словом, не было возможности поверить, чтобы такой человек был на что-нибудь годен. Дела его между тем шли блистательно; он ворочал такими деньгами, что ничего не значило ему усадить в своем приходе пятьдесят тысяч на постройку огромной кирпичной церкви с круглым зеленым куполом.
Это не мешало, однако ж, самому Никанору жить, как говорится, свинья-свиньей. Дом его, очень поместительный, с нижним этажом кирпичным, а верхом деревянным, был крыт железом и выкрашен зеленой краской, оставшейся от церковного купола. Внизу помещались подвалы для склада товара и контора. Верхний этаж из шести – семи комнат занимал Никанор с своим семейством.
Жил он собственно в одной только из этих комнат; остальные стояли пустыми; кое-где разве попадалась скамья или стояла кадушка с квашеной капустой, прижатой кирпичом. В комнате Никанора рамы не выставлялись со времени постройки дома; там с трудом можно было переводить дыхание; все смотрело до невероятности грязно – начиная с самой хозяйки и ее засусленных, золотушных детей и кончая зеленым, как словно прокислым, самоваром и стеклами окон, почти до темноты засиженными мухами.
У дверей, в высоком буром футляре, доходившем до потолка, чикали часы с циферблатом, размалеванным цветами; в углу стоял не прислоненный к стене диван, покрытый ободранной кожей: но боже было упаси сесть на него; особенною опасностью угрожали гвоздики и тесемка, обшивавшая кое-где кожу; под каждым гвоздем и складкой сидело, мирно приютясь, целое гнездо клопов. Все это, кроме, впрочем, дивана, который постоянно, годы целые, оставался на своем месте, чистилось и переставлялось раз в год – именно на страстной неделе перед светлым праздником; тогда целые ушаты воды разом проливались в этом втором этаже; хляск воды раздавался повсюду; вода, не находя себе выхода, скорее всего утекала в широкие щели кой-как сколоченного пола, удобряла земляную настилку и этим способом разводила мириады блох, которые несметными легионами появлялись уже к Святой.
Но Никанор и его семейство так сжились со всем этим, что всякое другое место показалось бы им крайне неудобным. Незачем было, следовательно, изменять порядка, начатого блаженной памяти упокойным родителем, – порядка, которым удовлетворялся сын и, верно, будет удовлетворяться золотушное потомство.
XXVII
Карп был один из первых, который явился к Никанору. Войдя в контору, старик застал там хозяина. В конторе никого почти не было; стояли только две бабы и оборванная девочка, пришедшие за бумагой для размотки.
Тем не менее Никанор сделал вид, как будто не заметил вошедшего. Он никогда не кланялся первым простому мужику. Никанор прежде был проще; гордость напала на него с той самой поры, как воздвиг он церковь и к концу каждой обедни поминали его, как строителя храма, и подносили ему просвиру.
Карп подошел к прилавку, разделявшему контору на две половины, и поклонился.
– Чего надо? – спросил Никанор, едва поворачиваясь.
– Хлебца привез, Никанор Иваныч… десять четвертей: не возьмешь ли?.. – задобривающим голосом сказал Карп.
– Не надыть! – возразил фабрикант как бы сквозь сон.
– Что ж так?.. Возьми, сделай милость!..
– Столько хлеба навезли – девать некуда.
– Всего ведь десять четвертей!
– К тому же денег теперь нету… – начал было Никанор, но Карп перебил его:
– У тебя?.. У кого ж и быть деньгам-то!.. Возьми, пожалуйста!
– Пять с полтиной, – коротко и сухо проговорил, наконец, Никанор.
– Как, за четверть? – воскликнул Карп, между тем как фабрикант повернулся к нему боком и, казалось, перестал даже его слушать. – Побойся бога! к Кузьме-Демьяну четверть-то девять рублей стоит; три рубля с полтиной на четверть хочешь нажить… Бога ты побойся!
На мутном лице Никанора промелькнула тень пренебрежения.
– Чего ты пристал ко мне, – произнес он, не возвышая, однако ж, голоса, – говорю, не надо: вези куда знаешь… где сходнее…
В эту минуту батрачка позвала хозяина наверх; почти в то же время в контору вошел еще мужичок из Антоновки.
Карп передал ему свой разговор с фабрикантом.
– Делать, знать, нечего, Карп Иваныч; отдать надо, – отвечал тот, – больше не даст; вечор уж трое из наших к нему приезжали; за ту же цену отдали.
– Знаю, сказывали мне, – вымолвил старик. – Я думал, посовестится, не надбавит ли каким случаем; потому и разговор такой повел с ним.
– Как же, жди от него совести, эк захотел!.. И я свои два воза за те же деньги ссыпал, делать-то нечего!..
С возвращением Никанора дело Карпа было кончено. Фабрикант, поручая приказчику сходить и смерить привезенную рожь, говорил так же сонливо, вяло и неохотно; казалось, он не подозревал даже, какой огромный оборот делал, скупая в настоящее время хлеб из Антоновки.
Получив деньги, Карп сел в пустую тележку и вместе с сыном, поместившимся на другой подводе, отправился домой.
Путем-дорогой старик принялся в сотый раз сводить свои счеты; он как будто все еще не доверял прежним своим соображениям и думал – авось-либо выйдет как-нибудь по-другому.
Нет, по-другому не выходило! Прежние расчеты были совершенно верны. Отдав пятьдесят два с полтиной оброку, отложив десять четвертей на зиму для семейства, Карп мог продать всего-на-все шесть четвертей ржи и четыре четверти овса. Как умом ни раскидывай, не было возможности, даже при самых счастливых обстоятельствах, выручить из этого столько денег, чтобы добавить Аксену за сруб, отдать плотникам за постановку избы, печнику за печь, – и мало ли еще сколько денег требуется при сооружении нового дома!
Касательно первого задатка, отданного Аксену, Карп не беспокоился; Аксен был известен своею честностью; старик ни на минуту не сомневался, что получит свои деньги. Но вот что неотступно его тревожило – тревожила мысль о втором задатке, о сером меринке, который, как на зло, приглянулся Аксену так, что последний им не нахваливался. Тут как быть? Как тут рассчитываться? Вернее всего, Аксен оставит его за собою; ведь ему надо получить вознаграждение за убытки; на избу много было охотников; не случись Карпа, Аксен давно бы продал ее с барышами.
Карп так углубился в свои соображения, что поднял голову тогда только, как лошадь остановилась перед его воротами.
После дождя, лившего всю ночь и все утро, избенка как нарочно представлялась такой кислой, так грустно поглядывала на улицу своими крошечными окнами, полусгнившими углами и выдавшейся мокрой стеною, что вчуже забирала жалость.
Понятно, такой вид не мог порадовать и развлечь ее владельца.
XXVIII
Время между тем шло своим чередом, свершая в природе обычные, неумолимо неизменные перевороты. Давно ли, кажется, поля, луга и рощи дышали таким оживленьем? Все это миновало! Первыми возвестниками наступающих холодов были, по обыкновению, ласточки; они отлетели с первыми морозными утренниками. За ними в похолодевшем воздухе пронеслись длинные белые нити тенетника; потом в светлом, хотя уже бледнозеленоватом небе, пролетели журавли, возбуждая отдаленным криком своим громкие возгласы деревенских мальчишек.
Давно ли, наконец, антоновская роща, одетая с макушки до корня зеленью клена, березы, орешника и разного рода кустарников, наполнялась веселым треском, свистом и пением каждый раз, как проникал в нее первый солнечный луч? Давно ли, кажется, было все это!.. Теперь, от маковки до корня, стоит она обнаженная, и хотя бы три раза в сутки начинался день, не пошлет уже ему, навстречу веселых, приветливых звуков. В серой, сквозящей глубине рощи мелькают одни голые стволы и перекрещиваются во все стороны почерневшие обнаженные ветви. Вместо прохлады отовсюду несет сыростью и крепким запахом опавших листьев, которые наполняют глубину кустарников и густо устилают дорогу. Изредка кое-где тоскливо, в разлад, чиликнет краснобрюхий снегирь или вдруг в стороне зашуршукают листья и через дорогу пугливо пробежит заяц. Все остальное, куда ни обращаются глаза, носит ту же печать опустения. Окрестность словно состарилась; колеи, которыми изрыты дороги, кажутся глубокими морщинами; речка, так долго отражавшая в последнее время свинцовые, серые тучи, усвоила навсегда как будто цвет их, отвечающий, впрочем, общему тону печали, которым окутались не только окрестности, но и самое небо.
Куда девался также веселый вид деревни, когда, бывало, при заходящем солнце ослепительно сверкают соломенные крыши избушек; когда старые ветлы, бросая через реку на луг длинные густые тени, постепенно зарумяниваются, покрываясь багрянцем заката; когда весь деревенский люд, высыпая в эту пору на улицу и – то уходя в сизую тень, бросаемую избушками, то выступая на свет – начинает петь песни и водить хороводы, играя на солнце яркоалыми и синими платками и рубашками… Куда все это делось! Антоновки узнать невозможно. Она также отжила, как будто вдруг состарилась. Стены избушек, вымоченные беспрерывными дождями, так же почти черны, как улица, которая превратилась в грязь, замесилась и стала непроходимою; старые ветлы обнажили свои головастые пни, и ветви на них торчат кверху, как волосы на голове взъерошенного человека. Солома на крышах сделалась совсем серою и едва-едва отделяется теперь на сером небе.
Небо пока не шлет еще дождя, но в отдалении начинают уже клубиться тяжелые, мрачно-сизые тучи.
XXIX
Дядя Карп, которого ненастье отрывало поминутно от начатой работы, спешил воспользоваться этим временем. Обрадованный, что перестал, наконец, дождик, он с помощью сына с утра еще выкатил две пустые кадки; они служили старику козлами для подмосток; приставленные к наружной стене избы и устланные досками, кадки давали Карпу возможность достать рукою почти до крыши.
Взгромоздившись на подмостки, Карп старательно набивал глину в пазы и трещины избенки; он то и дело обращался к снохе, которая тут же в стороне мешала лопатою сырую глину. Бедная бабенка едва успевала управиться; с одной стороны кричал свекор, с другой поминутно высовывалась из окна свекровь с хозяйственными расспросами, с третьей – приводилось гнать Дуню, которая, несмотря на холод, никак не хотела идти в избу. По всей вероятности, Дуня согревалась Васькой; крепко перехватив брата поперек живота, она переносила его с одного плеча на другое; но как терпел Васька – это делалось решительно непонятным! Мальчик перешел уже от багрового цвета в синий; но ничего однако ж; Васька не плакал; он только кряхтел и пыжился, и то, по-видимому, не столько от стужи, сколько от того, что вздрагивавшая сестра слишком уж сильно нажимала ему живот.
Подле другой стены, со стороны улицы, происходила также работа; Петр приваливал к стене солому, укрепляя ее жердями.
По мере того как с той и с другой стороны подвигалась работа, избушка принимала вид больной, хилой старушонки, которую обкладывают пластырями и кругом обвязывают и кутают.
На улице никого почти не было, кроме семейства Карпа. Изредка проходил кто-нибудь. Так прошла баба с ворохом не размотанной бумаги на спине. Поровнявшись с избою Карпа, она остановилась, поздоровалась со стариком и его снохою.
– Карп Иваныч, – сказала она, – тебе сродственник твой Федот велел кланяться!
– Ну его совсем! – ворчливо проговорил старик, продолжая шлепать глиной.
– Ты, Дарья, откуда? – спросила сноха, – я думала, ты от Никанора.
– И то, оттуда; вишь, взяла ребятам разматывать! – возразила Дарья, встряхивая бумагой.
– Где ж ты Федота видела? Он ведь у Аксена живет; разве так повстречались?
– Нет, касатка, нанялся он теперь к Никанору; у Никанора живет в работниках.
При этом Карп сердитее только шлепнул глиной.
Немного спустя после ухода Дарьи место ее заступил маленький, живой мужичок с веснушками, который во время уборки ржи беседовал с Гаврилой.
Поглядев с минуту молча на работу Карпа, он, наконец, придвинулся.
– Ничего от этого, сват, теплее не будет, – оказал он, – я, как не было у меня новой избы, свою старую тоже глиной обмазал, – продувает; так-то продувает – хуже быть нельзя.
– Коли хорошо, крепко смазать – не продует! – отозвался Карп неохотно.
– Хуже, сват, право, хуже; тогда снутри преть начнет; у меня то же было; пойдут морозы – в окнах, поверишь ли, вот какие сосульки намерзнут! – добавил мужичок, показывая от плеча до ладони.
Карп ничего не ответил.
– Сейчас, сват, к Филиппу заходил, – продолжал словоохотливый мужичок, – дома нету, уехал; сказывают – опять запил; года три за ним этого не было; зарок, сказывают, на себя наложил, чтоб не пить… Теперь опять, сказывают, зашибается… Э! да никак дождик?.. – промолвил он, подымая голову.
Карп, сноха и Петр, слышавшие весь этот разговор, сделали то же самое.
Серые тучи, которые бежали, казалось, над самою крышею, действительно начинали отделять дождевые капли; в то же время ветер сильнее зашевелил соломой.
– Прощай, сват! Надо скорей до дождя укрыться!.. – сказал мужичок, направляясь к избе, которая стояла на самом краю деревни.
Пока он приближался к дому, тучи, давно уже потоплявшие своею тенью окрестность, быстро надвигались на Антоновку. С каждой минутой местность, лежавшая за старыми ветлами, заслонялась и пропадала; вот и ветлы начали показываться как бы сквозь серую дымку и вскоре пропали; дождик заметно делался чаще и усиливался. В дальнем конце деревни кто-то, закутанный с головою, баба ли, мужик ли, разобрать было невозможно, – промелькнул через улицу.
На минуту можно еще было различать, как Карп, его сын и сноха бегали и суетились, убирая свои кадки; но и они не замедлили исчезнуть за частою сетью дождя, который, крутясь и двигаясь по воле ветра, ударил косым ливнем и заслонил, наконец, самую Антоновку.
ГЛАВА ВТОРАЯ
БАРХАТНИК
XXX
Позвольте теперь перенести вас из унылой деревушки, утопающей в грязи и облитой дождем, прямо в центр Петербурга. Переход, конечно, очень резок; но тем лучше, мне кажется. Без контрастов и неожиданных переходов от худого к хорошему, от мрачного к веселому и обратно, не только романы и повести, но и самая жизнь была бы однообразна и, следовательно, невыносимо скучна.
Итак, поспешим войти через парадную дверь, в один из самых больших домов Малой Морской. Признаком, что дом при основании своем исключительно предназначался для помещения жильцов богатых или таких, которые во что бы ни стало хотели прослыть за богатых, – служила широкая, устланная ковром лестница, украшенная каминами и швейцаром.
Нам незачем подыматься слишком высоко; достаточно остановиться во втором этаже против двери с медной дощечкой, на которой награвировано: «Аркадий Андреевич Слободской».
Аркадий Андреевич вместе с домашней его обстановкой, – начиная с круга знакомых и кончая мебелью его обширной квартиры, – составляют главный предмет настоящего повествования. Мебель, особенно гостиной и кабинета, так великолепна, что, я уверен, если б любое кресло перенести вдруг в Антоновку и поставить посреди улицы, ни один из тамошних обывателей ни за что не определил бы, что это за штука такая; сам приходский священник сильно бы затруднился дать ему вдруг, сразу, настоящее имя, и только разве после некоторого размышления мог бы решить, что изделию сему всего более подобает находиться в храме для замещения старинного седалища в алтаре.
Аркадий Андреевич был холост, любил роскошь и решительно не видел надобности себе в ней отказывать; у него было около семи тысяч душ, в числе которых, если не ошибаюсь, состояли также знакомые антоновские души.
Часов в двенадцать утра в богато убранном кабинете Слободского находилось уже несколько посетителей. По мере того как приближался день, посетители умножались; многие являлись, впрочем, минут только на пять; спешно выкурив папироску, повертевшись перед камином, они так же скоро исчезали. Все входили совершенно бесцеремонно; брали со стола сигары и папиросы и во всем поступали как у себя дома. Кто усаживался, укладывая удобно ноги на соседнее кресло, кто попросту разваливался на кушетке против пылающего камина, кто расхаживал взад и вперед, пуская кверху дым, который расходился мутными, серыми клубами, потому что самое утро было мутно, серо и ненастно. Все они по большой части были товарищами Слободского по службе; некоторые, подобно ему, вышли в отставку; другие ходили в мундирах. Хозяин дома, заслонив себя от каминного жара стеклянными ширмами, располагался в вольтеровских креслах.
Это был человек лет двадцати восьми, с чертами лица чрезвычайно правильными и красивыми, но уже заметно начинающими отцветать. Военная служба не оставила на нем ни малейшего отпечатка; он так же изящно одевался и так же свободно двигался в серых панталонах, сером жилете и серой жакете английского покроя, как будто век не носил другого платья; в приемах его не было ничего жесткого, натянутого, во всей фигуре его, начиная с маленьких, красивых ушей и кончая белой, нежной кистью руки, было что-то женственное, изнеженное. Он казался усталым, хотя всего час назад вышел из постели. Слободской не переставал говорить то с тем, то с другим из гостей своих; в голосе его и во взглядах проглядывало, однако ж, полнейшее равнодушие если не всегда к предмету беседы, то всегда почти к собеседнику.
Слободской далеко не был мизантропом; равнодушие его проистекало частию из жизненного опыта, частию из того также, что он никого не любил искренно из тех, с кем постоянно жил и в кругу которых ежедневно вращался. Выражение: «mon ami, – il n'y a pas d'amis!», изобретением которого был он очень доволен, повторялось им каждый раз, как только слышал он слово – «друг». Слободской, тративший большие деньги на обеды, где за каждого приятеля приходилось иногда платить рублей тридцать и сорок, пожалел бы между тем десять целковых, чтобы спасти приятеля, которому случилось бы обкушаться на его обеде.
Он разделял своих знакомых и приятелей на три разряда. К первому принадлежали лица, которые в самом деле были к нему привязаны и любили его; до сих пор он встретил одного только такого; но и того убили на Кавказе. Ко второму разряду причислялись те, которые ездили к нему ради удобств, хороших сигар, надежды выгодно променять лошадь, занять денег или ради того также, что надо же деться куда-нибудь и вертеть языком – благо он существует; третий род приятелей состоял из лиц, которые положительно его ненавидели, но виделись с ним частью чтобы скрыть настоящие свои чувства, частью потому, что пошло, глупо расходиться с человеком, не имея, кроме затаенной ненависти, другой, более основательной причины.
Из числа последних не было, к счастию, ни одного между посетителями настоящего утра: все они по большей части принадлежали ко второй категории. Несмотря на положительную глупость многих из них, каждый, по-видимому, в отношениях своих к Слободскому стоял на настоящей точке зрения; никто не обманывался в его чувствах; но никому, казалось, не было дела до этого, никто об этом не заботился; каждый думал о себе самом, о своем удобстве, о хорошей сигаре – и точно так же чувствовал к хозяину самое полное равнодушие.
Все это нисколько не мешало вести самую короткую, дружескую беседу.
XXXI
– По-моему, одно из самых главных, самых натуральных чувств человека – это чувство благодарности! – говорил Слободской, продолжая начатый разговор и преимущественно обращаясь к смуглому господину средних лет, лежавшему на кушетке с сигарою в зубах. – Человек, не имеющий такого чувства, на мои глаза, существо недоконченное, что-то вроде получеловека!.. И вот именно этого-то чувства, – невесело в этом сознаться, но надо говорить правду, – именно этого-то чувства не вижу я в нашем простом народе…
Господин, лежавший на кушетке, выразительно усмехнулся.
– Я говорю так решительно потому, что основываю свои суждения на собственном опыте, – продолжал Слободской. – При покойном отце крестьянам моим было так плохо, как хуже быть не может: отец почти безвыездно жил в Париже; в именьях распоряжались управляющие – грабили, разумеется, и разоряли крестьян до невозможности; когда я вступил во владение именьями, первым делом моим было искоренить весь старый порядок и злоупотребления; я сменил управляющих, уничтожил барщину и посадил мужиков на оброк, зная, что такое положение для них несравненно легче барщины. Сотни, тысячи помещиков берут двадцать, двадцать пять рублей и более оброку; я назначил всего пятнадцать с семейства – с тягла, как там называют… Кажется, сделано было все, что только можно сделать! Какой же вышел результат? Крестьяне сделались только неисправнее; с первого же года до настоящей минуты я только и слышу, что о недоимках и недочетах, чего прежде, при отце, никогда не бывало!.. Далеко идти незачем; я теперь более месяца без денег… Пишу, пишу, – недели проходят, прежде чем пришлют из той или другой конторы каких-нибудь четыре-пять тысяч! После всего этого поневоле придешь к убеждению, что при снисходительном, гуманном, как говорят теперь, управлении народ делается только неисправнее и балуется; управлять им, как видно, может только страх; горько сознаться – но это так!..
– Что ж вы хотите, Слободской, чтоб я сказал вам на это?.. – произнес небрежным тоном и по-французски господин, лежавший на кушетке, – мне отвечать нечего; вы по этому предмету давно знаете мои убеждения!..