Текст книги "История России. Смутное время Московского государства. Окончание истории России при первой династии. Начало XVII века."
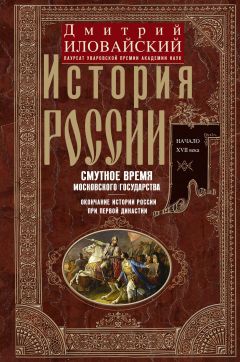
Автор книги: Дмитрий Иловайский
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 21 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
Он также поручил Александру Рангони уверить короля в своей к нему преданности и признательности, но при этом просить, чтобы король не требовал от него обещанной уступки областей до тех пор, пока власть его прочно утвердится в Московской земле. Посылая грамоту с извещением о своем вступлении на московский престол Карлу, герцогу Зюдерманландскому, захватившему шведскую корону, Лжедимитрий в той же грамоте увещевал Карла возвратить корону Сигизмунду, как законному государю Швеции. А другого претендента на сию корону, королевича Густава, человека гордого и своенравного, из Углича перевел в Ярославль и велел содержать там как пленника[6]6
СГГ и Д. Т. II. № 93 (роспись членов сената духовных и светских). С. 97—114. Histor. Rus. Monum. II. № XXXVII–LXXVII (с перерывами). Пирлинг. Гл. VII–X и приложение к ним. Велевицкий. С. 137–152 (Сношения с Римской курией). Бутурлин. I. Приложения XII и XIII. Грамота Лжедимитрия во Львов о пожертвовании соболей на сто рублей в СГГ и Д. Т. II. № 130. Письмо его к папе Павлу V и «Древ. рос. вивл.». XII. Борша. Бер-Буссов и Масса (поведение самозванца в думе, иноземные телохранители, молодечество, потешные осады, распутство). Петрей (о принце Густаве). Палицын (заведение роскоши, выезды с военной эскортой, распутство). О расточительности самозванца и раздаче драгоценностей «игрецем и всяким глупотворцем и женам гнусодетельным» в «Изборнике» А. Попова. Хронограф. С. 193. О насилиях и поругании москвичам от поляков. Ibid. С. 237, а также у Петриция – Historiae Moscoviticae. О невежестве в управлении и недостойном поведении у Пясецкого. О постройке дворца и подвижной крепости Ада: Масса, Дневник Марины, Хронограф. С. 237, «Сказание о царстве царя Федора Ивановича» (Рус. ист. б-ка. Т. XIII. С. 819). На одном обеденном пиршестве Лжедимитрия произошел местнический спор у князя Лыкова с Петр. Никит. Шереметевым. (А.П. Барсукова «Род Шереметевых». Т. II. С. 105. Со ссылкой на рукописную Разрядную книгу, принадлежащую Археограф. комиссии.)
[Закрыть].
Отношения польские в сие время тесно связались с делом женитьбы самозванца на Марине Мнишек; к чему мы и обратимся.
В октябре 1606 года (сентябрьского) самозванец отправил послом в Польшу «великого секретаря» и казначея Афанасия Власьева, который из русских людей, наряду с Басмановым и Масальским, был наиболее приближенным к нему советником и угодником или «тайноглагольником», как называет его один русский летописец. Власьев прибыл в Краков, окруженный блестящей, многочисленной свитой из конных дворян; за ним следовал большой обоз со скарбом и дорогими подарками. Он остановился в доме Мнишека и вскоре имел торжественную аудиенцию у короля, на которой говорил о желании своего государя заключить с ним тесный союз против турок. Только на второй аудиенции он приступил к главной цели своего посольства, то есть изложил просьбу о королевском дозволении вступить московскому царю в брак с Мариной Мнишек. Сигизмунд III дал свое согласие.
12 ноября состоялось торжественное обручение Марины; причем лицо московского царя представлял его посол. На церемонии присутствовал король с сыном Владиславом и сестрой, носившей титул шведской королевны. Обручение совершал родственник невесты кардинал-епископ Мацеевский. За церемонией последовали пир и танцы. Власьев во время обряда и пира обратил на себя общее внимание ратными выходками наивности и раболепия. Например, на обычный вопрос священнодействовавшего: «Не обещал ли царь на ком жениться прежде Марины?» – он отвечал: «А почем я знаю; он мне этого не говорил». И только после настоятельных требований ответить прямо прибавил: «Если бы обещал другой невесте, то не слал бы меня сюда». Когда же нужно было соединить руки жениха и невесты, он, чтобы не прикоснуться голой рукой к руке своей будущей государыни, предварительно обернул собственную платком; обручальный перстень совсем не решился надеть себе на палец, а положил его в карман. За столом, сидя подле Марины, он не хотел дотронуться до кушанья, говоря, что «холопу не годится есть с государями», как ни внушали ему, что он представляет лицо самого царя. Со своей стороны посол остался очень недоволен тем, что при окончании бала Юрий Мнишек подвел свою дочь к королю, вместе с нею упал перед ним на колени и благодарил за его милости. Власьев видел в этом умаление царского достоинства, так как Марину теперь уже называли московской царицей. Зато привезенные им роскошные подарки царской невесте, ее отцу, брату и другим родственникам произвели на поляков сильное впечатление: очевидно, самозванец не жалел московской казны для удовлетворения их жадности и тщеславия. Тут были кони в красивых уборах, оправленных самоцветными камнями, драгоценные меха, целые пуды жемчуга, венецианские бархаты, турецкие атласы, персидские ковры, золотые часы с флейтистами и трубачами, также золотые корабль, павлин и бык, служивший вместо ларца, серебряный пеликан и прочее.
Марина после обручения уехала в Промник в сопровождении своего отца и московского посла. Последние воротились оттуда в Краков, чтобы присутствовать при бракосочетании самого короля, который, будучи вдов, вступил тогда во второй брак с сестрой своей покойной супруги австрийской эрцгерцогиней Констанцией.
В январе приехал в Польшу другой посол от самозванца, его частный секретарь Ян Бучинский, который привез большие суммы Мнишекам для уплаты их долгов. Он вручил 200 000 злотых воеводе Сандомирскому и 50 000 его сыну, старосте Саноцкому, а Марине новые подарки, состоявшие из золотых и бриллиантовых украшений. Но присланных сумм далеко не достало на покрытие долгов. Вскоре самозванец прислал еще 100 000 злотых; но и этого оказалось мало. Нареченный его тесть не стыдился вымогать деньги у посла Власьева и, за его поручительством, набирать товары у московских купцов, торговавших в Польше. Посредством Бучинского Лжедимитрий убеждал Мнишеков испросить для Марины от папского нунция разрешение при обряде ее будущего коронования в Москве принять святое причастие из рук патриарха – без чего невозможно было бы исполнить и самый обряд, а также посещать греко-русскую церковь, поститься в среду вместо субботы и ходить с покрытой головой, как это в обычае у русских замужних женщин. Такие просьбы произвели неприятное впечатление; по сему поводу завязалась целая переписка между Краковом и Римом, и последний никак не соглашался на подобные уступки. Но самозванец мало тревожился сим несогласием. Он в это время беспокоился и приходил в нетерпение от того, что его нареченная супруга со своим отцом медлили и все откладывали свой приезд в Москву и что она не отвечала на его страстные письма.
Как ни были обрадованы и польщены Мнишеки успехом самозванца и блеском царской короны на голове Марины, как ни были они тщеславны и предприимчивы, однако что-то мешало им спокойно довериться этой удаче и спешить в такую полуварварскую страну, какою рисовалась их воображению Московия. Зная тайну самозванства, очевидно, они выжидали, чтобы время показало, насколько прочен этот почти сказочный успех, насколько названый Димитрий твердо уселся на престоле. И тем более сомнение могло закрасться в их душу, что из Москвы стали приходить вести и слухи для него неблагоприятные; а в Польше общественное мнение продолжало относиться к нему неблагосклонно.
Первыми распространителями дурных слухов были польские жолнеры, покинувшие службу Лжедимитрия и воротившиеся в Польшу. Эти ненасытные люди бранили его за неуплату им всего обещанного и заслуженного жалованья и вообще отзывались о нем с презрением. Некоторые русские выходцы, признавшие его на первых порах истинным царевичем, теперь за тайну сообщали своим польским приятелям, что в Москве уже проведали самозванство царя и ему грозит беда. Но поляки менее других способны были хранить подобные тайны, и они скоро разглашались. Вельможи, которые и прежде противились предприятию самозванца, теперь стали громко бранить его за неблагодарность Польше и притязание на необычные титулы. Они упрекали короля, зачем он помогал сему проходимцу вместо того, чтобы пожертвовать им и получить за него большие выгоды от Бориса Годунова. Есть свидетельство, что и сами московские бояре уже обращались в это время к королю с подобными жалобами. Получив известие о совершившемся обручении Марины, Лжедимитрий послал гонцом дворянина Ивана Безобразова с благодарственными грамотами к королю и Мнишеку и с уведомлением о снаряжении большого московского посольства в Польшу. Этот Безобразов оказался тайным агентом князя Шуйского, по совету которого он и был назначен гонцом. Исполнив официальное поручение, Безобразов секретно довел до Сигизмунда, что бояре, особенно князья Шуйские и Голицыны, сетуют на короля, который дал им в цари человека неблагородного, легкомысленного и распутного; поэтому они хотят свергнуть его с престола, а на его место желали бы посадить королевича Владислава. Это последнее желание было хитро придумано: оно долженствовало польстить королю и связать его по отношению к названным боярам. С его стороны пока последовал уклончивый ответ при посредстве канцлера Сапеги, который теперь уже мог предвкушать плоды своей политической интриги при виде смуты, наступавшей в Московском государстве. Говорят еще, будто около того же времени сама царица-старица Марфа, при посредстве одного ливонского пленника, поручила какому-то шведу довести до сведения Сигизмунда, что она невольно признала обманщика своим сыном, что самозванец хотел останки ее истинного сына выбросить из Угличской церкви как подложные и только по ее усильным просьбам оставил его в покое. Неизвестно, давала ли Марфа действительно подобное поручение к Сигизмунду, или – что вероятнее – оно явилось интригой тех же бояр, но что она спасла тело царевича Димитрия от поругания – это подтверждается и другим свидетельством.
Замечательно в отношении польского ставленника на Москве нерешительное и непоследовательное поведение как польско-литовского короля, так и самой польско-литовской аристократии. Когда приехал Власьев и просил Сигизмунда о разрешении на брак Марины с названым Димитрием, говорят, король советовал не спешить сим браком и намекнул, что царь Московский мог бы найти себе невесту более знатную; причем имел в виду собственную сестру королевну Шведскую. Однако, зная тайну самозванства, он не настаивал на своем желании и легко согласился на брак Марины. Еще любопытнее, что, в то время как известная боярская группа уже доносила из Москвы о близком свержении Лжедимитрия и выдвигала кандидатуру на московский престол королевича Владислава, в самой Польше вдруг возник вопрос о кандидатуре сего Лжедимитрия на польско-литовский престол. Партия панов, недовольная Сигизмундом III, особенно восставала против его намерения вступить во вторичный брак с австрийской принцессой, сестрой его покойной супруги. Во-первых, брак со свояченицей считался несогласным с уставами церкви (хотя в этом отношении уже имелся пример Сигизмунда II); а во-вторых, столь тесные связи с Габсбургской династией были противны национальному чувству многих поляков, которые не без основания опасались возраставшего немецкого влияния. Когда же, несмотря на значительную оппозицию, Сигизмунд III настоял на своем и женился на эрцгерцогине Констанции, ропот усилился. Некоторые вожаки оппозиции тогда вошли в тайные сношения с Лжедимитрием и предлагали ему польскую корону; они мечтали таким способом осуществить давнюю мысль о соединении Польско-Литовского государства с Московским. Самозванец со свойственным ему легкомыслием поощрял подобный замысел. К довершению возникшей отсюда путаницы, сношения сии не остались тайной для короля, и канцлер Лев Сапега говорил против них в сенате.
Сандомирский воевода, конечно, знал об этих переговорах, и ему могла уже мерещиться польская корона на голове его дочери. Но он знал и обратную сторону медали, то есть до него доходили и все дурные вести о Лжедимитрии. Очевидно, сомнения закрадывались в его душу, и у него постоянно возникал вопрос, прочен ли его нареченный зять на московском престоле; поэтому он и дочь его не спешили своим отъездом. Отвечая на просьбы самозванца, Мнишек приводил разные предлоги для замедления; например, ссылался на свое нездоровье, а в особенности жаловался на недостаток денег. В одном дошедшем до нас письме он говорит также о дурных слухах, распространяемых недоброжелателями насчет его зятя, и, между прочим, просит его отдалить от себя «известную царевну Борисову дочь». Просьба сия была вскоре исполнена. Ксению Борисовну постригли в монахини под именем Ольги и отправили в дальний монастырь. Участь ее была самая жалкая: после смерти Лжедимитрия в течение Смутного времени ее переводили из одного монастыря в другой, и она подвергалась самым грубым оскорблениям.
Тщетно самозванец хлопотал о том, чтобы совершить бракосочетание с Мариной в мясоед между Святками и Масленицей; почему гонцы его часто скакали из Москвы в Самбор и обратно. Тщетно его посол Власьев торопил Мнишеков, для чего неоднократно писал им и сам приезжал в Самбор. Пропустив зимний путь, Мнишеки должны были пережидать весенний разлив вод. Выведенный из терпения Лжедимитрий в начале марта сухо уведомлял, что если воевода и его дочь будут долее медлить, то они едва ли застанут его в Москве, ибо после Пасхи он намерен отправиться в лагерь к войску, собиравшемуся на Южной Украйне, и там пробудет целое лето. Недели две спустя он узнал, что тесть и невеста наконец выехали в путь, следовательно, еще до получения его последнего письма. Обрадованный, он спешил извиниться в этом письме и сделать все нужные распоряжения, чтобы облегчить им дорогу. Разлив вод еще не прекратился, и дороги оказались весьма в плохом состоянии. Путешествие Мнишеков совершалось медленно, и тем более, что их сопровождала весьма многочисленная свита, всего до 2000 человек, с огромным обозом. Кроме дяди Марины старосты Красноставского и ее брата старосты Саноцкого, с ними ехали и другие родственники, каковы Константин Вишневецкий, Стадницкий, Тарлы и прочие. А каждый знатный пан имел при себе, кроме слуг, целый вооруженный отряд из пехоты и всадников. В обозе находилось еще несколько армянских купцов со своими товарами. По Московской земле высоких путешественников принимали везде торжественно: священники и народ выходили с иконами и хлебом-солью; в городах дарили им соболей; дети боярские и стрельцы выстраивались в праздничном наряде. Из окрестных мест сгоняли крестьян, чтобы строить или чинить мосты и гати. Время от времени встречали их бояре, присланные из Москвы с новыми подарками, с каретами, конями, палатками и тому подобным.
Путешественники проехали Смоленск и Вязьму. В последнем городе воевода Сандомирский отделился от дочери и с частью своей свиты поехал вперед. 24 апреля он имел торжественный въезд в Москву. Басманов выехал к нему навстречу за город, одетый в шитое золотом гусарское платье, во главе отряда дворян и детей боярских. Воеводу поместили в бывшем доме Бориса Годунова, недалеко от царского дворца. На другой день самозванец принимал своего тестя и его родственников в парадной аудиенции, в так называемой Золотой палате, сидя на роскошно украшенном троне, в полном царском облачении, в присутствии Боярской думы; причем по правую сторону от него сидел патриарх с несколькими архиереями. По сторонам трона стояли четыре рынды; великий мечник держал обнаженный меч. Воевода сказал приветственную речь столь трогательную, что самозванец, по словам одного польского свидетельства, «плакал как бобр, поминутно утирая платком свои глаза». Великий секретарь Афанасий Власьев держал за него ответ. После чего гости подходили и целовали у него руку. По окончании сей церемонии отправились в придворную церковь, где отслушали богослужение; а затем последовало пиршество, устроенное уже в новом деревянном дворце. В следующие дни в этом дворце происходили ночные пиры и попойки, сопровождаемые польской музыкой и танцами; причем самозванец являлся то одетый по-московски, то в богатом гусарском наряде. Тешил он своих гостей и звериной травлей; для чего в одном подгородном селе собраны были разные звери.
2 мая совершился наконец торжественный въезд в Москву нареченной царицы; понятно, что Лжедимитрий обставил его самым великолепным образом. Марина ехала в большой карете, оправленной серебром, с царскими гербами, запряженной десятью – двенадцатью белыми конями в яблоках наподобие леопардов или тигров; каждого коня вел особый конюх. По пути расставлены были шпалерами блестящие отряды из польских рот, немецких алебардщиков, московских дворян, стрельцов и казаков. Самозванец лично расставлял войска и давал наставления боярам, назначенным к встрече; но сам он смотрел на въезд, скрываясь в толпе. Любопытно, что при вступлении нареченной царицы в Москву, когда она ехала между Никитскими и Кремлевскими воротами, внезапно поднялся вихрь и заглушил звуки набатов, труб и литавр, как это было при въезде Лжедимитрия; что многими сочтено было за дурное предзнаменование. Марину поместили пока в Вознесенском монастыре подле мнимой царской матери, где приготовили для того богато убранные комнаты. В тот же день, но несколько ранее въехали во главе многочисленной вооруженной свиты польские послы Олесницкий, каштелян Малагоский, и Гонсевский, староста Велижский, которые нагнали Марину уже под Москвой: они имели своим официальным назначением присутствовать от лица короля на торжестве царского бракосочетания. Для такого большого количества понаехавших поляков, конечно, требовалось найти соответствующее помещение, и многие московские обыватели принуждены были уступить часть своих домов этим беспокойным и притязательным гостям. Поляки не довольствовались тем, что явились покрытые панцирями, вооруженные с головы до ног, но еще привезли в своих повозках большие запасы огнестрельного и холодного оружия. При виде этих запасов наиболее степенные москвичи не особенно увеселялись постоянно гремевшей польской музыкой, и сердца их исполнились тревожных ожиданий.
На следующий день во дворце происходила торжественная аудиенция польских послов. Она была обставлена точно так же и сопровождалась теми же обрядами, как и недавний прием царского тестя; только прошла не так ровно и гладко. Имея теперь дорогую ему Марину в своих руках, самозванец решил с самого начала обострить вопрос о своем титуле, чтобы дать отпор дальнейшим притязаниям польского короля, а вместе с тем поднять себя в глазах своих московских подданных. Когда после приветственной речи Олесницкий хотел вручить ему королевскую грамоту, Лжедимитрий через великого секретаря Власьева отказался принять ее, так как на ней не только не было царского титула, но стояла простая надпись: «Князю всея Руси». Слушая возражения Олесницкого, он не утерпел и, вопреки обычаю, самолично вступил с ним в длинные пререкания. Однако в конце не выдержал своей роли и велел Власьеву принять грамоту с оговоркой, что впредь сего не сделает. После взаимных приветствий и целования царской руки послы предложили от себя разные подарки, а именно золотые цепи, кубки, ковры и коней. Когда же они воротились на посольский двор, им торжественно принесли яства и напитки в раззолоченной посуде.
По отношению к Марине Лжедимитрий вел себя как человек страстно в нее влюбленный. Так как ей не нравились московские яства, то он прислал польского повара, которому приказал отдать ключи от царских погребов и кладовых. А чтобы она не скучала монастырской тишиной, посылал забавлять ее музыкантов, песенников и скоморохов, что, конечно, являлось немалым соблазном для обитательниц Воскресенского монастыря. Он продолжал осыпать подарками невесту и ее родственников. Так, однажды поднес ей ларец с драгоценностями на целых полмиллиона рублей. А ее отцу в это время подарил еще 100 000 злотых и сани, обитые бархатом с красной усаженной жемчугом попоной для коня и с ковром, подбитым соболями; козлы были окованы серебром; а запряженный в сани белый конь имел по обеим сторонам хомута по сороку самых лучших соболей; дуга и оглобли были обтянуты красным бархатом и перевиты серебряной проволокой. Меж тем делались обширные приготовления к свадьбе и коронации. Лжедимитрий решил соединить оба обряда вместе, но так, чтобы коронация Марины предшествовала их свадьбе. За день до сей церемонии поздно вечером невеста, при свете факелов, между рядами придворных алебардщиков и стрельцов, переехала в новый царский дворец, где и заняла приготовленные для нее покои.
Вопреки русскому обыкновению, день венчания был выбран в четверг 8 мая, следовательно, накануне пятницы и притом праздника святого Николая. Но обряд совершен был с сохранением почти всех старых обычаев. Жених и невеста были одеты в роскошный русский наряд. Из Грановитой палаты в торжественной процессии шествовали они в Успенский собор, сопровождаемые русскими и польскими дворянами, посреди алебардщиков и отборных стрельцов. Во избежание тесноты в собор впустили только близкую свиту и затворили двери. Тут на возвышенном помосте приготовлены были три кресла: среднее, самое высокое и украшенное, служило троном для жениха, по левую сторону для невесты, а по правую, наименее высокое, для патриарха. С подобающими молитвами Игнатий возложил на невесту царскую корону и бармы на ее плечи. После того все трое заняли свои места на означенных креслах. Бояре и прочая свита подходили к Марине, чтобы поздравить ее и поцеловать руку. Затем следовала литургия, во время которой патриарх причастил Марину Святых Тайн и помазал миром по греческому обряду. По окончании литургии совершен был обряд свадебного венчания. Новобрачные в той же торжественной процессии воротились во дворец. В дверях Мстиславский осыпал их золотыми монетами. Потом стали бросать деньги в толпу, что произвело в ней большое движение и даже драку. По свидетельству иностранцев, будто некоторые русские бояре не стыдились принимать участие в этой ловле монет, тогда как польские паны не обращали на них внимания и, когда одному из панов упали на шляпу два червонца, он гордо стряхнул их на землю. Наступал уже вечер, и в этот день ограничились только угощением молодых. Места посаженого отца и матери занимали князь Ф.И. Мстиславский и его жена. Роль тысяцкого на свадьбе исполнял князь В.И. Шуйский, а дружками назначены его брат князь Димитрий, двое Нагих и пан Тарло; свахами были их жены.
Большой свадебный пир состоялся на следующий день. Но он был несколько омрачен размолвкой с польскими великими послами. Будучи приглашены к обеду, они на основании своих инструкций потребовали, чтобы им дано было место за царским столом подобное тому, какое Афанасий Власьев имел в Кракове за королевским столом в день обручения. По сему поводу возникли опять пререкания, ибо самозванец решительно отказал в этом требовании, так как, по московскому обычаю, царь обедал один за особым столом на возвышенном месте, а теперь вместе с царицей. К послам пришел Афанасий Власьев и сказал им, что он сидел за королевским столом, потому что за тем же столом сидели послы папский и цесарский. «А наш цесарь, – заметил Власьев, – выше всех христианских монархов; у него каждый поп папа». После такой выходки послы наотрез отказались ехать на обед в этот день. Они обратились с жалобой к воеводе Сандомирскому; тот взялся быть посредником между ними и своим зятем. Переговоры велись еще целых два дня. Наконец дело уладилось на том, что в воскресенье 11 мая старший посол Олесницкий получил за большим обедом особый стол, пониже царского места; а Гонсевский сел на первом месте за тем столом, где помещались польские гости. Во время пира гремела музыка, а после него следовали танцы. Самозванец являлся то в русском наряде, то в гусарском; Марина одевалась большей частью в польский костюм. Веселые пиры с танцами и маскарадами повторялись теперь почти ежедневно; а правительственные заботы отложены были в сторону. Оба, и самозванец, и Марина, упоенные успехом и наслаждениями, находились в каком-то чаду. Тем ужаснее было пробуждение этой легкомысленной четы[7]7
СГГ и Д. Т. II. № 99—137. (Посольство Власьева и Бучинского, переписка Лжедимитрия с ними и Мнишеком.) Жабчина Posel Moskiewski w Krakowie (стихотворное описание обручения Марины). Записки Жолкевского, изд. Муханова (о тайном поручении бояр Безобразову и царицы Марфы шведу и о спасении ею тела царевича, которое самозванец хотел выбросить из могилы в Угличской церкви). Борта, Маржерет, Петрей, Паэрле, Буссов-Бер, Масса, Дневник польских послов и так наз. Дневник Марины. Древ. рос. вивл. III (Свадьба Растригина), La legende de la vie etc. Палицын. Дьяк Тимофеев. Последний называет Власьева «тайноглагольником» и «стаинником» самозванца. Он же говорит об участии Ксении Борисовны: «И оттуда на лета к большому безчестию продолжися живот ея даже и до четвертаго по отцы царюющаго чаете в державах пременяющихся, и от места на место и от лавры в лавру она провождение подья. И до толика безславия жизнь ее протяжеся, яко и до еже – всякого безчестия скудость и нужду претерпети, даже и до сего, яко и иноплеменных язык, самых врагов отца ея, ту унижене руки осязаша. Прочее же помолчю» (Рус. ист. б-ка. Т. XIII. С. 369). О сношениях Лжедимитрия с недовольными поляками, которые сочинили его кандидатуру на польский престол, говорит Костомаров в своем «Смутном времени», ссылаясь на рукопись Красинской библиотеки. На эти сношения намекают Масса (с. 190 и 206) и Велевицкий (с. 172 и 174). Что касается до причащения и миропомазания по греческому обряду, во время ее коронации и венчания, то напрасно о. Пирлинг оставляет вопрос о том открытым (с. 139). Как русский источник, именно «Отрывок брачного обряда с Мариной» (СГГ и Д. Т. II. № 138) говорит прямо о «помазании» и «причастии», так Велевицкий и Дневник Марины (писанный кем-то из ее свиты) тоже выражаются, что коронация и помазание происходили more graeco, включая сюда, конечно, и причастие. Относительно вопроса о перекрещении иноверцев при переходе в православие заметим, что оно было подтверждено собором 1620 г. См. о том проф. Д. Цветаева (Протестантство и протестанты в России. С. 349–350, 511, 665.), И. Соколова (Протестантство в России. С. 107), Л.П. Рущинского (Религиозный быт русских. Чт. Об-ва ист. и древн. 1871. III. С. 225, 226). Оно было упразднено совершенно только при Петре Великом. Об этом же вопросе см. критику проф. Амф. Лебедева на исслед. проф. Цветаева в ЖМНПр. 1892. Март. В показании Бучинских в уста Лжедимитрия влагается речь о том, что «по их крестьянскому закону первое крестив, да тож ввести в церковь, а не крестив никому иных вер в церковь не входити» (СГГ и Д. Т. II. № 140). В окружной грамоте царицы – инокини Марфы тоже говорится, что он «взял девку латынския веры, и не крестил ее венчался с нею». То же повторяет царь В. Шуйский (Ibid. № 146, 147). К концу Лжедимитриева царствования относится найденная в Краснохолмском Антониевом монастыре хозяйственная запись (хранящаяся теперь в Тверском музее). В ней говорится о посылке 35 меринов, монастырских и волостных лошадей, «которые велено прислати к Москве для польскаго походу». См. А.К. Жизневского в «Древностях Моск. Археол. об-ва». Т. VIII. 1880. С. 20 и «Рус. архив». 1886. № 9. Польский поход, о котором тут говорится, означает поход не в Польшу, а в степи или в «поле» против крымских татар, то есть «полевой» поход. Это известие совершенно согласуется с данными о приготовлениях самозванца к войне с татарами и турками и с его угрозой нареченному тестю, что после Пасхи он отправится к войску на Южную Украйну. Несколько незначительных актов, относящихся к Лжедимитрию I, см. у Полевого «Русская библиотека». М., 1834. В Петербургском Эрмитаже есть старинная картина, изображающая въезд Марины в Москву. В рисунках, приложенных к изданию Массы, – план Москвы 1606 г. и план Лжедимитриева дворца. Вид Кремля в начале XVII в. (из Geographie Blaviane) в «Древностях». XI. Вып. 2. 1886. План Москвы в начале XVII в. по чертежу Федора Борисовича в III ч. Сказаний о самозванце. Портреты самозванца и Марины в «Сказ. современ.» у Н. Устрялова. I и IV. Также и у Немцевича. Ill, с прибавлением портрета Юрия Мнишека. В Пештском национальном музее находится древняя картина, писанная на дереве по левкасу. Она изображает прием послов в московской Грановитой палате. Члены музея полагали, что тут представлено венгерское посольство у Ивана III. Но граф А.С. Уваров доказал, что эта картина относится к 1606 г. и буквально воспроизводит описания Паэрле, Дневника Марины и Дневника польских послов, относящиеся к приему Лжедимитрием Юрия Мнишека, 25 апреля, и послов Олесницкого с Гонсевским, 3 мая (Труды Моск. Археол. об-ва. Т. IV. Вып. 3. М., 1874). Мы полагаем, что вернее отнести картину к приему 3 мая, ибо на ней изображены два посла и сидящий особо Юрий Мнишек; тогда как на приеме 25 апреля послы отсутствовали. Картина очень любопытна. Тут: Лжедимитрий в полном царском облачении, на возвышенном троне с двуглавым орлом над сенью; четыре рынды с секирами; по правую руку от него сидят патриарх и несколько духовных лиц, по левую думные бояре; далее кругом сидящие и стоящие дворяне в светлоузорчатых длиннополых кафтанах и высоких шапках; перед ним польские послы и их свита в синих камзолах и поверх них в красных коротких почти безрукавных кафтанах, с подбритыми кругом головами. Стены палаты расписаны; пол устлан коврами. С пяти печатей Лжедимитрия см. «Снимки древних русских печатей». Издание Ком. при Глав. Архиве Мин. ин. дел. Вып. 1. М., 1882.
[Закрыть].
Само собой разумеется, что ликование московского народа, простодушно поверившего в подлинность и чудесное спасение царевича, и надежды, возбужденные новым царем, не могли длиться долгое время. Сомнение и разочарование долженствовали наступить скоро; ибо трудно было скрыть общественный обман от стольких проницательных или враждебных глаз. Главный толчок к разоблачению обмана, естественно, исходил из той боярской группы, которая могла, ради свержения ненавистных Годуновых, признать самозванца временно, но никак не помириться с его царствованием. Во главе этой партии с самого начала явилась семья Шуйских. Первая попытка их, как мы видели, не удалась, и сами они едва спаслись. Однако начатые ими тайные внушения продолжали бродить в русском обществе и вызывать неблагоприятные для самозванца толки, которые, в свою очередь, повели за собой некоторые розыски и человеческие жертвы. Хотя бояре и высшее духовенство, познакомясь ближе с мнимым Димитрием, едва ли продолжали считать его Гришкой Отрепьевым; но им не было никакого расчета опровергать раз пущенную в народ молву об этом тождестве; напротив, в их интересах было ее поддерживать и распространять. Слово «расстрига» переходило из уст в уста и многих приводило в негодование, а некоторых подвигало на обличение и самопожертвование. Самозванец со свойственной ему непоследовательностью, забыв о намерении упрочить себя милостями и прощением, стал прибегать к тюрьме и казням. Так погибли дворянин Петр Тургенев и купец Федор Калачник, которым отрубили головы на площади. Когда вели их на казнь, Калачник кричал народу: «Приняли вы на себя образ антихристов и поклонились его посланному; тогда уразумеете, когда все от него погибнете!» Но большинство народа еще верило в названого Димитрия и отвечало: «Поделом вам!» Толки о самозванстве царя и его неуважении к вере проникли и в среду придворных стрельцов; о чем в январе 1606 года донесли Басманову, а тот Лжедимитрию. Сей последний велел собраться стрельцам на внутреннем дворе без оружия; вышел к ним, окруженный алебардщиками, и держал речь, в которой красно и бойко упрекал их в измене и убеждал в своей подлинности. Смущенные стрельцы завопили, чтобы им указали изменников. Им указали семь человек, заранее намеченных; товарищи тотчас бросились на них, как звери, и голыми руками растерзали их на части.
Однако толки о «расстриге», его дружбе с поляками и намерении искоренить православную веру не прекращались. Некто дьяк Тимофей Осипов, движимый ревностью к вере, решился обличить лжецаря и приготовился к мученичеству. Он несколько дней постился и молился; потом, причастившись Святых Тайн, пришел в царские палаты и перед всеми сказал самозванцу: «Ты воистину Гришка Отрепьев, разстрига, а не цесарь непобедимый, ни царев сын Димитрий, но греху раб!» Раздраженный самозванец велел его вывести и убить; но впечатления, произведенного сим подвигом, он не мог уничтожить. Престарелый и слепой Симеон Бекбулатович явился также ревнителем православия и увещевал людей крепко стоять за веру. Самозванец велел его отвезти в Кирилло-Белозерский монастырь и там постричь в монахи.
Легкомысленное поведение Лжедимитрия, его частое пренебрежение к русским обычаям, распутство и явное предпочтение поляков русским в конце концов должны были вызвать общее неудовольствие и усилить толки о его самозванстве.
Трое братьев Шуйских едва только были прощены и воротились в Москву, как снова принялись устраивать обширный заговор, находя, что сам Лжедимитрий значительно для того подготовил почву. Душой сего дела был все тот же князь Василий Иванович, старший из братьев, который одновременно сумел вкрасться в доверие самозванца и попасть в число самых близких к нему бояр и советников. Особенно усердную помощь нашел он в духовенстве, которое, кроме религиозной ревности, было возбуждено еще слухами о намерении лжецаря отобрать у него многие имущества для того, чтобы употребить их на войну с турками и татарами. Заговор уже достаточно созрел; но вожаки медлили исполнением. Князь Шуйский ждал прибытия Мнишеков и царской свадьбы. Он предвидел, что внимание самозванца будет отвлечено свадебными торжествами, а в это время новоприбывшие поляки не преминут подлить масла в огонь народной ненависти. Говорят также, что бояре-заговорщики, возмущенные расточительностью лжецаря и его бесчисленными подарками Мнишекам, рассчитывали отнять назад большую часть сих драгоценностей, которую те, по всей вероятности, привезут с собой в Москву. Все эти расчеты почти вполне оправдались. Едва польские гости водворились в Москве, как начались их частые столкновения с жителями. Буйные поляки презрительно обходились с туземцами и при случае позволяли себе насилия над их женами; причем не щадили и самих боярынь. Начались кровавые драки. Та и другая сторона обращалась с жалобами к правителю. Некоторые поляки проведали кое-что о заговоре и пытались предупреждать самозванца; но тщетно. На основании предыдущих примеров он слишком уверился в своей прочности; а главное, теперь ему было некогда думать и заботиться о чем-либо, кроме забав и праздников своего медового месяца.
Известна легенда о человеке, который за наслаждения земной жизни продал свою душу дьяволу, а потом, когда пришел час расплаты, пытался тем или другим способом от нее избавиться. Нечто подобное приходилось испытывать самозванцу, от которого расплаты требовали со всех сторон еще прежде, чем он успел осмотреться в своем новом положении.
Между прочим, нелегко ему было изворачиваться перед назойливыми притязаниями Иезуитского ордена и Римской курии.
В свите Мнишеков прибыл в Москву знакомый Лжедимитрию патер Савицкий, еще недавний участник его обращения в католическую веру. Он имел поручение от папы и нунция подействовать на лжецаря, напомнить ему данные обязательства и указать на его явные от них уклонения. Но Савицкому пришлось ждать, пока тот удостоил его интимной аудиенции. Это случилось за два дня до его гибели. Лжедимитрий принял иезуита наедине в своей спальне. Савицкий поцеловал его руку, поздравил с благополучным вступлением на престол и вручил ему некоторые подарки, присланные папой и генералом Иезуитского ордена, кроме того, и папскую индульгенцию. Хозяин повел беседу, ходя с гостем по комнате. Последний вкрадчивым тоном начал речь о делах религии и напомнил обещания. Уклоняясь от прямого ответа, самозванец завел свой обычный разговор о школах и выразил намерение основать в Москве иезуитскую коллегию, которая должна приготовить русских учителей для будущих школ. Потом он вдруг переменил разговор и стал распространяться о войске, которое собрал уже в количестве 100 000 человек. Затем прибавил, что еще не решил, против кого вести это войско, против неверных или кого другого, и тут же начал жаловаться на польского короля, который не признает его титулов. Иезуит старался рассеять его неудовольствие и, пользуясь минутой, просил даровать ему свободный доступ к царской особе во всякое время. Лжедимитрий охотно согласился, позвал тотчас своего секретаря Бучинского и отдал ему приказание всякий раз докладывать о приходе патера. Обещая в другой раз поговорить обо всем подробнее, он отделался от гостя под тем предлогом, что ему нужно спешить к своей матери. Это было первое и последнее свидание с ним патера Савицкого в Москве.
Неслыханная удача и чад удовольствий до того ослепили самозванца, что он упорно отказывался верить в существование какого-то заговора, несмотря на предостережения, обращенные к нему с разных сторон. Многие из более сметливых поляков, находившихся на царской службе, ясно заметили угрожающее отношение к ним русских и понимали, что с этой стороны что-то затевается. По их просьбе царский тесть накануне самой трагедии пошел к своему зятю и от имени товарищей умолял его принять меры против грозившей опасности.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































