-

Просмотров: 181570
451 градус по Фаренгейту
Рэй Брэдбери
451° по Фаренгейту – температура, при которой воспламеняется и горит бумага. Философская…
-

Просмотров: 43733
Молчание ягнят
Томас Харрис
ВТОРОЙ РОМАН О ГАННИБАЛЕ ЛЕКТЕРЕ
Один из самых культовых триллеров ХХ века. Его…
-

Просмотров: 28919
Спаси меня
Мона Кастен
Любовь, страсть, привязанность – Руби Белл боится всего этого как огня. Ей нужно лишь…
-

Просмотров: 17716
Палата № 6
Антон Чехов
Кажется, что в XIX веке больше всего писателей выпускали медицинские институты. Антон…
-

Просмотров: 14640
Леди Макбет Мценского уезда
Николай Лесков
Изъездив всю страну вдоль и поперек, Николай Лесков собрал галерею характеров,…
-

Просмотров: 10516
Спаси нас
Мона Кастен
Они из разных миров. И все же они предназначены друг для друга.
Руби и Джеймс думали, что…
-

Просмотров: 10216
Дверь в стене
Герберт Уэллс
Английский прозаик Герберт Уэллс – один из основоположников научной фантастики, автор…
-

Просмотров: 7896
Спаси себя
Мона Кастен
Руби Белл опустошена. Джеймс завоевал ее сердце, а потом просто разбил его – разбил…
-

Просмотров: 7653
Задача трех тел
Лю Цысинь
Они придут, и Земля вновь станет гармоничным и процветающим миром…
В те времена, когда…
-

Просмотров: 7001
Возможность острова
Мишель Уэльбек
Один из самых известных романов французского писателя Мишеля Уэльбека уже почти два…
-

Просмотров: 6314
KGBT+ (КГБТ+)
Виктор Пелевин
Вбойщик KGBT+ (автор классических стримов «Катастрофа», «Летитбизм» и других) известен…
-

Просмотров: 5003
Судьба по книге перемен
Татьяна Устинова
Каждый роман Татьяны Устиновой – это не только запутанный детектив, но и теплая история о…
-

Просмотров: 4018
Семь сестер. Сестра ветра
Люсинда Райли
Алли Деплеси собирается принять участие в одной из самых опасных яхтенных гонок в мире,…
-

Просмотров: 3717
Sex-онли с полковником
Марина Кистяева
Полковник Ломов знал: понравилась девушка – бери. Забирай себе. Присваивай.
Он решил, что…
-

Просмотров: 3676
Роковой подарок
Татьяна Устинова
Новый остросюжетный роман прославленной звезды российского детектива Татьяны Устиновой…
-

Просмотров: 3602
Мертвы, пока светло
Шарлин Харрис
Литературная основа сериала «Настоящая кровь», получившего премии «Золотой глобус» и…
-

Просмотров: 3366
Семь сестер. Сестра жемчуга
Люсинда Райли
Путешествие, предпринятое Сиси, одной из шести приемных сестер Деплеси, в попытке найти…
-

Просмотров: 3028
Поменяй воду цветам
Валери Перрен
Как быть, если кажется, что все потеряно и пережить свалившиеся несчастья невозможно?…
-

Просмотров: 2913
Семь сестер. Сестра солнца
Люсинда Райли
ПРОДОЛЖЕНИЕ ЗНАМЕНИТОГО ЦИКЛА «СЕМЬ СЕСТЕР».
Для всего мира Электра – настоящая…
-

Просмотров: 2783
Чудовище во мраке
Эдогава Рампо
Вошедшие в этот сборник произведения относятся к раннему этапу творчества Рампо, который…
-

Просмотров: 2652
Грешная и святая
Джо Беверли
Благородный разбойник спасает беззащитную девушку – и становится ее покровителем и…
-

Просмотров: 2481
Семь сестер. Сестра тени
Люсинда Райли
Астеропа Деплеси, или просто Стар, как называют ее близкие, стоит перед непростым…
-

Просмотров: 2148
Нина
Марина Кистяева
Перед ним не могла стоять Нина Коваль, дочь небезызвестного Генерала.
Она сейчас…
-

Просмотров: 1962
Путешествие в Элевсин
Виктор Пелевин
МУСКУСНАЯ НОЧЬ – засекреченное восстание алгоритмов, едва не погубившее планету.…









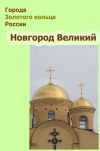
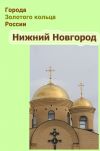
































Очень ванильные, правильные, нравоучительные тексты. Автор надел белое пальто, и вещает истины, с которыми трудно спорить. Если он сам всему этому безупречно следовал в своей жизни, то... это очень хорошо.