Читать книгу "Петр и Алексей"
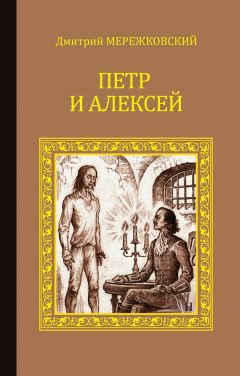
Автор книги: Дмитрий Мережковский
Жанр: Историческая литература, Современная проза
Возрастные ограничения: 12+
сообщить о неприемлемом содержимом
Дмитрий Сергеевич Мережковский
Петр и Алексей (Антихрист)
© ООО «Издательство «Вече», 2014
© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2016
Сайт издательства www.veche.ru
Об авторе
Дмитрий Сергеевич Мережковский родился в Петербурге 2 (14) августа 1865 года в дворянской семье. Он рано увлекся литературой: стихи начал писать с 13 лет, подражая Пушкину; первое стихотворение опубликовал в 1880 году. Впоследствии многие его стихотворения были положены на музыку С.В. Рахманиновым, П.И. Чайковским, А.Г. Рубинштейном и другими композиторами.
Мережковский окончил классическую гимназию и историко-филологический факультет Петербургского университета. В студенческие годы увлекался философией, а также приобрел многочисленные знакомства в кругу столичных литераторов и деятелей культуры.
Весной 1888 года вышел сборник юношеских стихотворений Мережковского, принесший ему первую известность. Тогда же, по окончании университета, молодой литератор отправляется для поправки здоровья в путешествие по югу России и Кавказу. Здесь, в Боржоми, он познакомился с девятнадцатилетней поэтессой Зинаидой Гиппиус. В начале следующего года она стала женой Мережковского. Их семейный союз продлится до конца дней писателя. Они прожили вместе, как писала Гиппиус в своих мемуарах, «52 года, не разлучившись ни на один день». Писатель много путешествовал, подолгу жил в Италии. В 1893 году он начал писать трилогию «Христос и Антихрист», над которой работал 12 лет. Трилогия, состоящая из романов «Юлиан Отступник», «Воскресшие боги. Леонардо да Винчи», «Петр и Алексей», принесла автору европейскую известность, но в России эти книги пробивали дорогу к читателю с огромным трудом.
Религиозные искания Мережковского совпали с началом революции 1905–1907 гг., радикально повлиявшей на его мировоззрение. Впоследствии Мережковский станет одним из организаторов Религиозно-философского общества. Супруги (вместе с коллегой-единомышленником Д.В. Философовым) уезжают в Париж, где публикуют сборник статей, посвященных религиозному значению русской революции.
В Париже Мережковский начал работу над новой трилогией «Царство зверя» о природе и сути русской монархии. Трилогию открывает драма «Павел Первый», публикация которой вызвала судебный процесс против автора. Следом появляются романы «Александр Первый» и «14 декабря». В «Александре Первом» на широком историческом фоне исследуется предыстория восстания декабристов. Автор критически относится как к офицерскому заговору, так и к русской монархии, которую он называет силой «демонической», «антихристовой».
К Первой мировой войне Мережковский отнесся отрицательно, как и к революционным событиям октября 1917 года. В 1919 году Мережковский и Гиппиус навсегда покидают родину, найдя приют в случайно купленной несколько лет назад парижской квартире. В эмиграции Мережковский продолжает много работать. Но основное место в его зарубежном творчестве заняли историко-культурные и историко-религиозные исследования. Известен писатель и как блестящий переводчик античных и европейских авторов. Умер Мережковский 9 декабря 1941 года в Париже.
ИЗБРАННЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д.С. МЕРЕЖКОВСКОГО:
«Стихотворения. 1883–1887» (1888)
«Юлиан Отступник» (1895)
«Вечные спутники» (1897)
«Воскресшие боги. Леонардо да Винчи» (1901)
«Петр и Алексей» (1905)
«Грядущий хам» (1905)
«Павел Первый» (1908)
«Александр Первый» (1911–1913)
«14 декабря» (1918)
«Мессия» (1927)
«Наполеон» (1929)
«Иисус Неизвестный» (1932)
«Св. Франциск Ассизский» (1938)
«Данте» (1939)
Книга первая
Петербургская Венера
I
– Антихрист хочет быть. Сам он, последний черт, не бывал еще, а щенят его народилось – полна поднебесная. Дети отцу своему подстилают путь. Все на лицо антихристово строят. А как устроят, да вычистят гладко везде, так сам он в свое время и явится. При дверях уже – скоро будет!
Это говорил старик лет пятидесяти в оборванном подьяческом кафтане молодому человеку в китайчатом шлафроке и туфлях на босую ногу, сидевшему за столом.
– И откуда вы все это знаете? – произнес молодой человек. – Писано: ни Сын, ни ангелы не ведают. А вы знаете…
Он помолчал, зевнул и спросил:
– Из раскольников, что ли?
– Православный.
– В Петербург зачем приехал?
– С Москвы взят из домишку своего с приходными и расходными книгами, по доношению фискальному во взятках.
– Брал?
– Брал. Не из неволи или от какого воровства, а по любви и по совести, сколько кто даст за труды наши приказные.
Он говорил так просто, что, видно было, в самом деле не считал взятки грехом.
– И ко обличению вины моей он, фискал, ничего не донес. А только по запискам подрядчиков, которые во многие годы по-небольшому давали, насчитано оных дач на меня 215 рублев, а мне платить нечем. Нищ есмь, стар, скорбен, и убог, и увечен, и мизерен, и приказных дел нести не могу – бью челом об отставке. Ваше премилосердное высочество, призри благоутробием щедрот своих, заступись за старца беззаступного, да освободи от оного платежа неправедного. Смилуйся, пожалуй, государь царевич Алексей Петрович!
Царевич Алексей встретил этого старика несколько месяцев назад в Петербурге, в церкви Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы, что близ речки Фонтанной и Шереметевского двора на Литейной. Заметив его по необычной для приказных, давно не бритой седой бороде и по истовому чтению Псалтыри на клиросе, царевич спросил, кто он, откуда и какого чина. Старик назвал себя подьячим Московского Артиллерийского приказа, Ларионом Докукиным; приехал он из Москвы и остановился в доме просвирни той же Симеоновской церкви; упомянул о нищете своей, о фискальном доношении; а также, едва не с первых слов – об Антихристе. Старик показался царевичу жалким. Он велел ему прийти к себе на дом, чтобы помочь советом и деньгами.
Теперь Докукин стоял перед ним, в своем оборванном кафтанишке, похожий на нищего. Это был самый обыкновенный подьячий из тех, которых зовут чернильными душами, приказными строками. Жесткие, точно окаменелые, морщины, жесткий, холодный взгляд маленьких тусклых глаз, жесткая запущенная седая борода, лицо серое, скучное, как те бумаги, которые он переписывал; корпел, корпел над ними, должно быть, лет тридцать в своем приказе, брал взятки с подрядчиков по любви да по совести, а может быть, и кляузничал, – и вот до чего вдруг додумался: Антихрист хочет быть.
«Уж не плут ли?» – усумнился царевич, вглядываясь в него пристальнее. Но ничего плутовского или хитрого, а скорее что-то простодушное и беспомощное, угрюмое и упрямое было в этом лице, как у людей, одержимых одною неподвижною мыслью.
– Я еще и по другому делу из Москвы приехал, – добавил старик и как будто замялся. Неподвижная мысль с медленным усилием проступала в жестких чертах его. Он потупил глаза, пошарил рукою за пазухой, вытащил оттуда завалившиеся за подкладку сквозь карманную прореху бумаги и подал их царевичу.
Это были две тоненькие засаленные тетрадки в четвертую долю, исписанные крупно и четко подьяческим почерком.
Алексей начал их читать рассеянно, но потом все с большим и большим вниманием.
Сперва шли выписки из святых отцов, пророков и Апокалипсиса об Антихристе, о кончине мира. Затем – воззвание к «архипастырям великой России и всей вселенной», с мольбою простить его, Докукина, «дерзость и грубость, что мимо их отеческого благословения написал сие от многой скорби своей и жалости, и ревности к церкви», а также заступиться за него перед царем и прилежно упросить, чтоб он его помиловал и выслушал.
Далее следовала, видимо, главная мысль Докукина:
«Повелено человеку от Бога самовластну быть».
И наконец – обличие государя Петра Алексеевича:
«Ныне же все мы от онаго божественного дара – самовластной и свободной жизни отрезаемы, а также домов и торгов, землевладельства и рукодельства, и всех своих прежних промыслов и древле установленных законов, паче же и всякого благочестия христианского лишаемы. Из дома в дом, из места в место, из града в град гонимы, оскорбляемы и озлобляемы. Весь обычай свой и язык, и платье изменили, головы и бороды обрили, персоны свои ругательски обесчестили. Нет уже в нас ни доброты, ни вида, ни различия с иноверными; но до конца смесилися с ними, делам их навыкли, а свои христианские обеты опровергли и святые церкви опустошили. От Востока очи смежили: на Запад ноги в бегство обратили, странным и неведомым путем пошли и в земле забвения погибли… Чужих установили, всеми благами угобзили, а своих, природных гладом поморили и, бьючи на правежах, несносными податями до основания разорили. Иное же и сказать неудобно, удобнее устам своим ограду положить. Но весьма сердце болит, видя опустошение Нового Иерусалима и люд в бедах язвлен нестерпимыми язвами!»
«Все же сие, – говорилось в заключение, – творят нам за имя Господа нашего Иисуса Христа. О, таинственные мученики, не ужасайтесь и не отчаивайтесь, станьте добре и оружием Креста вооружитесь на силу антихристову! Потерпите Господа ради, мало еще потерпите! Не оставит нас Христос, Ему же слава ныне и присно, и во веки веков. Аминь!»
– Для чего ты это писал? – спросил царевич, дочитав тетрадки.
– Одно письмо такое же намедни подкинул у Симеоновской церкви на паперти, – отвечал Докукин. – Да то письмо, найдя, сожгли и государю не донесли и розыску не делали. А эту молитву прибить хочу у Троицы, возле дворца государева, чтоб все, кто бы ни читал, что в ней написано, знали о том и донесли бы его царскому величеству. А написал сие во исправление, дабы некогда, пришед в себя, его царское величество исправился.
«Плут! – опять промелькнуло в голове Алексея. – А может быть, и доносчик! И догадал меня черт связаться с ним!»
– А знаешь ли, Ларион, – сказал он, глядя ему прямо в глаза, – знаешь ли, что о сем твоем возмутительном и бунтовском писании я, по должности моей гражданской и сыновней, государю батюшке донести имею? Воинского же Устава по артикулу двадцатому: кто против его величества хулительными словами погрешит, тот живота лишен и отсечением головы казнен будет.
– Воля твоя, царевич. Я и сам думал было с тем явиться, чтобы пострадать за слово Христово.
Он сказал это так же просто, как только что говорил о взятках. Еще пристальнее вгляделся в него царевич. Перед ним был все тот же обыкновенный подьячий, приказная строка; все тот же холодный тусклый взгляд, скучное лицо. Только в самой глубине глаз опять зашевелилось что-то медленным усилием.
– В уме ли ты, старик? Подумай, что ты делаешь? Попадешь в гарнизонный застенок – там с тобой шутить не будут: за ребро повесят, да еще прокоптят, как вашего Гришку Талицкого.
Талицкий был один из проповедников конца мира и второго пришествия, утверждавший, что государь Петр Алексеевич – Антихрист, и несколько лет тому назад казненный страшною казнью копчения на медленном огне.
– За помощью Божией готов и дух свой предать, – ответил старик. – Когда не ныне, умрем же всячески. Надобно бы что доброе сделать, с чем бы предстать перед Господом, а то без смерти и мы не будем.
Он говорил все так же просто; но что-то было в спокойном лице его, в тихом голосе, что внушало уверенность, что этот отставной артиллерийский подьячий, обвиняемый во взятках, действительно пойдет на смерть, не ужасаясь, как один из тех таинственных мучеников, о которых он упоминал в своей молитве.
«Нет, – решил вдруг царевич, – не плут и не доносчик, а либо помешанный, либо в самом деле мученик!»
Старик опустил голову и прибавил еще тише, как будто про себя, забыв о собеседнике:
– Повелено от Бога человеку самовластну быть.
Алексей молча встал, вырвал листок из тетрадки, зажег его о горевшую в углу перед образами лампадку, вынул отдушник, открыл дверцу печки, сунул туда бумаги, подождал, мешая кочергой, чтоб они сгорели дотла, и когда остался лишь пепел, подошел к Докукину, который, стоя на месте, только глазами следил за ним, положил руку на плечо его и сказал:
– Слушай, старик. Никому я на тебя не донесу. Вижу, что ты человек правдивый. Верю тебе. Скажи: хочешь мне добра?
Докукин не ответил, но посмотрел на него так, что не нужно было ответа.
– А коли хочешь, выкинь дурь из головы! О бунтовских письмах и думать не смей – не такое нынче время. Ежели попадешься, да узнают, что ты был у меня, так и мне худо будет. Ступай с Богом и больше не приходи никогда. Ни с кем не говори обо мне. Коли спрашивать будут, молчи. Да уезжай-ка поскорей из Петербурга. Смотри же. Ларион, будешь помнить волю мою?
– Куда нам из воли твоей выступить? – проговорил Докукин. – Видит Бог, я тебе верный слуга до смерти.
– О доносе фискальном не хлопочи, – продолжал Алексей. – Я слово замолвлю, где надо. Будь покоен, тебя освободят от всего. Ну, ступай… или нет, постой, давай платок.
Докукин подал ему большой синий клетчатый, полинялый и дырявый, такой же «мизерный», как сам его владелец, носовой платок. Царевич выдвинул ящик маленькой ореховой конторки, стоявшей рядом со столом, вынул оттуда, не считая, серебром и медью рублей двадцать – для нищего Докукина целое сокровище – завернул деньги в платок и отдал с ласковой улыбкою.
– Возьми на дорогу. Как вернешься в Москву, закажи молебен в Архангельском и частицу вынь за здравие раба Божия Алексея. Только смотри, не проговорись, что за царевича.
Старик взял деньги, но не благодарил и не уходил. Он стоял по-прежнему, опустив голову. Наконец, поднял глаза и начал было торжественно, должно быть, заранее приготовленную речь:
– Как древле Самсону утолил Бог жажду через ослиную челюсть, так и ныне тот же Бог не учинит ли через мое неразумение тебе, государь, нечто подобное и прохладительное?
Но вдруг не выдержал, голос его пресекся, торжественная речь оборвалась, губы задрожали, весь он затрясся и повалился в ноги царевичу.
– Смилуйся, батюшка! Послушай нас бедных, вопиющих, последних рабов твоих! Порадей за веру христианскую, воздвигни и досмотри, даруй церкви мир и единомыслие. Ей, государь царевич, дитятко красное, церковное, солнышко ты наше, надежда Российская! Тобой хочет весь мир просветиться, о тебе люди Божии расточенные радуются! Если не ты по Господе Боге, кто нам поможет? Пропали, пропали мы все без тебя, родимый. Смилуйся!
Он обнимал и целовал ноги его с рыданием. Царевич слушал, и ему казалось, что в этой отчаянной мольбе доносится к нему мольба всех погибающих, «оскорбляемых и озлобляемых» – вопль всего народа о помощи.
– Полно-ка, полно, старик, – проговорил он, наклонившись к нему и стараясь поднять его. – Разве я не знаю, не вижу? Разве не болит мое сердце за вас? Одно у нас горе. Где вы, там и я. Коли даст Бог, на царстве буду – все сделаю, чтоб облегчить народ. Тогда и тебя не забуду: мне верные слуги нужны. А пока терпите да молитесь, чтобы скорее дал Бог совершение – буде же воля Его святая во всем!
Он помог ему встать. Теперь старик казался очень дряхлым, слабым и жалким. Только глаза его сияли такою радостью, как будто он уже видел спасение России.
Алексей обнял и поцеловал его в лоб.
– Прощай, Ларион. Даст Бог свидимся, Христос с тобой!
Когда Докукин ушел, царевич сел опять в свое кожаное кресло, старое, прорванное, с волосяною обивкою, торчавшею из дыр, но очень спокойное, мягкое, и погрузился не то в дремоту, не то в оцепенение.
Ему было двадцать пять лет. Он был высокого роста, худ и узок в плечах, со впалою грудью; лицо тоже узкое, до странности длинное, точно вытянутое и заостренное книзу, старообразное и болезненное, со смугло-желтым цветом кожи, как у людей, страдающих печенью; рот очень маленький и жалобный, детский; непомерно большой, точно лысый, крутой и круглый лоб, обрамленный жидкими косицами длинных, прямых черных волос. Такие лица бывают у монастырских служек и сельских дьячков. Но когда он улыбался, глаза его сияли умом и добротою. Лицо сразу молодело и хорошело, как будто освещалось тихим внутренним светом. В эти минуты напоминал он деда своего, Тишайшего царя Алексея Михайловича в молодости.
Теперь, в грязном шлафроке, в стоптанных туфлях на босу ногу, заспанный, небритый, с пухом на волосах, он мало похож был на сына Петра. С похмелья после вчерашней попойки проспал весь день и встал недавно, только перед самым вечером. Через дверь, отворенную в соседнюю комнату, видна была неубранная постель со смятыми огромными пуховиками и несвежим бельем.
На рабочем столе, за которым он сидел, валялись в беспорядке заржавевшие и запыленные математические инструменты, старинная сломанная кадиленка с ладаном, табачная терка, пеньковые пипки, коробочка из-под пудры для волос, служившая пепельницей; вороха бумаг и груды книг в таком же беспорядке: рукописные заметки ко всемирной Летописи Барония покрывала куча картузного табаку; на странице раскрытой, растерзанной, с оборванным корешком, Книги, именуемой Геометрия, или Землемерие радиксом и циркулем к научению мудролюбивых тщателей, лежал недоеденный соленый огурец; на оловянной тарелке – обглоданная кость и липкая от померанцевой настойки рюмка, в которой билась и жужжала муха. И по стенам с ободранными, замаранными шпалерами из темно-зеленой травчатой клеенки, и по закоптелому потолку, и по тусклым стеклам окон, не выставленных, несмотря на жаркий конец июня, – всюду густыми черными роями жужжали, кишели и ползали мухи.
Мухи жужжали над ним. Он вспомнил драку, которой кончилась вчерашняя попойка. Жибанда ударил Засыпку, Засыпка – Захлюстку, и отец Ад и Грач с Молохом свалились под стол; это были прозвища, данные царевичем его собутыльникам, «за домовную издевку». И сам он, Алексей Грешный – тоже прозвище, – кого-то бил и драл за волосы, но кого именно, не помнит. Тогда было смешно, а теперь гадко и стыдно.
Голова разбаливалась. Выпить бы еще померанцевой, опохмелиться. Да лень встать, позвать слугу, лень двинуться. А сейчас надо одеваться, напяливать узкий мундирный кафтан, надевать шпагу, тяжелый парик, от которого еще сильнее болит голова, и ехать в Летний сад на маскарадное сборище, где велено быть всем «под жестоким штрафом».
Со двора доносились голоса детей, игравших в веревочку и в стрякотки-блякотки. Больной взъерошенный чижик в клетке под окном изредка чирикал жалобно. Маятник высоких, стоячих, с курантным боем, английских часов – давнишний подарок отца – тикал однообразно. Из комнат верхнего жилья слышались унылые бесконечные гаммы, которые разыгрывала на дребезжащем, стареньком немецком клавесине жена Алексея, кронпринцесса София, Шарлотта, дочь Вольфенбюттельского герцога. Он вдруг вспомнил, как вчера, пьяный, ругал ее Жибанде и Захлюстке: «Вот жену мне на шею чертовку навязали: как-де к ней ни приду; все сердитует и не хочет со мною говорить. Этакая фря немецкая!» – «Не хорошо, – подумал он. – Много я пьяный лишних слов говорю, а потом себя очень зазираю»… И чем она виновата, что ее почти ребенком насильно выдали за него? И какая она фря? Больная, одинокая, покинутая всеми на чужой стороне, такая же несчастная, как он. И она его любит – может быть, она одна только и любит его. Он вспомнил, как они намедни поссорились. Она закричала: «Последний сапожник в Германии лучше обращается со своею женою, чем вы!» Он злобно пожал плечами: «Возвращайтесь же с Богом в Германию!..» – «Да, если бы я не была…» – и не кончила, заплакала, указывая на свой живот – она была беременна. Как сейчас, видит он эти припухшие, бледно-голубые глаза и слезы, которые, смывая пудру – только что бедняжка нарочно для него припудрилась, – струятся по некрасивому, со следами оспы, чопорному, еще более подурневшему и похудевшему от беременности и такому жалкому, детски-беспомощному лицу. Ведь он и сам любит ее, или, по крайней мере, жалеет по временам внезапною и безнадежною, острою до боли, нестерпимою жалостью. Зачем же он мучит ее? Как не грешно ему, не стыдно? Даст он за нее ответ Богу.
Мухи одолели его. Косой, горячий, красный луч заходящего солнца, ударяя прямо в окно, резал глаза.
Он передвинул, наконец, кресло, повернулся спиною к окну и уставился глазами в печку. Это была огромная, с резными столбиками, узорчатыми впадинками и уступчиками, голландская печь из русских кафельных изразцов, скованных по углам медными гвоздиками. Густыми красно-зелеными и темно-фиолетовыми красками по белому полю выведены были разные затейливые звери, птицы, люди, растения – и под каждой фигуркой славянскими буквами надпись. В багровом луче краски горели с волшебною яркостью. И в тысячный раз с тупым любопытством царевич разглядывал эти фигурки и перечитывал надписи. Мужик с балалайкой: музыку умножаю; человек в кресле с книгою: пользую себя; тюльпан расцветающий: дух его сладок; старик на коленях перед красавицей: не хочу старого любити; чета, сидящая под кустами: совет наш благ с тобою; и березинская баба, и французские комедианты, и попы, китайский с японским, и Диана, и сказочная птица Малкофея.
А мухи все жужжат, жужжат; и маятник тикает; и чижик уныло пищит; и гаммы доносятся сверху, и крики детей со двора. И острый, красный луч солнца тупеет, темнеет. И разноцветные фигурки движутся. Французские комедианты играют в чехарду с березинскою бабою; японский поп подмигивает птице Малкофее. И все путается, глаза слипаются. И если бы не эта огромная липкая черная муха, которая уже не в рюмке, а в голове его жужжит и щекочет, то все было бы хорошо, спокойно, и ничего бы не было, кроме тихой, темной, красной мглы.
Вдруг он вздрогнул весь и очнулся. «Смилуйся, батюшка, надежда Российская!» – прозвучало в нем с потрясающей силою. Он оглянул неряшливую комнату, себя самого – и, как режущий глаза, багровый луч солнца, залил ему лицо, обжег его стыд. Хороша «надежда Российская»! Водка, сон, лень, ложь, грязь и этот вечный подлый страх перед батюшкой.
Неужели поздно? Неужели кончено? Стряхнуть бы все это, уйти, бежать! «Пострадать за слово Христово, – прозвучали в нем опять слова Докукина. – Человеку повелено от Бога самовластну быть». О да, скорее к ним, пока еще не поздно! Они зовут и ждут его, «таинственные мученики».
Он вскочил, как будто в самом деле хотел куда-то бежать, что-то решить, что-то сделать безвозвратное – и замер весь в ожидании, прислушиваясь.
В тишине загудели медным, медленным, певучим гулом курантного боя часы. Пробило девять, и когда последний удар затих, дверь тихонько скрипнула, и в нее просунулась голова камердинера, старика Ивана Афанасьича Большого.
– Ехать пора. Одеваться прикажете? – проворчал он, по своему обыкновению, с такою злобною угрюмостью, точно обругал его.
– Не надо. Не поеду, – сказал Алексей.
– Как угодно. А только всем велено быть. Опять станут батюшка гневаться.
– Ну, ступай, ступай, – хотел было прогнать его царевич, но, взглянув на эту взъерошенную голову с пухом в волосах, с таким же небритым, измятым, заспанным лицом, как у него самого, вдруг вспомнил, что это ведь его-то, Афанасьича, он и драл вчера за волосы.
Долго царевич смотрел на старика с тупым недоумением, словно только теперь проснулся окончательно.
Последний красный отблеск потух в окне, и все сразу посерело, как будто паутина, спустившись из всех закоптелых углов, наполнила и заткала комнату серою сеткою.
А голова в дверях все еще торчала, как прилепленная, не подаваясь ни взад, ни вперед.
– Так прикажете одеваться, что ли? – повторил Афанасьич с еще большею угрюмостью.
Алексей безнадежно махнул рукою.
– Ну, все равно, давай!
И видя, что голова не исчезает, как будто ожидая чего-то, прибавил:
– Еще бы померанцевой, опохмелиться? Дюже голова трещит со вчерашнего…
Старик не ответил, но посмотрел на него так, как будто хотел сказать: «Не твоей бы голове трещать со вчерашнего!»
Оставшись один, царевич медленно заломил руки, так что все суставы пальцев хрустнули, потянулся и зевнул. Стыд, страх, скорбь, жажда раскаяния, жажда великого действия, мгновенного подвига – все разрешилось этою медленною, неудержимою до боли, до судороги в челюстях, более страшною, чем вопль и рыдание, безнадежною зевотою.
Через час, вымытый, выбритый, опохмелившийся, туго затянутый в узкий, зеленого немецкого сукна с красными отворотами и золотыми галунами мундир Преображенской гвардии сержанта, он ехал на своей шестивесельной верейке вниз по Неве к Летнему саду.









































