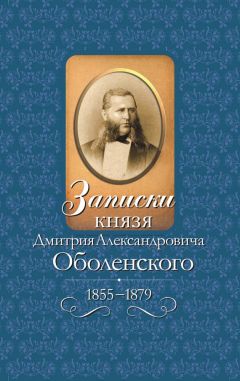
Автор книги: Дмитрий Оболенский
Жанр: Биографии и Мемуары, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 47 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
К нам начали поступать гувернеры, хотя перед сим были у старших братьев несколько немцев и французов, но я их мало помню, ибо был слишком мал. В первый раз подпал я под власть господина Виней, француза. Поступил он к нам на следующих условиях: во-первых – жалование, сколько – не знаю; второе – каждый день бутылка пива и хлеб и каждую неделю по два фунта сыра и штофу водки; третье – право не обедать дома и пользоваться воскресеньем.
Это был толстый господин, вероятно, служивший некогда барабанщиком или сапером в наполеоновской армии и взятый в плен в 12-м году. Это предположение я основываю на том, что он угощал нас в дни именин Наполеона и в дни его блистательных побед, и, напротив, крепко бивал при воспоминании неудач французской армии. Чему он нас учил, я, правда, не помню; кажется, ровно ничему, хотя постоянно находил случай беспощадно бить нас линейкой. Часто запирал он нас в черный чулан и вообще неистовствовал безнаказанно, ибо ничего до батюшки не доходило, потому что Виней нам решительно объявил, что ежели кто-нибудь из нас осмелится хоть слово сказать о нем не только папеньке, но и Екатерине Яковлевне, то он того забьет линейкой до смерти, а ежели будет молчать – то он нас будет каждый день кормить лакомствами. И действительно, каждый день мы после обедни ходили с ним гулять и постоянно заходили в какой-то дом, где жила какая-то женщина, которую он называл своей женой, хотя она была русская. Женщину эту он при нас неоднократно бивал и раз даже пустил в нее стулом, но за что именно – не припомню. Кроме того, часто во время прогулок заходили мы в Гостиный двор, в колониальные лавки[26]26
Магазины с товарами из южных, «колониальных», стран – кофе, чаем, специями и проч.
[Закрыть], где Виней позволял нам есть что угодно и сколько угодно. Не думаю, чтобы он платил за что-либо купцам, а вероятно, просто брал силой в пользу губернаторских детей. Несмотря на все меры, принятые Виней, Екатерина Яковлевна скоро выдала его папеньке, и вследствие сего француз был выгнан из дому, поколотив нас перед отъездом на порядках. До сих пор не могу понять страшное зверство этого человека, как мог он равнодушно обращаться так с детьми и так умышленно развращать их, как он это делал. Я даже думаю, что он это делал из политического убеждения – француза на это хватит.
Кто у нас был после Виней: кажется, поступил добрый и вечной памяти достойный Егор Иванович Бот – честный немец, который мог служить настоящим противоядием скверному Виней. Не могу с достоверностью сказать, откуда г-н Бот был урожден по религиозным своим убеждениям; он, по вероятности, принадлежал к секте гернгутеров[27]27
Они же – «богемские братья» – религиозная секта, возникшая в Богемии (Чехия) в XV в. Проповедовали жизнь «по справедливости». В России группа «гернгутеров» обосновалась в Сарепте (Поволжье) в качестве колонистов с особыми правами.
[Закрыть], и как он часто говаривал сам о Сарептских колониях, то легко может быть, что он и сам был тамошний уроженец, но каким образом он попал в Калугу, мне решительно неизвестно. Он был приставлен к нам троим – брату Сергею, брату Михаилу и ко мне. Брат Юрий был еще на руках няньки, а братья Андрей и Василий были отосланы в Харьков. Первым хорошим впечатлением моего детства я много обязан Боту. Это было добрейшее создание, которое успело бескорыстной любовью сильно привязать нас к себе. Я любил его всем детским сердцем своим, не находя в нем ни малейшего недостатка. Я считал его красавцем и даже теперь помню, как некогда ласкал его, как целовал его руки и плешивую голову. Не могу понять, чем мог он возбудить во мне такое живое к себе чувство; особенных ласк с его стороны я не помню, хотя я, как младший, может быть, и пользовался его особенным расположением, но не думаю, чтобы он показывал это, впрочем, братья тоже его очень любили; впоследствии, когда мы были с ним в пансионе, то и другие дети питали к нему то же чувство; предполагать надо, что такова была уже его любящая натура, что сама по себе, невидимой силой, действовала на детей.
Учил он нас, сколько помню, только одному немецкому языку, но с таким успехом, что мы скоро успели весьма порядочно говорить по-немецки и знали очень много стихов на этом языке. Шиллер был любимым поэтом Бота, а потому преимущественно заставлял он нас выучивать его стихотворения. Во время ежедневных прогулок наших Бот не упускал ни малейшего случая и повода, чтобы выразить разного рода нравственные правила, и таким образом передавал нам понемногу свои протестантские убеждения. Не скажу, чтобы такая постоянная проповедь достигла своей цели, подробности ее даже совершенно исчезли из моей памяти, но, в общем, у меня остались воспоминания о тех впечатлениях, которые производили на меня полумистические слова Бота. Он заставлял нас молиться на немецком диалекте, мы читали обыкновенно «Отче наш» и еще какую-то молитву, которую теперь решительно не помню. Каждый вечер Бот, уложив нас спать, сам садился за стол, брал библию и псалтырь и в полголоса читал; потом начинал довольно громко петь псалмы – все это при слабом освещении сальной свечи, при спокойствии и тишине во всем доме производило на <меня> такое сильное впечатление, что я, лежа в кровати, долго не мог сомкнуть глаза и часто плакал вследствие какого-то особенно высокого душевного настроения, в котором сам себе не мог дать отчета. По воскресениям и праздникам мы постоянно ходили в церковь, и никогда Бот не противодействовал этому, хотя сам в нашу церковь не ходил. Вообще я не помню, чтобы он когда-либо позволял себе совращать нас от православия.
Всем наукам, а равно и французскому языку, обучала нас добрейшая Екатерина Яковлевна Петрова, которая исключительно состояла при сестрах. Она поступила в дом к нам еще при покойной матушке и после смерти ее осталась главной над нами командиршею. Эта добрейшая женщина, можно сказать, воспитала нас всех. Сестры, кроме нее, решительно не имели других учителей и вышли не менее учены, чем те, на воспитание которых тратилось так много денег. Окончив образование одного поколения, она с той же неутомимостью и с той же любовью принялась за воспитание другого поколения, поступив к сестре моей, Софье Евреиновой, у которой <было> 6 человек детей, и все они были не только воспитаны, но и вынянчены ею. По смерти сестры Евреиновой сироты ее, как и мы, остались на попечении Екатерины Яковлевны. Сколько нужно терпения, любви, кротости, смирения для исполнения таких обязанностей; получая от батюшки небольшую пенсию, она не только довольствовалась этим, но весьма часто, при крайне стеснительных обстоятельствах сестры Евреиновой, помогала ей. Эти два добрейших существа – Бот и Екатерина Яковлевна – жили дружно, а потому все шло как нельзя лучше.
Батюшка постоянно занят был службою; в 1830-м году появилась в первый раз холера, а так как эпидемия эта свирепствовала особенно сильно в Москве, то многие родственники приехали из Москвы в Калугу, и это на некоторое время расстроило однообразный ход нашей жизни. Наконец, холера появилась и в Калуге, хотя по сравнению с Москвой болезнь была в слабой степени, но помню, что страх ее был велик. Предписаны были разные предосторожности, комнату окуривали хлором, в карманах носили чеснок, умывались уксусом и проч. Все это сильно нас забавляло, и все мы, по милости Божьей, остались живы и здоровы.
В 1831-м году батюшка был назначен сенатором в Москву и потому должен был оставить Калугу, нас – мальчиков – он решился отдать на воспитание калужскому помещику Семену Яковлевичу Унковскому, отцу многочисленного семейства, весьма достойному и хорошему человеку. Он жил в 12-ти верстах от Калуги в своем имении – в деревне Колышевке. За известную плату Унковский взялся обучать нас вместе с детьми своими и образовать, таким образом, маленький пансион. Егор Иванович Бот должен был оставаться при нас неотлучно в пансионе.
В назначенный день и час нас посадили в четырехместную карету и повезли в Колышевку Сборы в дорогу, сама дорога и, наконец, новое местопребывание наше очень забавляло нас, и таким образом, нечувствительно оставили навсегда родительский дом.
Семейство Унковских, в которое мы поступили, состояло из следующих лиц. Семен Яковлевич Унковский – отставной флота лейтенант, воспитанник Морского кадетского корпуса и участник кругосветной экспедиции адмирала Лазарева, с которым с тех пор находился в тесной дружбе. Человек умный, положительный, добрый семьянин, хороший хозяин, он мог бы с пользой служить на другом поприще, но огромное семейство и недостаток средств заставили его на время удалиться в деревню. Супруга его, Варвара Михайловна, заведовала домашним хозяйством и как женщина недальняя, но весьма добрая вела это дело по старосветским преданиям при помощи огромного количества дворовых девок и женщин. Из них одна, по имени Фиона, в качестве ключницы исключительно заведовала провиантской частью, а потому все прижимки ее особенно остались нам памятны. Так как кроме нас первое время у Унковского никого из посторонних детей не было, то положение нас ничем не рознилось от положения родных детей Унковского. Их было, сколько помнится, во время нашего поступления человек 10, из коих только две дочери, остальные все мальчики разных возрастов; старшему было, впрочем, не более 14-ти лет, так как он с братом Сергеем был почти одногодок. Всем наукам обучала нас девица средних лет, и сколько помнится, звали ее Анной Андреевной, бывшая воспитанница Митавского воспитательного дома[28]28
Учреждение для приема и воспитания подкидышей, возникшее в России в XVIII в.
[Закрыть]. Как все девицы этого рода, она была весьма некрасива, немного рыжевата и постоянно ходила с подвязанной щекой. Учила она нас всех вместе и заставляла себя уважать иногда при помощи линейки. Егор Иванович Бот тоже учил всех нас немецкому языку и, так как он исключительно находился при нас, то и спал с нами в одной комнате и, кроме того, постоянно был нашим защитником во всех мелочных спорных делах. Впрочем, его все очень любили, только с одной ключницей, Фионией, никак не удавалось ему ладить, кто из них был прав и кто виноват – теперь не берусь решить. Время пребывания нашего в деревне у Унковского оставалось мне очень памятно. Теперь уже, я думаю, трудно отыскать в России остатки формы прошедшего века, но тогда еще жили по-старинному, и худое, и лучшее, представлялось во всей наготе своей без прикрас, как оно есть. С тех пор многое переменилось, и в самом Колышеве, где я был недавно, тоже все в другом виде.
Деревня Колышево, в которой мы жили, расположена по берегу реки Угры. Господский дом недалеко от перевоза, на крутом берегу, чрезвычайно напоминает дом, описанный Гоголем в «Старосветских помещиках»; почти то же расположение, с прибавкою, впрочем, мезонина; те же картины висят по стенам, те же скрипящие двери, поющие на разный лад, на дворе так же точно протоптанные тропинки к амбару и кухне. Перед домом к реке палисадник, на который летом слетается бесчисленное количество шпанских мух[29]29
Особый род жучков, использовавшихся в медицине как пластырь. Питается листьями деревьев.
[Закрыть], распространяющих сильное зловоние. Палисадник этот украшен цветниками разных форм, вышедших уже ныне из моды. Два тополя по краям балкона памятны тем, что на них были вырезаны начальные буквы наших имен. Другая сторона дома обращена была на двор, но на котором, кроме кухни и конюшни, находился особый флигель, в котором жила тетушка Унковская, 70-летняя старуха. За амбарами начиналась прекрасная роща, а близ нее фруктовый сад.
Как шло сельское хозяйство в Колышеве, нам было неизвестно. Должно предполагать, что Унковский, как человек практический, вел дела свои хорошо. Мелочное же домашнее хозяйство, находившееся в руках Варвары Михайловны, от нас не могло быть скрыто. Во-первых, огромная дворня, в особенности состоящая из лиц женского пола, наполняла девичьи и даже парадные комнаты: все сидели за работою в пяльцах; большая часть девок босиком, в затрапезных платьях. Амбары битком набиты были припасами, разного рода солениями, варениями и проч. Приготовлялись они в разное время года на наших глазах, мы сами принимали в этом деле иногда участие. Провинившиеся в чем-либо девки без всякого суда тут же наказывались, иногда собственноручно самой барыней. Для дворовых людей мужского пола были тоже наказания, которых теперь уже больше нет. Помню, что за пьянство иногда приковывали человека к так называемому стулу (толстое бревно, в котором пуда два весу). Это наказание, я помню, сильно поражало мое воображение. Кроме того, телесные наказания розгами крестьян и людей производились обыкновенно на конюшне, иногда на глазах наших. Спешу прибавить, что все это происходило весьма редко. Унковский вообще был человек добрый и справедливый и вовсе не злоупотреблял помещичьей властью своей. Он вообще был любим крестьянами, и они, сколько помню, жили в довольстве. Наказания в той форме, в какой они полагались в прежнее время, вообще, мне кажется, были менее справедливы потому, что отношения самого владельца к крестьянам были проще и ближе. Они так естественно вытекали из права помещика, что никогда не могло прийти сомнение в их законности. Теперь, напротив, все так отшлифовано, все подведено под правила приличия, а, в сущности, зло осталось то же, если не прибавилось, но только прикрытое формой. Эти-то формы для меня возмутительнее всего, они всегда во мне возбуждают сомнения в добросовестности того действия, которого служат выражением. В Колышеве, несмотря на отсутствие comme il faut[30]30
прилично, порядочно
[Закрыть], всем жилось хорошо и счастливо.
Первое время после Бота никого из гувернеров при нас не было. Папенька же прислал г. Картамана. Добрый француз, большой охотник с ружьем и собакой Кастор, он недолго оставался. Учились немного, резвились довольно. Описать все подробности нашей жизни, которые остались у меня в памяти, было бы слишком длинно и не замечательно. Батюшка писал нам письма, мы ему отвечали, что всегда было весьма трудно. По истечении некоторого времени Унковский выписал, не знаю откуда, француза. Этот француз по имени Аман явился в Колышево, и с тех пор жизнь наша во многом переменилась. Начали нас учить французскому языку. Бедный Бот держал себя так скромно, что француз скоро сел ему на голову. С другой стороны, нам также жизнь в Колышеве начинала надоедать, оттого ли, что мы уже пообжились, или, может быть, и оттого, что нас действительно начали иногда обижать в пользу детей Унковских. Сама Варвара Михайловна не всегда оставалась беспристрастной, а няньки и ключницы тем паче. Словом, начали мы по-нашему чувствовать свое одиночество, вспоминать о родительском доме, о матушке. Стали замечать, что мы у Унковских все-таки чужие; часто даже, глядя друг на друга, когда собирались вечером в своей комнате, мы начинали плакать, и Бот нам вторил. Ожидая в скором времени приезда батюшки, мы, наконец, сговорились просить его взять нас от Унковских к себе; Бот обещал нам свое содействие. Замысел этот мы, разумеется, хранили в тайне.
Наконец, после долгих ожиданий, батюшка приехал. Помню до сих пор, как мы обрадованы были его приезду, как мы подняли нос и стали важничать перед Унковскими, зная, что теперь никто нас не обидит. Долго мы не знали, как приступить к делу и как выразить батюшке просьбу нашу. Наконец, однажды, избрав удобное время, мы вместе с Ботом пошли в комнату, где отдыхал батюшка. Мы, не помню как, сказали ему задушевную нашу мысль.
«Пустяки, милостивые государи, – отвечал нам батюшка, – живите здесь, вам здесь недурно, есть товарищи, а у меня вам будет скучно». Просьба наша, однако, видимо опечалила батюшку; он не мог скрыть слез своих; свидание с нами всегда расстраивало его и живее напоминало наше сиротство, а в настоящем случае он, вероятно, еще глубже почувствовал свое горе. Обстоятельства батюшки, вероятно, действительно не позволяли ему согласиться на нашу просьбу. Он утешал нас ласкою и уговорил покориться необходимой судьбе.
По отъезде батюшки все пошло по-старому, но вскоре мы должны были оставить Колышево. Унковский назначен был директором калужской гимназии, а потому все семейство и, следовательно, и мы должны были переехать в Калугу. Все это происходило, сколько помню, осенью 1838-го года. В Калуге мы расположились в казенном доме губернской гимназии, на квартире директора, помещавшейся в особом казенном флигеле в два этажа. Мы жили внизу, а Унковский наверху. С приезда в Калугу, собственно, и началось наше учение. Все учителя гимназии были нашими преподавателями, вскоре начали поступать к Унковскому и другие дети на воспитание, одни как приходящие, а другие с постоянным жительством, и, таким образом, устроился настоящий пансион.
Не знаю хорошенько, кто кем был недоволен: Егор Иванович Бот был недоволен Унковским или наоборот, только дело в том, что Бот начал поговаривать о своем отъезде в Москву и вскоре начал собираться в путь, а засим наступил и самый день разлуки. Прощание с Ботом, было, может быть, первое живое горе, мною испытанное. Его разделяли все другие дети. Все навзрыд плакали и целовали доброго старика. Он сам был очень скучен и глубоко тронут нашей любовью. Дальнейшая судьба этого доброго старичка мне отчасти известна. По приезде в Москву он дал родному брату своему, который занимался в Москве не знаю чем, свой небольшой капитал (всего, кажется, три тысячи ассигнациями[31]31
Ассигнации – бумажные деньги, введенные Екатериной II и ходившие сначала наряду с металлическими, а затем и вытеснившие последние. Падали в цене вследствие роста массы бумажных денег, доходя до 1/ 4, 1/3 номинала.
[Закрыть], а тот устроил какую-то мельницу для растирания сандала; предприятие лопнуло, или просто брат брата надул, и бедный Егор Иванович Бот, оставшись без куска хлеба, должен был искать опять место гувернера. К счастью, поступил он к родной моей тетушке княгине Екатерине Алексеевне Оболенской (урожденной графине Мусиной-Пушкиной), у которой жил также несколько лет и был любим всеми, как и прежде. Потом он, на старости лет, задумал жениться на какой-то повивальной бабушке, был с нею очень счастлив и имел сына, которому дал имя Готлиб. Сын этот жил, кажется, недолго, вскоре за ним умерла и жена Бота, а потому и сам он отдал Богу свою добрую душу. Вечная ему память, верю, что он хотя и был немец, но теперь в раю.
После отъезда Бота мы еще более осиротели. На место его поступил немец совершенно других свойств и достоинств – некто герр Балтер. Откуда он был вывезен и как попал в Россию – мне совершенно неизвестно. Язык свой он знал хорошо и преподавал недурно, но характер имел самый бешеный. Всякая безделица раздражала его так, что он выходил из себя и дрался немилосердно. Серые кошачьи глаза придавали ему какой-то свирепый вид. Сама природа его как будто имела какие-то нечеловеческие побуждения. Так, например, он заставлял нас постоянно после обеда с ним драться: мы все нападали на него, а он, разумеется, будучи сильнее нас всех, колотил того, кто к нему попадется, изо всей мочи. После такого ряда упражнений он обыкновенно уставал, ложился на постель, снимал сапоги и заставлял нас щекотать ему подошвы. Во время уроков он бивал нас постоянно. Однажды он стал бить брата Михаила, а брат Сергей, вступившись за брата, с большим хладнокровием подошел к Балтеру сзади и ударил его так сильно в щеку, которая у него в ту пору болела, что немец упал почти без чувств. Наконец, неистовства Балтера оборвались на мне: однажды он так сильно избил меня, что я весь в крови прибежал с жалобой к Унковскому, и впоследствии[32]32
Так в тексте.
[Закрыть] этого события его выгнали.
Вместе с Балтером и даже прежде него у нас был другой гувернер – француз по имени Делон. Он был, вероятно, из солдат наполеоновской армии, говорил довольно понятно по-русски и занимался всякого рода проделками. Часто возвращался он домой пьяный, был знаком с разного рода предосудительными людьми и, наконец, за какую-то мерзость был также выгнан.
Вот какого рода людям было вверено наше воспитание. До сих пор не знаю, как объяснить беспечность Унковского при выборе гувернеров. Пансионом он вообще мало занимался, ибо обращал большое внимание на приведение в устройство гимназии, где и достиг своей цели.
В числе учившихся с нами детей были дети губернатора Бибикова, из них меньший, Иван, был со мной одних лет, и мы были с ним очень дружны. Я очень любил его. Отец Бибикова назначен был в Калугу после батюшки, семейство его было довольно велико, и мы часто езжали к ним на детские балы, где всегда без претензий веселились. Ваничка Бибиков вскоре умер от скарлатины, и я как друг его был очень любим его матерью.
В пансионе учили нас недурно, и преподавание разделено было на два класса, сообразно возрасту учащихся. Из детей Унковских я более всего был дружен с Иваном, который был страшно балован матерью и от которого никак нельзя было ожидать проку. На деле же, как увидим, вышло иначе.
Француз Аман, о котором говорено выше, учил нас только языку, но, кроме того, часто бывал с нами для практических разговоров. При этом он не упускал случая, чтобы не кощунствовать над святыней православной церкви. Надевал иногда на себя рогожу вместо рясы и смеялся над внешним православным богослужением. Однажды брат Сергей, не знаю по какому случаю, сказал ему, что les francais sont venu en Russie non pas comme des conquerants, mais comme des brigands[33]33
Французы пришли в Россию не как завоеватели, а как грабители.
[Закрыть]. Француз рассердился, и какое, вы думаете, он придумал за это брату наказание?… Он заставил его 20 раз кряду письменно проспрягать по всем наклонениям следующую фразу[34]34
Далее пропуск.
[Закрыть]: При этом брату было объявлено, что пока он не кончит своей задачи, он не получит куска хлеба. Бедный Сергей должен был просидеть до вечера и исписал целую тетрадь.
Надо быть французом, чтобы придумать такое наказание и чтобы перед ребенком стать ратником за честь своей нации. Независимо от всех учителей и гувернеров Варвара Михайловна со свитою имела над нами полицейское наблюдение, и это давало какой-то семейный характер нашему пансиону. Обедали мы все вместе – семейно; лето проваживали в Колышеве, где житье было гораздо правильнее, и мы все-таки развивались среди добрых начал. Нравственность наша осталась неиспорченной. Хранитель ее, конечно, был сам Бог, но, кроме того, должен по справедливости сказать, что в патриархальном семействе много было и хороших оснований. Скажу даже, что и дурная сторона нашего воспитания имела свою хорошую сторону. Она, может быть, ближе знакомила нас с жизнью и не имела ничего привлекательного, так что не мирила нас с собою. Гораздо вреднее, по-моему, гувернер образованный, но безнравственный, который умел бы дать наружный блеск своей безнравственности и таким образом неприметно привить ее своему воспитаннику. Гораздо вреднее безбожное начало семейного быта, чем те мелочные и неприятные дрязги ежедневной жизни, через которые нам суждено было пройти. Наконец, в сто раз вреднее для детей та условная этикетная жизнь, налагающая форму и приличие на каждое чувство и порыв сердечный, развивающая с ранних лет мелкие страстишки чванства, самолюбия, лицемерия и лицеприятия, чем патриархальная, хотя и неопрятно убранная, жизнь простых, не важных людей.
Учил закон Божий, часто ходил в церковь и в Алтарь. Калужская губернская гимназия, в которой Унковский был директором, доведена была им до возможного совершенства. Учащихся было много, и старые преподаватели заменены были новыми молодыми кандидатами Московского университета[35]35
Выпускники университета, окончившие его с отличием, сдавшие, согласно Уставу 1804 г., экзамен и представившие сочинение на избранную ими научную тему.
[Закрыть], из которых некоторые были люди весьма способные. Самое заведение получило совершенно другой вид. Хотя мы учились отдельно от гимназистов, но нередко посещали классы гимназии и обыкновенно присутствовали на экзаменах.
В 1834-м году приехал государь в Калугу. Его ожидали в течение нескольких дней, и все улицы, по которым ему следовало ехать, были полны народом. Государь остановился у собора, вышел из коляски и встречен был архиереем Никанором с крестом на паперти. Тут в первый раз я видел государя.
Впечатление, произведенное его необыкновенной наружностью, осталось очень живо в моей памяти. После молебна государь отправился в приготовленный для него дом купца Зюзина. Народ окружил его коляску и хотел отпрячь лошадей, чтобы везти на себе; восторг был неподдельный, он сильно подействовал на мое детское воображение. На другой день государь посетил гимназию, где встречен был Унковским. Мы вместе с детьми Унковского стояли на лестнице, при входе в большую залу, а потом имели случай видеть государя вблизи. Обошедши все заведение, государь остался весьма доволен, благодарил и целовал Унковского и в заключение подошел к нам, поздравил двух сыновей Унковского моряками, приказал тут же Бенкендорфу принять их на казенный счет в Морской корпус.
Вскоре после отъезда государя из Калуги Унковский получил, по высочайшему повелению, назначение быть директором Московского дворянского института. Государь посетил в Москве это заведение и, оставшись им недовольным, сам вспомнил об Унковском и приказал назначить его директором.
Вслед за сим начались приготовления в Москву в зимнее холодное время. Трудно было огромному семейству с маленькими детьми скоро подняться. Решено было ехать на долгих в разных экипажах. Нам, братьям, досталась в удел кибитка тройкой, в которую засадили нас троих, не снабдив, как следует, теплой одеждой. Путешествие продолжалось три дня, и мы много натерпелись от холода и голода, под Малым Ярославцем чуть-чуть не замерзли. Наконец кое-как дотащились мы до Москвы и прибыли прямо в дом батюшки на Солянку против Опекунского совета.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































