Текст книги "Заговор"
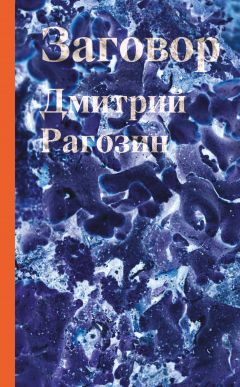
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 2 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
Она казалась совершенно невозмутимой, и это пугало сильнее, чем буйство стихии.
Когда мы добрались до дачи, буря утихла, моросил тонкий, как паутина, дождь. Косая крыша поднималась из белесого тумана. По раскисшей дорожке мы перенесли сумки на крыльцо. Я обошел дом по серебристой траве, заглядываясь на одичавший участок. Деревья были похожи на стеклянные чаши, наполненные до краев. Кусты взъерошенно темнели. Цветы на длинных стеблях горели щепотью рубинов и сапфиров. Влажный воздух создавал иллюзию того, что передо мной не сад, а находящие одно на другое отражения сада в темном трехстворчатом зеркале. Зрелище завораживающее и тревожное, вызванное неспособностью взгляда восстановить цельную картину, поскольку малейшее его отклонение сдвигало расположение частей и казалось, что под определенным углом зрения весь этот сад с его напускной дикостью может сложиться, как ширма.
Дверь на задней стороне дома была белая, облупившаяся, с желтым потеком по верхнему краю и масляным пятном вокруг ручки. Она не оказала ключу сопротивления, но, когда я ее отворял, обиженно взвизгнула, вероятно, уже отвыкнув от бытового насилия или не признавая моего права хозяйничать. Жаль, что Нина обычно не замечает таких маленьких драм. Как я уже вам докладывал, к вещам она не расположена.
Мне нередко случалось входить в пустеющие дома, квартиры, один раз был в безлюдном театре, и неизменно чувство, что кто-то притаился, не желая до срока выдавать свое присутствие: в пустой комнате, где негде спрятаться, и там, казалось, кто-то уже есть, опередивший меня, мои переживания. Невольно я крикнул: «Здесь есть кто-нибудь?», заранее зная насмешливый ответ: «Нет, никого».
Проход из кухни вел в прихожую, и я видел за тусклыми стеклами передней двери Нину в холодном сиянии. Она стояла боком, обхватив руками плечи, встряхивая мокрыми волосами.
Не буду оригинален, если скажу, что мое детство прошло в близости странных, страшных и комичных существ, о которых мы с малых лет учимся помалкивать. Невозможно понять, чего они хотя от меня, зачем мерещатся, манят? Хотят ли они напугать, съесть, уничтожить или приходят на помощь, тревожа намеками и знаками? Например, одноглазый вещун, семенящий вдоль стен и разбрасывающий пыль черными хлопьями. Что ему от меня нужно? Бессвязное существо с длинными щупальцами, обосновавшееся за мусорным ведром – чего от него ждать? Они вздыхают под кроватью, копошатся в шкафу, выскакивают из угла и, оставив след на душе, растворяются во мраке, уходят в складки. Даже если закрыть глаза, они не исчезают.
Как же трудно вжиться в себя!
Кто я?
Уже умер и только припоминаю день за днем то, что осталось в прошлом? Как говорит Капустин – поскольку смерть неизбежна, каждый человек уже по ту сторону жизни, и время – это работа памяти, нагоняющей забвение. Как ни пытался я разложить свое «Я», ничего не вышло: один на один. Злой клоун, соблазняя свистульками и хлопушками, уводит детей в логово старухи-колдуньи, уже приготовившей чан с кипящей водой. Красный мячик, невинно лежавший на полу, вдруг начинает покачиваться, медленно вращаясь, медленно катится по узору ковра, не то выписывая непонятные буквы, не то указывая путь по ту сторону комнаты, дома. Темнота в углу плотнеет, чернеет, шевелится, хохлясь, щетинясь. Кто-то стоит за шторой. Радио на кухне – замызганная желтая коробочка с большой черной кнопкой – вдруг прерывает передачу «В рабочий полдень», и голос обращается ко мне, приказывает. Циферблат моргает и показывает язык. Посреди комнаты вдруг обнаружилась яма, и в ней поселился кто-то посторонний, чужой. Подхожу к окну, какая-то старуха грозит пальцем. Где-то я ее уже видел и в последующие дни постоянно встречаю. Она на меня не смотрит, занятая своими старушечьими делами. Мать не узнает меня. Что здесь делает этот чужой мальчик? Кто его впустил? – и гонит из дома. У сидящих за столом гостей лица превращаются в звериные морды, и у всех фамилии – Лисина, Волков, Медведев. Я один дома. Щелкает замок, входит незнакомый молодой человек, щегольски одетый. Приставляет палец к губам, проходит в спальню матери, роется в ящиках платяного шкафа, прячет что-то в карман, уходит, бросив на ходу: «Если кому-нибудь скажешь, что я приходил, найду и перережу горло!» Таинственные существа, как на картинах некоторых пейзажистов, пробирающиеся на заднем плане, почти сливаясь с тщательно выписанной листвой.
Мое первое соприкосновение с властью случилось, когда арестовали, или, как принято говорить, – забрали, соседа с нижнего этажа. Пришли за ним рано утром, все еще спали. Никто не знал в точности, что произошло. В чем преступление? Совратил малолетнюю, украл крупную сумму денег, взятка, убийство? Или – политический? Это слово, неясное мне, повторялось с каким-то особенным удовольствием. Фролова в доме не любили, и, казалось, никто не удивился. Высокомерный, себе на уме… Фролов служил бухгалтером в торговой компании, маленький, лысый, с густыми усами, в очочках, с толстым портфелем, он учтиво со всеми здоровался, но его приветствия были всего лишь мелкой данью, которую он платил, чтобы благополучно добраться до квартиры и запереться на три замка. Он любил вкусно поесть и украдкой от жены ходил в дорогие рестораны. Его мечты вертелись вокруг планов завести любовницу, блондинку с большой грудью и искусным задом, но необходимости осуществить свои мечты он не испытывал. Его восхищали громоздкие средства передвижения – поезда, самолеты, корабли, а велосипед вызывал раздражение. Спал он обыкновенно на спине, похрапывал, к неудовольствию жены, и никогда не рассказывал ей своих снов, впрочем, у нее не было причин жаловаться на невнимание и отсутствие у него фантазии, которую она понимала в узкотехническом смысле. За ужином он любил порассуждать на политические темы, но не позволял себе ничего, что выходило бы за рамки дозволенного цензурой. Иногда он думал о Боге, но, в отличие от Паскаля, ему так и не довелось испытать «nuit de feu». На службе его уважали за скромность и порядочность. Если ему и случалось по настоянию начальства прикрывать сомнительные операции, он не видел в этом повода задирать нос. Мир разлагался в нем на тряпочки, нитки, щепки, щебень. Было бы наивным искать в нем сокровенное знание. Он никогда не спорил со своей женой, похожей на толстую крысу, которая запрещала их дочери-крысенышу играть во дворе, так что мы даже не знали, как ее зовут. Он вообще относился к детям, включая собственную дочь, с опаской, подозревая их в заговоре против взрослых и «всех тех ценностей, которые выработало человечество». Если делить людей на добровольцев и недобровольцев, он несомненно принадлежал к последним. Казалось, он никогда не смеялся и не нюхал цветов, но это только казалось. После его ареста жена и дочь уехали, и мы, окружив фургон, наблюдали, как рабочие грубо запихивают в него мебель и коробки.
Признаюсь, я испытал странный трепет перед неодолимой силой, которая с такой легкостью вторгается в обыденность, разрушает налаженную жизнь. Как если бы за завтраком невидимая рука забрала из-под носа тарелку с кашей. Все во мне бунтовало против произвола, против вас, представителей власти. Но большей загадкой казалось не самоуверенное насилие, а та покорность, с которой человек подчиняется чужой воле. Что-то необъяснимое и иррациональное было в готовности исполнить приказ, исходящий от людей ничем не примечательных, безымянных, безликих, но убежденных, что они наделены правом. Уже тогда, глядя на торчащий из груды коробок торшер, я почувствовал, что рано или поздно я встану перед выбором – прислуживать власти или вступить в непримиримую борьбу с ней. Я еще не знал, что есть и другие пути, например, быть жертвой или ничтожеством. Власть, как говорит Капустин, – это серый лабиринт, из которого нет выхода, если не уменьшиться, не сократиться до неразличимости. Помнится, в тот год слово «лабиринт» было в моде. Его можно было найти едва ли не в каждом газетном фельетоне, в названиях книг, на афишах кинотеатров. Ни один разговор не обходился без упоминания «подвижных лабиринтов», «лабиринтов мечты» и т. п. Возникла ли эта мода спонтанно или, как бывает все чаще, была внушена из высших соображений специальными службами, занятыми общественным здравомыслием, теперь уже неважно, ибо она оказалась недолговечной и уже через год слово «лабиринт» воспринималось чуть ли не как непристойное и начисто исчезло из официально одобренных словарей. Управлять реальностью возможно лишь посредством снов, в них – приводные ремни, рычаги, коробка передач. Как только открываем глаза, раздвигаем шторы на окнах и проделываем все то, чего требует тело и общежитие, реальность уже неприступна, неизменна, неисправима. Я могу только подчиняться ее законным требованиям и пытаться ускользнуть хитростью от незаконных. Так устроено, ничего не попишешь. К этому ведут и пути, и бездорожье. Под этим стоит моя неподдельная подпись.
Кое-кто делает вывод, что к власти нельзя иметь претензий, только к ее представителям, и то к самым незначительным. Мол, чего вы хотите от театра! Посмеялся – и довольно. Уступи место другим безбилетникам… Квартира наверху долго пустовала. Наконец, в нее вселилась семья, на удивление схожая со своими предшественниками, из рода грызунов. Играя во дворе, я вновь видел в окне третьего этажа между кактусов бледное скуластое лицо узницы в обрамлении тощих косичек.
Капустин настоятельно посоветовал мне «лечь на дно». Не потому, что мне угрожала какая-то опасность – к угрозам вашему покорному слуге не привыкать. Но после всех моих смелых схем, операций, переводов нужно было, по его словам, успокоиться, прийти в себя, дать устояться взбаламученному течению времени, унять порывы. Бывают периоды, когда полезно сложить возложенные на себя обязанности. Я бы предпочел отправиться в путешествие, но Нина сказала, что никуда не поедет. Этим летом она обещала себе написать, наконец, роман. Признаться, я никогда не понимал этой страсти к писанию. Мысли должны рождаться и умирать в голове, в этом – в их интимном, естественном виде – их красота и необходимость. Иначе – сухой песок, пересыпаемый из ладони в ладонь на платном пляже, мусор, в котором копаются бездомные животные и пресыщенные коллекционеры. Если уж на то пошло, можно утешиться, что кто-то – Тот, о ком мы ничего не знаем – записывает наши мысли. Но после многих лет бурной, лихорадочной деятельности труден внезапный покой. Конечно, я не сказал Нине о том, что на даче я скрываюсь. Все было обставлено так, как будто она уговорила меня уехать на пару месяцев из города. Она давно мечтала затвориться, чтобы творить. Она устала от журнальной поденщины, от серого круговорота лиц, отнимающего время и душу. Ей необходимо уединение. Но одной ей было бы страшно среди полей и лесов… Нина для меня состоит из множества женщин, которые отличаются друг от друга не только характером, направлением желаний, но и выглядят по-разному, не сводятся к одной, предпочитают разные роли, разные декорации. Общее у них только то, что они владеют мной на правах ususfructus.
Первые дни я ужасно скучал, но старался не показывать, как невыносимы мне эти шаткие стены, пустота за окном, небо, как стеклянный колпак. Я не знал, чем заняться. Читать? Нет уж, увольте. Книги читают те, у кого нет своей жизни. Любоваться растениями? Размышлять о вечном? Но я уже все размыслил.
Я не выходил за ограду. Меньше всего мне хотелось делать открытия.
Накапливать взрывоопасные знания, начиная с различия половых признаков и далее вплоть до бесплотных иерархий, становится привычкой, которая может показаться дурной только тому, кто день за днем копит страх перед самим собой. К нему слетаются птицы, но мохнатые и с длинным жалом. Ему не спится, несмотря на то что сон уже развернул перед ним свой theatrum machinarum. Напрасно дева учит его жизни, он лежит бессильным пластом. Или бросается в бой наголо, уверенный, что неуязвим для вражеских стрел. Он ест молча, а облегчаясь, декламирует оду на взятие Хотина. Счастье он находит, но не знает, что с ним делать, и откладывает на потом. Его любимая присказка: «Рано радуешься!» В книгах он любит фразы со стразами, а в газетах – мантические опечатки. Но общаться с ним легко и приятно, он никогда не требует ответа на свой немой вопрос.
Я стоял у окна, раскрытого в сад. И как окно, я был настежь. Агонии ночи позади, мир прекрасен и прост. Утренняя синева еще только начинала задумываться об облаках и имела смутное представление о тучах и грозах. Я видел то, что к полудню станет невидимым. Тишина утешала шелестом, щебетом, свистом. Но я не завидовал ни птицам, ни насекомым. Если бы под рукой был лист бумаги, я бы нарисовал на нем круг. Мысль о том, что в эту бесконечную минуту Нина в соседнем кабинете занята кропотливой умственной работой, наполняла меня счастьем, ясным, как кристалл. Я легко поднимался к Абсолюту, сходил в бездну.
Исчерпав невидимые линии, я опустил набрякшие небом глаза в наш беззаботный сад и – едва не отпрянул. Первым моим побуждением было задернуть занавеску. Или спрятаться в глубине дома, который, увы, предательски плоск.
А Нина?
Что сказать ни о чем не подозревающей жене? – Лезь в шкаф? Сбрось халат и притворись статуей?.. И как ей объяснить? Она бы подняла меня на смех, в который раз усомнившись, что в моем роду не было тех, кого врачи из сострадания именуют «вольнодумцами».
Я постарался убедить себя, что идущий по направлению к дому незнакомец – всего лишь почтальон, и даже начал обдумывать, кто мог направить мне в эту глушь депешу. Но тотчас сообразил, что у проникшего в наш сад человека нет того, что делает почтальона – почтальоном: большой кожаной сумки, набитой письмами. Будь у меня под рукой не лист бумаги с недорисованным кругом, а ружье, я бы вряд ли удержался от соблазна выстрелить в нарушителя, чтобы, убедившись в своей меткости, закопать его здесь же, в саду, и потом еще долго испытывать приятное возбуждение, сродни поэтическому, от мысли, что никогда уже не узнаю, кто он и с какой целью возмутил наш покой.
Шел он медленно, не торопясь, развязно. Сорвал цветок и, не глянув, отбросил. Поднял что-то с дорожки и сунул в карман, ухмыльнувшись. Остановился перед старой яблоней, низко развернувшей мозолистые ветви, долго рассматривал сморщенные, в пятнах листья. Светлый парусиновый костюм и шляпа-панама делали этого худого, высокого человека похожим на сельского учителя. Свернув направо, он скрылся за угол дома. Я поспешно сбежал вниз. Незнакомец уже небрежно расположился в дальнем углу открытой террасы, в плетеном кресле, положив на перила замызганную панаму. Он смотрел на меня с таким видом, будто не он, а я должен объяснить свое появление. Он был весь вогнут, и карикатурист непременно изобразил бы его лицо в виде луны на ущербе. Длинные ноги слишком длинны, короткие руки короче, чем следует.
– Вы один? – спросил он вместо приветствия.
– Я? – краска невольно обожгла щеки. – С женой.
– С женой? – засмеялся незнакомец. – Жена – это прекрасно. У меня нет жены.
Я продолжал стоять на пороге, подбирая слова и тон, чтобы спросить, кто он такой – с кем имею честь, зачем пришел – пожаловал. Я не знал, какие отношения связывают его с хозяином дома, который, возможно, забыл или не посчитал нужным известить его о своем бегстве и о нашем приезде. Но что-то мне подсказывало, что ему известно, кто я и почему нахожусь в этом доме. Он пришел по заданию, но не с целью выведать, насколько я опасен, а для того, чтобы я не возомнил себя здесь, в деревне, неуязвимым, отпущенным на свободу. Кого он, в таком случае, представляет? Власть, вынужденную постоянно напоминать о себе, чтобы в нее поверили? Или его послали на разведку те темные преступные личности, к услугам которых мне иногда приходится прибегать ради пользы дела и которые неизбежно со временем становятся моими врагами – когда я уже не нуждаюсь в их услугах, а они упрямо не желают отойти в сторону и смириться с тем, что отыграли свое. В таких случаях мне часто не хватает такта, гибкости и выдержки. Мы квиты, говорю я, не понимая, что наношу тем самым смертельное оскорбление элементам, считающим, что они сделали мне большое одолжение, допустив в свой круг и записав меня в «свои». Я знал идейных, закончивших карманниками или фальшивомонетчиками.
– Не советую ходить в наш лес, особенно с женой.
Мне было, конечно, любопытно узнать, чем провинился их лес, но это означало бы вовлечь себя в разговор с человеком, не внушающим мне доверия. Я только пожал плечами. Мое молчание его разочаровало.
Он взглянул на часы. Поднялся с ленцой:
– Время! – взял панаму и помахал ею над головой, намекая на что-то мне непонятное, после чего спустился с террасы в сад. Я заметил, что, выйдя за ограду, он направился в сторону, противоположную поселку.
Теперь, когда он ушел, мне казался необъяснимым ужас, который я почувствовал, увидев его из окна. Эхо детских страхов? Нет, в нем было новое, неизвестное моему опыту, который учил меня не придавать значения тому, что не вписывается в его обратную перспективу. Но только незначительное приводит к цели. Счастливое сочетание тусклого цвета с неприятным запахом, или пара искалеченных слов, вырванных из контекста, или когда ненадолго спускаешься с небес на землю.
– Кто это был? – спросила Нина.
– Какой-то местный чудак, – сказал я, в то же время чувствуя, что эта характеристика не вполне соответствует человеку, который только что сидел на террасе. Или то был не человек?
– Надо было предложить ему что-нибудь, хоть воды.
– Обойдется.
Нина как будто обиделась за незнакомца.
– Ты бываешь иногда так груб…
Тут я пустился в рассуждения о том, какую важную роль в человеческих отношениях играет грубость, и ей не оставалось ничего другого, как вновь уткнуться в свои рукописи.
Счастлив рожденный строить воздушные дворцы и замки. Где бы он ни находился, его время проходит не бесполезно, с умом. Ему не нужно карабкаться по лестницам, носить кирпичи и ведра с краской, резать стекло. Ему не нужны помощники, от которых все беды. Легко дается! А мы, практики, связаны по рукам и ногам обстоятельствами. Выброшенные из своей среды, мы беспомощны, как дети. Нас нет там, где нет судьбы и ее подручных. Шаг в сторону, и уже не за что ухватиться, нечем жить. Если я без дела и надо занять свои мысли, я обыкновенно воображаю куб, или шар, или пирамиду. Но это не спасает. Как кровать с разболтанными страстью пружинами, я гоню сон.
В этом смысле дом приносил мне одни огорчения. Я не находил себе места. Не радовали ни скошенные щелястые стены, ни грубо окрашенные охрой шкафы, ни заботливо развешанные в самых неожиданных местах картинки, вырезанные из журналов, которые, казалось, не столько показывали, как им положено, что-то «прекрасное», сколько задавали загадки, не имеющие решения. То прячущиеся, то бесстыдно лезущие на глаза вещи и вещицы, вне связи с жизнью приобретшего их хозяина, вазы, ножницы, перчатки, блуждали неприкаянно, избегая объяснений. Но и в саду я был неспокоен. Слишком велик был контраст между безымянным разнотравьем, извилистыми, обремененными листвой мысли деревьями, сморщенными кустами, протягивающими, как что-то драгоценное, свои сухие грозди, и той схемой общественного транспорта, которая продолжала циркулировать в моей голове. Я постоянно перемещался из дома в сад и обратно, стараясь удерживать, насколько это было возможно, в саду – углы и материал жилища, в доме – произвол и открытость природы. Нина, напротив, быстро освоилась, нашла общий язык со спальней, кабинетом, кухней, гостиной, и в саду, в отличие от меня, не теряла присутствия духа, отвоевав у буйной растительности место для чтения и неги. Наши пути пересекались на террасе, принадлежащей и дому, и саду, узкой, с плоскими балясинами, вмещавшей лишь круглый стол и два кресла. Мы играли в шашки, в карты, болтали часами. Наши разговоры приобрели необычную гибкость и всеядность, скользя с предмета на предмет, с истории на историю. Но главной и неисчерпаемой темой наших разговоров, неожиданно для меня, стало таинственное. Я как-то имел неосторожность признаться Нине, что с детских лет меня занимает тайна. И теперь Нина часто заводила об этом разговор. То, что она рассказывала, мне казалось по большей части наивным и приблизительным, но иногда с ее губ срывались такие прозрения, что я невольно вздрагивал и отводил глаза.
С детства я был уверен, что от меня скрывают тайну. И скрывают ее не потому, что она может как-то навредить мне, лишить рассудка или нанести увечье, а потому, что не считают меня достойным ее. Помню, у Анны Григорьевны, сестры моего отца, на даче, которую я имел все основания называть «Черным замком» и где я был узником в течение двух летних месяцев, на веранду вбежал гостивший у них адвокат с криком: «Я только что видел…», – и дядя, муж Анны Григорьевны, покосившись на меня, сказал: «Не при нем…» Это было как удар молнии. И чутье подсказывало мне, что они никогда по своей воле не выдадут мне тайны. Только хитрость позволит мне приблизиться к ней. Я стал замечать то, что раньше не привлекало моего внимания, вслушивался в разговоры за вечерним чаем, открывал украдкой шкафы, рассматривал на стенах картины. Иногда казалось, что в тайну посвящены все, кроме меня, но я не мог в это поверить. Должен быть круг людей, связанных обетом молчания. Если тайна (я уже догадывался, что в ней нет ни страшного, ни чудесного) станет общим достоянием, она утратит силу, разойдется в круговороте вещей, фраз, событий. И будет плохо всем, а не только тем избранным, кто не сохранил тайное в тайне.
Результатом длинных размышлений, взвешивания всех за и против, застольных и постельных бесед с женой, стало решение дойти до близлежащего леса. Решение, важность которого мне еще только предстояло узнать, встретило горячее сочувствие со стороны жены.
– Развейся! – сказала она.
Но до леса я в тот день не дошел. Увидев с дороги сморенный жарой пруд на том месте, где, по моим представлениям, должно было сиять озорное озеро, я не устоял перед искушением и спустился вниз. И не пожалел. Было на что посмотреть! Точно внезапно раскрывшийся от натуги чемодан заядлого путешественника, или как прикнопленная программа, в которую вносят все новые дополнения и исправления. В песчаном откосе чернело широкое жерло ржавой трубы. Желание влезть в нее, к счастью, было слишком мимолетным, чтобы привести к непоправимым последствиям. Густой воздух нес вкрадчивый кисло-сладкий запах. В каждое место на пересеченной местности я возвращаюсь: здесь все меня помнит, даже если, по моим понятиям, я здесь никогда не был. Мир-миг состоит из повторений – того, что уже было есть будет вновь. Обретая себя, я сбрасываю случайные вариации, тех многочисленных двойников, которые замещали меня в мое отсутствие. И есть места превращений, где я оборачиваюсь тем, кем не был. Не устоять перед стоячей водой. Изучая отходы природы, проникаешься силой ее ума. Он пугающий, этот ум. Отражения тонут. Огонь изображает цветок. Непрерывный зуд и стрекот, непрямая речь. Эротика размыта, не на чем остановить взгляд: ситуация побеждает форму. Хоть бы птица какая пролетела. Никогда не лишне напомнить себе, что спишь, все еще не проснулся. Липкие стебли, мохнатые цветы. Циркуль, линейка. Как будто сюда, в неподвижность, стекло мое детство. Я обошел пруд против часовой стрелки, то продираясь сквозь кусты, то карабкаясь по сыпучему склону.
Пруд, он же, как ни крути, озеро, был ни круглым, ни квадратным, напоминал звезду, врезанную языками в покатые оползни. Сужающиеся затоны прятались в кипящий мошкарой кустарник и, затянутые тиной, поросшие камышом и осокой, сводили на нет все усилия пруда погрузиться в покой. Там постоянно булькало, урчало, роилось. Желающий обойти пруд принужден был делать протяженные петли, удаляясь от сияющего пятака, чтобы вновь приблизиться к его номиналу. Я наткнулся на высокую ограду из металлической сетки, сходящую на несколько шагов в воду. Пройдя вдоль сетки в противоположную от пруда сторону, я обнаружил ворота, запертые на замок, но замечательно, что на этих воротах ограда заканчивалась и ничто не мешало обойти их и продолжить путь вдоль ограды в обратном направлении. На столбе ворот висела жестяная табличка, на которой сквозь пятна ржавчины можно было различить перечеркнутый круг со схематично изображенной нагой поселянкой, держащей в руках большую рыбу. Сменив березы и клены на ольху и ивняк, роща подступала к пруду в путаном, неприбранном и приниженном состоянии, но не без ухарства, так что пришлось продираться, как сквозь толпу, топающую к дешевому увеселению с мрачными шутками и прибаутками. Что ни дерево, то Платон Каратаев с его подлой мудростью. Есть, несомненно, что-то одуряющее в этом потном противостоянии веток, сучьев, листвы робкому интеллекту, ощущающему себя со всех сторон виноватым. Я впал в задумчивость. Склонившись, прикоснулся к воде кончиками пальцев, точно собирался осторожно потянуть на себя эту сально сияющую поверхность, обнажая глубину.
Если это и было зеркало, то зеркало кривое. Солнце сияло в нем змеистой медузой, глядя на которую я превращался в камешек, и было реальным опасение, что какой-нибудь идущий мимо деревенский шалопай поднимет и швырнет меня в воду. Участь Нарцисса мне не грозила, и классический вопрос о том, чем радостнее быть – камнем или цветком, был пуст, как эхо. Добавлю, что пруд был размером с блюдце, но с каждым шагом к нему я уменьшался, так что, когда подошел к краю, он представился мне необъятным. Я сюда еще вернусь. Здесь не все сказано.
Гляжу на пруд и вижу двор. Вздыбленный рябой асфальт с волосами травы в глубоких трещинах исписан и исчерчен детской рукой. Непросыхающая лужа точно отпечаток гигантской ступни. Старый тополь в сумерки превращался в черную курицу. Мусорный бак, переполненный к вечеру дневными отбросами, расползался по небрежению запойного дворника вялым капустным листом, клетчатыми страницами, потрохами, бинтами и ватой, безногим стулом, крашеными локонами и еще многим из того, что нельзя назвать и что путешествует по карманам сорванцов и прячется в котомках отроковиц.
Взрослые редко сходились во дворе: общались от двери к двери, от окна к окну, на лестнице, и общение ограничивалось необходимым набором фраз или внезапной перепалкой. В то же время все, чьи окна выходили во двор, были соединены телепатическим знанием о том, на какие неправедные доходы живет семья Ивановых, с кем изменяет жене Шульц, когда к Маргарите Петровне приедут дальние родственники, каким нехорошим словом назвала Аграфена свою невестку. Жизнь соседей была едва ли не единственной темой семейных разговоров.
Были исключения. Про таких говорили: «Не в своем уме», «Мутит воду», «Клюкву давит». Соседи за ними не охотились. Кому интересен прозябающий особняком? Какие могут быть секреты у обделенных вниманием и не участвующих в коммунальной жизни? Конечно, большая часть жильцов были ничем не примечательны, повторения одного и того же, скомканные лица, невзрачные, как те стены, которые перекрашивали столько раз, что на них не осталось цвета.
Каждый день одно и то же, и ничего похожего.
Двор звучит. Инсинуирует одышливо радио, звенит посуда, визжащая дробь, железный гребень расчесывает медную проволоку шевелюры, то кажется, кто-то с малахольным упрямством разбивает в песок стаканы, рюмки, бутылки, из окон выплескивает ушатами ноты, гаммы, разыгранные в три руки (четвертая не ищет легких путей), каскады послеобеденных ссор, звонки, шипение, пыхтение, стон сверла, шелест страниц, отзывающийся громовым эхом, бульканье спущенной с цепи воды – каша звуков – разверстое ухо жадно впивает усыпительный яд.
Мы вызывали друг друга свистом.
Кстати, хозяин дачи. Многие годы я слышал о нем от разных людей, но не сразу поверил в его существование. Почему-то все находили, что мы чрезвычайно похожи, по крайней мере внешне, хотя по описаниям я видел скорее разительные отличия. Рассказывали, что одевается он вызывающе: какие-то плащи, шляпы с перьями, шапокляки, рейтузы желтого и зеленого цветов, сорочки с широкими рукавами. По понятным причинам (кому же нравится быть похожим) мы старательно избегали друг друга, но в этих маневрах, призванных исключить даже случайную встречу, мы действовали как будто сообща, читая мысли друг друга на столь далеком расстоянии, что мысли превращались в звуки и запахи. Я знал почти все о его городских эскападах, балансирующих на грани неприличия (надо отдать ему должное, балансировал он превосходно). Я имел все основания предполагать, что его жизненные устремления зеркально противоположны моим. Если я навскидку стреляю в дичь, он бегает по комнате с мухобойкой. Наша первая и, надеюсь, последняя встреча произошла год назад. Нас разделяла тонкая желтая занавеска. После обмена любезностями, он сообщил мне, что уезжает, ему невыносимо оставаться не только в этом городе, но и в его окрестностях, и, если мне понадобится, я смогу в скором времени, после его бегства, воспользоваться его опустевшим «эрмитажем», в котором он спасался многие годы от людской подлости и глупости. Вряд ли он когда-нибудь вернется… Только человек, знающий мое отвращение к жизни на природе, мог сделать мне такое предложение. Я сухо поблагодарил. Я не мог предполагать, что вскоре мне понадобится убежище, пусть временное. Он продолжал говорить о своих обидах, о своих планах, но голос звучал все тише и тише. Я уже с трудом разбирал слова. Наконец, он замолчал… Я осторожно отодвинул занавеску. На краю стола лежал ключ, но сам он успел исчезнуть…
Бывают дни, как капли из неплотно завернутого крана, и дни, которые, как полное ведро, одним махом выплескиваю в окно. Мой день – мое отражение, моя судьба. Я расплачиваюсь им за свое неведение. Хочется быстрых крыл, гибких плавников. А вместо этого огонь пожирает водяной столп (представьте фонтан, пылающий на солнце). Тоже неплохо, но надолго ли хватит жить противоречиями? Не все ли равно? С такими мыслями я шел по обочине, с такими мыслями входил в лес. Из стрекота в шелест, щебет и свист.
Капустин говорит, что встретить бога проще в лесу или в городском лабиринте, чем в специально отведенном для этого месте. Не знаю, не знаю. Даже самые громоздкие неуловимы. Я видел маски, видел трико, туфли. Вымаливать – не мой стиль. Существуют боги или нет, мы их рабы, говорит поэт. Одиночество грозит тому, кто видит себя со стороны. Говорить о бессмертии лучше всего в темноте. Только не надо спорить, доказывать. Пусть каждый останется при своем – насколько это возможно (это невозможно). На что похож? – на сон, на облако, на плацкартный вагон, в котором переплелись и спутались все родственные и любовные связи в ожидании прихода кондуктора, на море, брошенное к смуглому солнцу, на цветок, посмотревший на нее, как на чудо природы. Из многих богов, существование которых не нуждается в доказательствах, приходится выбирать сподручных и отзывчивых. В вопросах жизни и смерти не до эстетики. Флейты и крылья хороши для небесно-голубых будуаров, всхлипов sub rosa и неторопливых бесед post rem. Нам же обычно выпадает иметь дело с прощелыгами, обнаруживающими себя сквозняками и протечками. Их слава мутит нам взор и отнимает у нас дар речи. Они обделывают дела споро, без лишнего шума. Даже те из них, которые предпочитают до конца оставаться невидимыми, поражают нас своим мгновенным присутствием. Поскольку все эти начала, помимо грубого вмешательства в нашу жизнь, которое они называют «игрой», поглощены потусторонними приключениями, которые они называют «метаморфозами», добиться от них какой-либо явной прибыли невероятно сложно. Они тут как тут, но никогда не знаешь, чего ждать от их участия. Со счастливым равнодушием они губят и воскрешают. Напрасно ссылаться на то, что уже поздно, все спят, какой-нибудь обрюзгший амур, явившись незванно, хохочет: «Попался!», издавая звуки, неприятные слуху и обонянию. Вотще, вотще! Но без них, без божеств, никуда. Только они спасают от скуки раскинувшей безбожные сети власти, принуждающей нас к бесконечному повторению. Эти силы и мудрости позволяют нам отличиться. Иначе мы ходим по кругу, в центре которого – отсутствие чего бы то ни было. Справляем нужду, исправляем обязанности и смиренно относим свои сны на анализ проницательному доктору, потирающему в предвкушении руки. Но они требуют от нас жертв даже тогда, когда действуют в своих интересах, и каждый раз перед нами встает вопрос, кем жертвовать – собой или другими. Каково узнать, что кто-то принес вас в жертву мимолетному идолу? И как избежать большой беды, не испортив отношений с каким-нибудь навязчивым гением? Не буду скрывать: эта пугающая неопределенность – коридоры, стулья, зеркала, светильники – моя страсть, моя стихия. Каюсь, люблю путать, чтобы путы распутывать. Еще ни разу не испытал я разочарования – обознавшись. И я успешен, насколько успех может сопутствовать тому, кто по роду своей деятельности призван разрушать надежды и осквернять мечты.









































