Текст книги "Заговор"
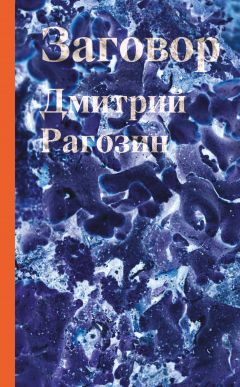
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Мы не уговаривали его остаться, но он остался на ночь, вероятно, рассудив, что его отказ переночевать был бы воспринят как обида на мои критические замечания. Нина постелила ему на диване в нижней комнатке. Когда она сняла с себя платье, надетое, по простоте сельских нравов, на голое тело, я не устоял перед ее отражением в зеркальной дверце шкафа, и привлек, чтобы пустить по привычному кругу метаморфоз, но она кротко отстранилась:
– Ты же знаешь, как скрипит кровать и какие в этом доме тонкие стены!
Посреди ночи я проснулся в ужасе, в поту – мне снились «живые картины». Самым ужасным было сознание того, что я уже видел этот сон и не один раз. Ее половина кровати была пуста. Я лежал в темноте и, прислушиваясь, ждал, когда она вернется, отдав долг природе. Тишина была мертвая до той степени, что со страху начинаешь приписывать ей признаки жизни. Я хотел сойти с корабля на берег, но меня не пускали какие-то дамы в широких дорожных пальто. Они указывали на человека, шагающего взад и вперед вдоль парапета, который, по их мнению, представлял для меня опасность. Но я был уверен, что у него есть для меня важное задание. Я спустился по канату в лодку и, работая непослушными веслами, добрался до берега. Но стена парапета была такой высокой, что подняться наверх без посторонней помощи не было никакой возможности. Я ухватился руками за чугунное кольцо, вделанное в каменную кладку, и лодка тотчас ушла из-под ног. Я висел над пропастью, на дне которой далеко внизу что-то белело. Первой мыслью моей было, что белеет лодка, но, присмотревшись, я увидел кровать, и лежащий на ней не мог быть ни кем иным, кроме меня. В окно косой полосой с ажурным краем протянулось солнце. Ее половина была пуста. Без четверти двенадцать.
Я спустился вниз, заглянул в кухню. Нина, в шелковом сиреневом халате, со сбитыми на левый висок волосами, осунувшаяся со сна, стерегла кофейник.
– Он еще спит, – сказала она шепотом.
В лесу, как обычно, было много деревьев, птиц. Немного страшно, немного смешно. Как в гостях. И я не шел дальше гостиной. Пройдя шагов сто по тропе в зеленом щебечущем ущелье, я разворачивался назад. Говорил себе и невидимым собеседницам, что чаща не представляет интереса ни в символическом, ни в аллегорическом отношении. Всего лишь нагромождение повторений, скомканный холодной рукой орнамент. Но в тот день я задумался о Борисе, о его нелепых стихах, о том, что стоит за стихами, и, к своему удивлению, обнаружил, пройдя на несколько шагов дальше положенного, что стою на противоположной опушке леса, который, таким образом, оказался не лесом даже, а узкой лесополосой, не имеющей ни глубины, ни протяженности. Покато луг спускался к реке. Я перешел по мосту. В расположении холмов и рощиц мне почудилось что-то знакомое. Окруженные высокими заборами дачные дома, и среди них один – самый старый, настоящий (все прочие были иллюзией, отрыжкой современности), я сразу узнал его – Черный замок! Теперь я был уверен, что в этих местах я провел те памятные два летних месяца. Конечно, за прошедшие десятилетия все сильно изменилось, но линии сохранили свои направления, сочетания цветов и запахов не уступили нововведениям. Время остановилось и с надменным безразличием смотрело на времена, продолжающие куда-то бежать, за чем-то гнаться. Кто бы сказал ему, что оно утрачено! Ведь, с его точки зрения, всего того, что было после, просто не существует. Сколько бы ни наслоилось, порой достаточно одной детали, чтобы сделать эту спекшуюся кипу прозрачной для взгляда. В моем случае таким проницающим элементом стала лежащая в кустах ржавая клетка для птицы. Поскольку борьба с засильем нового времени (иначе говоря – власти) является частью заговора (другую его часть занимает борьба с будущим), я чувствовал себя, несмотря на понятное волнение, в своей стихии. Я мог делать все, что мне вздумается, не опасаясь последствий. Любой мой поступок воспринимался как должное. Я не встречал сопротивления.
Но, подойдя ближе, я понял, что расстояние сыграло со мной шутку.
Дом, если это был тот дом, от старости ссохся, упростился. А в детстве казался огромным таинственным замком с бесконечным лабиринтом коридоров и вмещающих одна другую комнат. Может быть, тогда-то и был он подлинный, а сейчас только тень прошлого, обманчивый скрытный призрак. С возрастом реальность вещей выветривается, мельчает, проходит сквозь пальцы, как сухой песок. Сны вытесняют то, что выглядело их основанием. Со всех сторон обступают послушные изображения, выцветшие снимки шуршат под ногами, декорации глохнут в пыли, и только то, что было, что прошло, еще отзывается действительностью, как крытое стеклянной чешуей здание вокзала, из которого скорый поезд уносится в зыбкую и беззвездную даль, или как гардероб, в котором тесной радугой висели ее платья, а сейчас порхает пыльная моль. Как хорошо я помню тот дом, но не безликим строением, а как расходящиеся ряды событий, происшествий, неразлучных с оттенками и запахами, игрой света, тональностью голосов, хохота, шепота, скрипящих под ногами ступеней, едва заметно колыхающимися портьерами, затаившимися в темных углах чудовищами, господами и дамами, которые говорят загадками и замечают мое присутствие только тогда, когда им что-то от меня нужно.
Черный замок – обычный дачный дом, но не память мне изменила, а мир изменился. Нам кажется – мы меняемся, а все вокруг, за исключением косметических подновлений, остается прежним. В действительности – я все тот же, а мир меняется и внешне, и по сути. Изменения того, что сопровождает нас в жизни, незаметны, скрыты привычкой и безразличием, и только вот в такие минуты, когда сталкиваешься с тем, что давно не видел, что осталось в далеком прошлом, бываешь поражен, что замок за время моего отсутствия выродился во вполне себе вульгарную дачку. Недавно я просмотрел книгу, которую в детстве помнил едва ли не наизусть, и с удивлением обнаружил, что из нее исчезли целые эпизоды и главный герой превратился из симпатичного забияки в сентиментального балбеса.
Продан, перепродан.
Садовый участок сохранял свою топографию, но только в миниатюре. Гамак висел на прежнем месте, прогнувшись до земли под толстой зыбкой теткой в красном бикини, которая непрестанно вертела головой, наблюдая гостей, кружащих разрозненными группами между клумбами, кустами и плодовыми деревьями. Общество было пестрое, из тех межеумочных слоев, с которыми я соприкасаюсь лишь по необходимости, с благодушной иронией. Я без труда вписался в их пустые слова, заемные представления и заученные жесты. В чужой стихии веселее, чем в своей. Новый фасон нижних юбок, растущие цены на рыбу и мясо, болезни от «а» до «я», спорт, мягкая мебель, учеба детей… Во всех них было что-то ненастоящее, придуманное, как будто отведенное им на существование время зависит от моего интереса к ним, и они слишком понимают свой ущерб, чтобы ждать пощады от опытного солипсиста. Внезапно из дома раздался резкий голос, зовущий к столу. Все тотчас замерли, смолкли на полуслове и в следующий миг бросились в сторону дома, через кусты, по цветам, мимо толстухи, барахтающейся в сети. Я проголодался, и кислые щи были кстати. Наступило временное затишье, слышно было только, как скребут ложки о дно тарелок и клацают зубы.
И вдруг – скандал.
– А это еще кто такой?!
Я поднял глаза на сидевшую в начале стола хозяйку, тощую, как щепка, жидкие крашеные завитки, сдвинутые глазки. Я был уверен, что она обращается ко мне, но ее палец, вооруженный длинным бесцветным ногтем, указывал на юношу в круглых очках, с прилизанными на прямой пробор волосами и задорно торчащими усиками. Юноша посерел, но продолжал сидеть, сжимая в руке ложку. Он что-то пробормотал, но его никто уже не слушал, все повскакали с мест.
– Жулик!
– Прохиндей!
– Дармоед!
Подхватили, выволокли на крыльцо. Юноша не сопротивлялся. Его пинали, пихали, мяли, дергали за волосы. Под чьей-то ногой хрустнули упавшие очки. Он сносил все молча, обмяк, повис на руках возмущенных дачников.
Выбросив за ограду непрошеного гостя, мы вернулись на свои места за столом. Но покой был нарушен. Глотая и жуя, мы обсуждали происшедшее. Это был уже не первый случай, когда любитель поесть на дармовщину проникает в чужой дом, пользуясь дачной вольницей и неразберихой.
Принесли кастрюлю с компотом, и я понял, что мне здесь больше делать нечего. Всему надо знать меру, особенно своей неуязвимости. Не искушать судьбу – первое правило заговорщика, его должны прививать с детства, когда все возможно. Если выпала удача, готовься к отступлению, к провалу. Мелкими шажками, рысью, иноходью, опять мелкими шажками. По мостовой, по раскисшей тропе. Вдоль старой стены, с которой бурыми струпьями слезает краска. Рвать нить за нитью, но осторожно, без грубых жестов. Не ликовать, посмеиваться в кулак. Подражать, в случае необходимости, насекомым, гадам, летучим мышам. Но не упускать, если ждет отдаться. Тот, кто рассчитывает на успех, не считает расстегнутых пуговиц и снятых покровов, он прилежно считывает оригинал с полученной в свое распоряжение копии, радуясь каждой найденной опечатке. Он стреляет прицельно, даже если в обойме холостые патроны. Уже уходя, я увидел в дверях, ведущих внутрь дома, бритого наголо и сильно загорелого мальчика с белыми выгоревшими бровями, в каких-то обносках. Очевидно, ему не полагалось сидеть вместе со всеми, и, подкрепившись на кухне, он собирался прошмыгнуть незамеченным в сад. Я пригляделся внимательнее. Никаких сомнений – таким я помнил себя, таким я был в то лето. Мне стало до боли ясно, что только этот одиннадцатилетний малец не придуман в этой пошлой усадебке и мое присутствие здесь в роли случайного гостя вызвано моим детским пристальным взглядом. Я всего лишь его наваждение, бледная проекция его волшебного фонаря.
Такие меня иногда посещают фантазии.
Анна Григорьевна, старшая сестра моего отца, расценила женитьбу брата как скандальный мезальянс. Образованный, с плотными семейными связями и традициями, он, женившись на дамочке без роду и племени, унизил не только себя, но и всю свою родню, предал предков. Она винила невестку в том, что Иннокентий сбился с истинного пути, пошел, как она говорила, вразнос. Только позже я понял, что она взяла меня к себе на лето для того, чтобы оценить, насколько я дик и испорчен, есть ли смысл приближать меня к ее кругу, и, по всей видимости, пришла к выводу, что я безнадежен. Не чета ее сыну Эрику. После этого лета я уже почти с ней не виделся. Она была высока и худа, как жердь, но многоликие поклонники, в платонизме которых не приходилось сомневаться, видели в ней совершенство. И ее муж, Иван Петрович, знаменитый адвокат, казался всего лишь одним из них, созерцающих на безопасном расстоянии прекрасную идею. Она с особой заботой относилась к своим волосам, взбивая и свивая их так, что ее голова напоминала готический собор. Одевалась она строго от шеи до пят, предпочитая темно-желтое и темно-зеленое. Смеялась глухо и отрывисто, точно задыхаясь, никогда не смотрела на собеседника и часто сопровождала свои слова странным жестом: прижав локти к бокам и отставив руки, быстро вращала кистями. Для полного счастья ей не хватало кукольного домика, которого не подарили в детстве. Она предпочитала вертикальную линию горизонтальной. Если где-то в доме капала вода, у нее начинали болеть зубы. Она вмешивалась в спор только для того, чтобы его прекратить. Ни у кого не могло возникнуть и мысли о ее телесных потребностях. Она умела поставить себя так, чтобы все ходили вокруг нее и мучились, придумывая комплименты, которые были бы не слишком далеко от истины. Никто бы не посмел сравнить ее с песочными часами, в ходу были флейта, стрела, неугасимая свеча. Она была во всем противоположна актрисе, безжизненной на сцене, оживающей за кулисами. Я слишком мало ее знал, чтобы делать выводы. Детские воспоминания не лучший материал для стареющего моралиста. Она не похожа на свою фотографию. На ночном столике лежала стопка книг Агаты Кристи, и сейчас я подозреваю, что втайне она мечтала о том, чтобы в ее доме произошло какое-нибудь кровавое преступление. Но самым серьезным преступлением за время моего пребывания была пропажа китайского болванчика из буфета, и виновником был я. Мне казалось, что исчезновения никто не заметит – он стоял у задней стенки, заслоненный другими библотками, фарфоровыми рыбками, стеклянными цветами и т.п. Но Анна Григорьевна уже на следующий день металась по дому, заламывая руки и оплакивая пропажу. Я на всякий случай зарыл болванчика в саду, но перед отъездом откопал, и любопытствующий может до сих пор видеть его на моей книжной полке.
Всю дорогу к Орловым мать не сказала мне ни слова. Накануне я заявил, что никуда не поеду. С поезда мы пересели в помятый желтый автобус. На первой же остановке после пристанционного поселка его заполнили люди, мужчины и женщины, с большими корзинами, лопатами и граблями. Я с удивлением слышал слова, которые во дворе мы шепотом и под великим секретом, как нечто опасное и священное, передавали друг другу. Поля зеленели, желтели. Лес находил откуда-то сверху, закрывая небо. Серые заборы тянулись. Было так жарко, что я едва не потерял сознание. Тропинка подо мной покачивалась. Из дерева вылетела большая черная птица. Я нес чемодан с ручкой, обмотанной липкой лентой. Дом был похож на замок с башенками и пристройками. Тишина казалась зловещей. Мы заглянули в пустые комнаты, заблудились в темных коридорах. Непонятно, как мы смогли вновь выйти в сад. Солнце шпарило. В гамаке лежала раскрытая книга. Мерный стук раздавался. В кухне кухарка, коротконогая, с широкой спиной, рубила капусту. Она повернула голову, не переставая кромсать ножом бледные листы. Все уехали за реку на пикник и вернутся только к вечеру. Мать была рада. Она повторила наставления, как себя вести, и ушла, оставив меня в саду. Желтый автобус мелькнул между деревьями. Я вошел в дом, но он показался мне таким страшным, непроходимым – настоящий «черный замок», что я тотчас вернулся в сад, сел на скамейку. По столу ползла крохотная гусеница. Я раздавил ее и понюхал палец. Ничем не пахло.
Прежде чем отправить на дачу к Анне Григорьевне, мать постригла меня наголо. Мне было ужасно стыдно, особенно когда меня подвели к сыну Анны Григорьевны, мордастому барчуку со старательно уложенными на висках кудрями. Когда нас оставили вдвоем, Эрик сообщил доверительно, что больше всего он любит «ссать на цветы», и тотчас же повел меня к большой клумбе в углу сада. В следующие дни он пытался сделать из меня своего раба, но поскольку ему это не удалось (несмотря на самоуверенные замашки, он казался мне скорее комичным), я стал его врагом, и он старался всячески отравить мне пребывание в доме тетки. Делал он это, разумеется, исподтишка и при взрослых сохранял добродушно-сонное выражение увальня, отвечая своему семейному прозванию «ангелочек». Все же он не оставлял, кажется, надежды, что я одумаюсь и займу подобающее мне место.
– Ты похож на колодника.
Я не знал такого слова, мне показалось – «голодника» и он хочет сказать, что дома меня плохо кормят.
Анна Григорьевна поручила Эрику познакомить меня с домом, и он провел меня по комнатам, как хозяин, показывающий новому слуге его территорию, сопровождая насмешливым комментарием все, что мне открылось, но часто повторяя: «Туда нельзя, туда нельзя», и я, конечно, не мог запомнить его указаний, смущенный диковинной обстановкой, а если бы запомнил, то в последующие дни непременно попытался бы проникнуть в запретные покои. Но на все время моего пребывания в черном замке осталась неопределенность: входя без спросу в ту или иную комнату, я не был уверен, позволено ли мне в ней находиться и не нарушаю ли я своим присутствием неизвестное мне правило, и это придавало даже самым заурядным помещениям новое измерение.
Потерпев неудачу в попытке закабалить меня, Эрик решил зайти с другой стороны и постоянно разжигал мое любопытство, делая намеки на таинственные и предосудительные события, происходящие в доме. Ему доставляло удовольствие видеть мои муки, когда я верил и не верил, сомневался в его уклончивых откровениях и в то же время не мог исключить, что в них есть доля правды. При этом его намеки были столь скользкими, что, даже поверив в его слова, я не мог ясно понять, о чем идет речь. Что-то запретное, постыдное, непозволительное пряталось под кипучим гостеприимством. Но поскольку в своих предположениях я полагался на то, что знал из своего опыта, мои представления о тайной жизни дома были слишком бедны и невыразительны, чтобы в них верить.
Что касается моих собственных наблюдений, то они были настолько пестры и несвязны, что невозможно было сложить из них цельную картину. Я и не пытался. Мне нравилось красться, подслушивать, подглядывать, но собранные в результате сведения оставляли меня равнодушным, как если бы я до них еще не дорос и не испытывал желания дорасти, вполне довольный своим детским миром. Взрослые играют со смертью и половыми органами, а я еще играл в настоящие игры. Меня не привлекала перспектива стать Эриком, который, как мне казалось, был глуповат именно по той причине, что, отгороженный стараниями родителей от сверстников, проводил время в обществе взрослых. Он нахватался умных слов и употреблял их не к месту. Были у него и любимые выражения, которые выскакивали из него невпопад и как будто против его воли. Ему было проще повторять чужие мысли, чем соображать свои. И если он вдруг встречался с тем, что противоречило усвоенной схеме, он обижался. Тупоумие и больное самолюбие делали его чувствительным к спиритической реальности. Ему не терпелось стать одним из тех, кто видит, знает и помнит. Занять место в синклите, принадлежащее ему по праву рождения. Детская психология формируется во взрослом возрасте. Иначе не понять, откуда в «ангелочке» взялись эти навязчивые идеи. Но у меня не было намерения проникать в его душу. Он был проводником в мою, этого достаточно.
Эрик появлялся в конце коридора, издали, и в неверном освещении похожий на сморщенного гнома, но, приближаясь неслышно, точно скользя по невидимым рельсам, он вновь превращался в ангелочка с пухлыми щечками и золотыми локонами. Однажды он весь день проходил в гладкой белой маске и отказывался снять ее, несмотря на уговоры матери, которую эта выходка скорее позабавила, а кто-то из гостей прошептал: «Он подает надежды!» Позже он под большим секретом показал мне сундук, доверху уложенный странными образинами.
– Надень! – в его голосе вновь прозвучали властные ноты, как будто он вдруг возвысился надо мной, но я решительно отказался.
– Боишься?
– Чего мне бояться?
И до сего дня, как бы ни складывались обстоятельства, я не надеваю маску, даже если это маска героя-любовника или благородного разбойника. Мне достаточно переодеться, чтобы легко уйти от погони, проникнуть в стан врага. Незапоминающееся лицо, которым меня одарила скупая на дары природа, служит мне верой и правдой. Мне нет нужды подходить к зеркалу, чтобы убедиться в моей безликости, благодарно принимающей черты, которые ей приписывают. Пусть каждый видит во мне то, что хочет увидеть.
– А если и боюсь, что в этом плохого?
– Ты прав, – сказал Эрик важно. – Каждый обязан знать свое место.
В ответ я щелкнул его по носу, и он плача побежал жаловаться Анне Григорьевне, которая, надо отдать ей должное, обычно оставляла его жалобы без внимания. «Учись постоять за себя!» – говорила она. Да и времени у нее не было на пустяки.
Надувшись, Эрик избегал меня, но затем вновь появлялся, оправдываясь тем, что за мной нужен постоянный присмотр. На самом деле ему было просто скучно. Я не мог предложить ему ничего в качестве развлечения. Я был в чужом доме, среди чужих людей. Я наблюдал, слушал, пытался понять, но совершать какое-либо действие было исключено. Я безучастно смотрел, как Эрик, поднявшись на стул, снял со стены портрет дамы в парике и робронах, написал карандашом на обратной стене детски неприличное слово и повесил на место. Такие забавы впору Эрику, бывшему плоть от плоти черного замка, в котором у каждой комнаты есть второе дно и пятый угол. Даже желание осквернить клумбу, как я понял, он перенял, упростив на детский лад, от каких-то сильных влечений, блуждающих по дому. Засыпая над фамильным фолиантом, он видел во сне буквы, и буквы складывались в слова, которые он только что пробежал глазами. Я мог надеяться лишь на приключение. Но не надеялся. Зачем мне чужая история?
Я сразу понял – что-то не так… Время не шло, как обычно, по кривой, а менялось, оставаясь на месте. Как если бы путник вдруг, вдумавшись, замер и превратился в дерево, в башню, в костер. Мне казалось, что ночь и ночной сон возвращают меня к началу все того же одного дня, только немного иначе раскрашенного и наряженного. Но не это главное. Это можно было списать на жару, не проникающую в холодный дом, на расположение звезд… Главное, «что-то» трудно, почти невозможно определить. Так бывает, когда одна вещь накладывается на другую, не смешиваясь с ней, или когда два человека на какое-то время оказываются тем же самым человеком, продолжая жить раздельно. Я не мог пожаловаться ни на обман зрения, ни на прельщения слуха. Даже когда я натыкался в темном завороте коридора на бронзового идола с глазом, выпученным на самом неожиданном месте, или, выдвинув ящик, находил среди старых писем гипсовый слепок детской руки, я не терял присутствия духа. Напрасно бы я стал искать материального подтверждения тому, что клубилось в головах приживальщиков черного замка, и не столько в голове каждого, вполне обычной по своему наполнению, сколько в том, что томилось между ними, лишь отчасти отзываясь в разговорах, – беззвучный гул невысказанной мысли, невоплощенного чувства. Мне хотелось домой: в мой дым вплавь из надуманного тумана. Туда, где я был собой и сам по себе, без длинных темных эпитетов, заимствованных в мертвых языках. Предположим, меня здесь нет. Я кажусь тем, которые судят и рядят. Но столь велика их сила самовнушения, что мне не остается ничего другого, как являться по первому зову. Я не умел сопротивляться, противостоять чужому бреду, отстаивать свое отсутствие. Но теперь я знал, чему учиться и что брать от жизни. Мое будущее определено: разжигать, подрывать, вредить. Просыпаясь утром, я с удивлением не видел вокруг себя привычных вещей, но не мог бы сказать, чего мне не хватает. Новую обстановку я принимал с настороженностью: не хотел быть ни первым, ни последним в ряду своих двойников. Как такое возможно? – спрашивал я себя. Как такое возможно?
Они накатывали кипящей волной на выходные, чтобы схлынуть мутными ручейками в начале недели. Были и те, которые оседали по закоулкам дома и чуть ли не заводили свое хозяйство. Адвокаты, банкиры, профессора, писатели и художники, влиятельные проходимцы, состоятельные острословы, дамы с безупречной репутацией, девы, ищущие легких путей, лунообразные и солнцеподобные, кружащие в вихре и терпеливо поднимающиеся по ступеням – их всех объединяло лишь то, что когда-то кто-то о них что-то сказал – и не важно, отложились ли они в памяти или вынуждены были постоянно напоминать о себе, их принимали, не лишая надежды войти в узкий круг, о котором было известно только то, что в него невозможно войти тому, кто слишком настойчиво ищет лазейку и уверен в своем соответствии требованиям. Но кто решал? Отнюдь не Анна Григорьевна и Иван Петрович. Они были подставными лицами – не более, так мне кажется со слов Эрика. Не в их компетенции было очерчивать круг. Но кто? Кто? Тайна. Как говорили – тайна Руки.
Обширный сад, заметно дичающий по мере удаления от дома, представлял удобное поприще для прогулок, игр, свиданий.
– Вы здесь впервые? – спросила дама в длинном сиреневом платье с сильно напудренным лицом.
– Конечно, нет, – возразил молодой человек с рыжей бородкой. – Я здесь частый, можно сказать, постоянный гость.
– То же самое я могу сказать о себе. Почему же я вас никогда не видела раньше?
Лица от недели к неделе менялись, но общество черного замка оставалось неизменным. Те же слова, те же манеры. Я чувствовал себя шпионом, засланным в стан хитрого и опытного врага. Они так далеко отстояли от всех тех, с кем я до сих пор сталкивался, такими необъяснимыми были их отношения, что в каждом из них я склонен был видеть или показного чудака, или скрытого сумасшедшего. В сумерки они колыхались бесформенно, раздваивались и соединялись. На солнце они протирали очки, ковыряли в зубах, подтягивали чулки, отмахивались от пчел. Как же много было на них надето и днем, и – еще больше, как я воображал, основываясь на косвенных наблюдениях – ночью! И это каким-то, мне сейчас неясным образом соединялось в моем уме с тем, что они постоянно и много ели и пили. Их руки порой прикасались к тем частям чужого тела, которые, как я прежде думал, принуждены оставаться в пренебрежении.
Медленно и не без ошибок я учился находить разницу между миром внешним и внутренним. Вещи, которыми я не владел, нуждались не в комментарии, а в просвещении, поскольку и днем продолжали сохранять связь с породившими их сумерками. Я обходился малым во всем том, что называется чувством. В рассуждениях еще не было необходимости. Я был бы счастлив как можно дольше оставаться естественным человеком, уверенным в своем божественном происхождении и героическом призвании. Но черный замок вел меня темным коридором нового знания, от намека к намеку, из пустоты в пустоту. Попади я в то время в белый замок, каким бы я стал? Примерным? Ухоженным? Берущим от жизни все? Подвергающим господствующий режим беспощадной моральной критике? Признаюсь, этот несостоявшийся и в моих глазах несостоятельный «я» порой занимает мои мысли больше, чем то, что из меня в конце концов, «на выходе», получилось. Он кажется мне живее, плотнее того плоского подобия, которое я вам представляю под нашим общим именем. Будет жаль, если он плохо кончит. В отличие от нас, мятежников и смутьянов, эти добропорядочные идеалисты обычно плохо кончают…
Я сидел на ковре, водя пальцем по пыльному узору, не догадываясь, что представляю, на интеллигентный взгляд, символ, превосходящий глубиной какой-нибудь фонтан, поддерживающий сияющий шар, или сердце, пронзенное стрелой. Мне казалось, что узор на ковре непрерывно меняется, ускользая из-под пальца, и только чудо удерживает меня на краю подвижной бездны. Из одной двери в противоположную прошествовала гигантскими шагами Анна Григорьевна, задев меня жестким краем платья. Обычно она бранилась на мою «плебейскую привычку» бродить по дому в одних трусах, но на этот раз ей было не до меня. Она несла в вытянутой руке, отставляя как можно дальше от себя, клетку, в которой с паническим визгом металась желтая птичка. Я вернулся к созерцанию ковра, но вскоре мое внимание было вновь отвлечено. В залу вошла, аккуратно прикрыв за собой дверь, дама в розовом газе (по наивности я не понял, что газ был бесцветным, розовой была дама), присела к роялю, медленно и неуверенно заиграла, как будто переводя в музыку занимавший меня узор. Вдруг ее руки замерли на весу, обрушились резким ударом по взвывшим клавишам, и она разрыдалась, уронив лицо в ладони, вздрагивая голыми плечами. Закрыв рояль, она встала, поискала глазами зеркала, не нашла, промокнула глаза широким прозрачным рукавом, подошла к окну, распахнула его в сад и, наполовину растворившись в солнечном свете, крикнула: «Альберт!» Почти сразу же в нижней части окна появилась голова лысоватого брюнета с раздвоенной бородкой.
– Мы уезжаем, – сказала она.
Альберт выразил недоумение поднятием бровей.
– Не забудь свой зонт, – дама резко развернулась и вышла из комнаты.
Альберт продолжал стоять у окна, нервно крутя сложенными в бутон губами и рассматривая комнату так, как будто искал в ней объяснения внезапной перемене планов…
Я так увлекся изучением узора на ковре, что заметил двух гостей, вальяжно расположившихся в креслах, лишь в тот момент, когда один из них воскликнул:
– Позорище!
Эти двое как будто в шутку поменялись головами. Один был неприлично толст, но с маленьким, смятым в капризные морщины лицом, другой – тощий, иссохший, с круглыми румяными щеками.
– Это еще мягко сказано, – заметил тощий.
Он держал в левой руке узкий кожаный ремешок, пропускал между пальцами, собирал в комок, распускал, вновь скручивал, наматывал вокруг запястья, не прибегая к помощи другой руки. Если бы не ковер, я бы наверняка направил все свое внимание на эти загадочные манипуляции, но узор не отпускал меня, позволяя лишь отрывочные и косвенные наблюдения.
– Мягко? – толстяк сделал перед собой хватательный жест и захохотал.
Тощий смутился.
– Я совсем не это имел в виду.
– Знаю, знаю, ты, Филлипыч, всегда говоришь не то, что думаешь, – сказал толстяк. – И это правильно. Когда человек говорит то, что думает, он обычно лукавит. Жизнь – как сон, настольная игра имморалиста. Кружева отдыхают на солнце, пока пыль отвоевывает зеркало. Invidia! Чем бы мы были, если бы не мы!
– Так тебе уже известно?
– Еще бы! – самодовольно улыбнулся толстяк. – Я не боюсь повторений. Elles sont plus fraîches! Счастье – в подсчете дневного убытка…
На серо-голубом фоне ковра что-то вырисовывалось, я перестал слушать, до меня доходили только отдельные слова:
– …газеты… законы… фотография… rose immonde… свидетель обвинения… доказательство от противного… апелляция к низменным чувствам… фальшивые улики, ложное алиби… игра случая… судейская ошибка… неряшливо составленный документ… крашеные волосы… срок давности… платье, разрезанное по всей длине… кровавый след… рисунок карандашом… de minimus non curat lex… Мальчик! Принеси черный портфель, он на комоде в прихожей!
Отзываясь на приказ, я встал и механически направился к двери. Но, переступив порог, тотчас забыл о черном портфеле, об адвокатах, перед глазами развернулся узор, яркий и сложный, и я шел в нем, стараясь не упустить ни знака, ни символа: птица, клюющая виноград, меч, лежащий на дне темного озера, дерево, охваченное пламенем, череп, чаша, пчела…
В ту эпоху речь увлекала на самые безрассудные подвиги. Словесная дуэль нередко оканчивалась гибелью одного из дуэлянтов. Удачный, как тогда говорили – счастливый оборот мог вызвать эпидемию самоубийств или всплеск бытового насилия. Ораторы были в цене на площадях и в гостиных. Вскочив на стул, юноша с длинными, тщательно расчесанными волосами, перекрикивая шум ливня, внезапно пригнавшего гостей из сада на террасу, призывал, мешая прозу со стихами, наполнить форму содержанием, воплотить идею. Воображение оборет Бриарея власти! И при упоминании Бриарея некоторые дамы вздрогнули и попятились, другие зарделись. Аргуса! – громко прошептал литературный критик, спеша исправить ситуацию. – Он хотел сказать – Аргуса! Я стоял, вжавшись в стену, оттесненный взволнованными крупами, я ничего не понимал, но был не менее взволнован, восхищен юношески надрывным голосом, зовущим к победе красоты над низкой истиной жизни. Я чувствовал себя легким, как пламя.
Внимание! Это не конец книги.
Если начало книги вам понравилось, то полную версию можно приобрести у нашего партнёра - распространителя легального контента. Поддержите автора!Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?








































