Текст книги "Заговор"
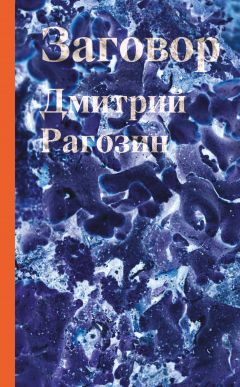
Автор книги: Дмитрий Рагозин
Жанр: Современная русская литература, Современная проза
Возрастные ограничения: +12
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 4 страниц]
– Даны три мира, – утверждает Капустин, любитель схем и классификаций. – Мир предков – прошлое, мир людей – настоящее, и мир богов – будущее. Будущее – вне времени, в отличие от прошлого и настоящего.
– А где же герой? – спрашиваю я с невольным трепетом.
– Герой придуман.
Как известно из набранных петитом примечаний в солидных, собирающих пыль монографиях рельеф местности воспроизводит женские формы. Именно поэтому женщина невосприимчива к причудам ландшафта, не любит прогулок и день проводит на террасе, и со снисходительной улыбкой выслушивает восторги по поводу природных красот, тогда как мужчина, блуждая по упругим холмам и подбритым долинам, точно заново переживает юность, отрочество, детство. С ведома высших сил, но не с одобрения пускаемся мы по времени вспять.
Невозможно запомнить лес, по которому идешь. Он меняется на каждом шагу. На лес не взглянуть со стороны, не обвести взглядом. Взгляд рыщет, теряется в кружении картин. В те минуты, когда лес не напоминал мне пробитый дыроколом кусок картона, я охотно сравнивал его с брошенным впопыхах на стул платьем, выдохнувшим пышный облак сильфиды. В наше время особую популярность получил жанр романов, в которых герой или героиня шаг за шагом освобождаются от пут цивилизации, впадая в естественное, дикое состояние, пока не превращаются в счастливое животное, живущее в гармонии с природой и своими хозяевами. Лес обращается к себе с вопросом: «Сколько еще стоять? Когда можно будет, наконец, пуститься в путь?» Но лес, как известно нам, путникам, не в состоянии выйти из себя, вопрос остается, растет, разрастается. Я шел, шел. Лес был смешанный: листва, хвоя. Шаг переносил из игривой надушенной спальни в темную и сырую усыпальницу с высокими бледными призраками, склоненными над расхищенными гробницами грибниц. Потеряв направление, мысль устремлялась ввысь. В таких лесах испокон века то вяло, то с яростью и жестокостью велись сражения не за пядь земли, а за идею, будь то «nomina sunt odiosa» или «всем всё». То и дело я натыкался на окопные рвы, блиндажи, из-под прелой листвы ползли провода. Находились гильзы, наконечники стрел, шлемы, каски. Война прячется по лесам, не смея выйти в поля под открытое небо, где ветер разнесет ее в пыль, рассыплет набор. Бродя по лесу, я шаг за шагом терял чувство собственного достоинства. Как давеча на подступах к пруду, но бескрайне, мне казалось, что я вот-вот уменьшусь до размера подосиновика или даже муравья. Злой гений предлагал мне новые формы жизни, несовместимые со счастьем и рассудком. Возражения не принимались. Края не то чтобы исчезли, но постоянно сдвигались в ту или другую сторону. Не покидала мысль о волшебных предметах – кольцах, стеклянных шариках, лентах. Найду – спасусь, нет – пропал. Незавиден тот, кто входит в лес с надеждой на будущее. Деревья его обстанут моралистами, он будет под надзором. Бесчисленные глаза – здесь, тут, там – щурятся, косят, подмигивают. К стволу прибита доска с расписанием семинаров и лекционных курсов. Безлюдье обманчиво. Не упускай случая сойтись с нужным человеком, даже если он предпочитает оставаться невидимым. Неправ тот, кто входит в лес, чтобы предаться мысли. Лес отвлекает, он не допустит, чтобы кто-либо в его владениях владел собой. Все обставлено так, чтобы развлекаться, рассеиваться. Забудь о самостоятельности. Запрещено называть себя по имени, ссылаться на даты рождения и смерти. Сполохи солнца как двери во времени, ведущие в золотой век. Даже если будешь идти с закрытыми глазами, тебя найдут, обезвредят. Сухой сук трещит под ногой. Щебет сводит с ума. Проклятые клети! Я возмущен. Где мой пистолет? Опять и опять впадаю в детство, в бессилие. Нельзя выходить из леса с пустыми руками: хоть шишечку, хоть прутик, хотя бы сухой листок. Иначе лес потянется за тобой ненасытно подвижной громадой, шелестом, звоном, прорастая в узорах обоев, сквозь половицы, сквозь пальцы. Куда ни глянь – перелесок. И вот иллюстрация вышесказанному.
Я осмелел, и мои прогулки, которые я невинно называл отлучками, захватывали уже и то, что раньше было всего лишь далеким недоступным пейзажем или, хуже, размещенной в оптической камере панорамой. Иногда я мысленно брал с собой жену, приодев ее и приукрасив для большей важности. Она была не против. Мы шли молча по холмистым лугам, погружены один в другого. Я смотрел ее серыми холодными глазами на блеклое облако, на ржавое ведро в поджарой траве. Нина пылко искала во всем символы и аллитерации. В том месте, где поле прорезает крапивный овраг, она обычно просилась домой, но я не отпускал ее, вернее, ее мысль не отпускала меня. На старой, поросшей пижмой и иван-чаем просеке, под огненной стрелой лазури, она, как велит природа и логика повествования, опускалась на четвереньки, и я изливал в нее a tergo ярость солдата, сбежавшего с поля сражения, поглядывая с иронией на грибника, который завороженно наблюдал за нами из-под притихшего орешника. Он появлялся каждый раз вовремя и, должно быть, принимал нас за каких-то сказочных существ, олицетворений его фантазий и страхов. Он верил, что это представление разыгрывается ради него, одинокого зрителя, и после бурного финала отступал благоговейно в лесную тьму, исполненный священного безумия. Нина не догадывалась о грибнике и была не в том положении, чтобы его увидеть, а я не находил удобным сообщить ей, что она не напрасно принесла себя в жертву.
В другой день, пасмурный и непригодный для интеллектуальных игр, спасаясь от моросящего дождя под высоким хвойным навесом, я повстречал грибника вне созданного моим желанием мифа. Я раз пять обошел сосну, за широким стволом которой, как за колонной, прятался, кружа, боязливый грибник, прежде чем мне, наконец, удалось его нагнать. Признав поражение, он замер, прижавшись к дереву, как будто еще надеялся на чудо мимикрии. И в самом деле, его тужурка и вправленные в сапоги штаны вполне подходили к рыжеватой, в пятнах серого лишая коре, и я мог бы его не заметить, если бы не большая корзина, которую он держал в руке. На сей раз он не признал во мне ни бога, ни зверя. Я был для него всего лишь чужаком, посягнувшим на его территорию. Мое появление ставило под сомнение его права на владение ризомой. Неужели дарованная ему власть видеть бесстыдные игры богов не возвышала его над случайно забредшим в дебри профаном с ограниченным кругозором? Но в качестве державы он мог предъявить лишь корзинку, заполненную синими поганками. Мал и тщедушен, в моем представлении он был жалкой копией жалкого тирана, которого я искал изничтожить (напрасно думают, что изничтожить ничтожество легко и приятно). Борода росла из ноздрей, скрывая нижнюю часть лица, как подвязанный к ушам грязный желтый платок.
Хитрость, вот что его спасет!
– Нынче лес уже не тот, – сказал он так тихо, что борода не шелохнулась.
Я был сражен. Знание леса в его прошлом, уже невидимом виде, возможность сравнить вот эту ель с той же елью, но уже не существующей, не только подтверждали его права на недобрую дебрь, но и отдавали меня, коль скоро я в нее зашел, на его милость.
– А какой был тот?
– Тот был тот.
Явный мне свежей метафорой лес ему был лишь тусклым монохромным снимком того, сгинувшего в бесконечность времен (ибо, как известно, сегодня от вчера отделяет вечность) чуда, которое ныне оживало только в случайном совокуплении света и тени на прорубленной в лесу просеке (какая ирония!). Невинность имеет свои преимущества, но опыт неоспорим.
– Понимаю – тот да не тот.
Еще бы я его не понимал! Сколько раз в своей жизни я встречал это раздвоение сущностей, подмену лиц, поддельные экзистенции! Я и сам, если уж на то пошло…
– Я тоже заметил – деревья, кусты…
– Грибы, – мрачно сказал он.
– Грибы?
– Грибы.
Он решительно зачерпнул в корзине ядовитую горсть и пихнул мне в лицо.
Ударило сложной вонью, в которой смешались запахи плесени, тухлых яиц, дегтярного мыла, мочи, пота, кислого вина… Таким букетом обыкновенно встречает посетителя казенное учреждение, и острота запаха, спирающая дыхание, внушала, что коридор, по которому я ощупью шел, серый, искривленный, как позвоночник, входил атрофированным придатком в чудовищную анатомию дворца. Я не верил своему счастью, так не похоже было то, что я видел, на мои детские мечты. И я растерялся. Куда идти? Где он, она, оно? Спросить у придворных, у челяди. Но, может быть, здесь говорят на другом языке? Нельзя себя выдать. Без карающего кинжала я в этих фальшивых стенах никто. Всю жизнь готовился к подвигу, а как выпал случай, оказался впросаках и безоружен. Будь у меня с собой хоть перочинный ножик, он бы своим острием вывел меня к намеченной цели.
Через преющую оранжерею я прошел в гулкий зал для игры в мяч. Не было времени рассматривать инкунабулы в библиотеке. В картинной галерее царил art brut. В зале для приемов лакеи в масках накрывали длинный стол. Склад музыкальных инструментов, бассейн, учебные классы, костюмерная, даже магазин, в котором, впрочем, продавали только чулки и перчатки. Ад повторений: опять и опять, не вновь.
Мне тоже кажется, что в замкнутом пространстве не может быть красоты. Но вдобавок закрадывалось сомнение, что не я весь этот интерьер нарисовал и разукрасил. Было бы глупо с первых шагов нарваться на скандал. Две дамы в кринолинах прошелестели, как два коротких летних ливня. Прошествовали шуты, звеня бубенцами. Карлики шумно выскочили из-за угла. Среди фланирующих и дефилирующих кто-то был гол, кто-то в униформе, кто-то одет по-домашнему, в халате и тапочках, но все казались равно встревожены, пристыжены, обижены, злы. Скорее оторопь, чем угодливая торопливость. Молча роптать. Приближенных не отличить от прозябающих в опале. И только те, кто, как и я, был здесь впервые, случайные люди, могли позволить себе остановиться и оглядеться по сторонам, не рискуя оказаться не на своем месте. Обычно испытываешь облегчение, когда, поддавшись капризу, сходишь с правильного пути. Но я был посланник рока, а рок – это не рука, перебирающая чувствительные струны. Смеяться, плакать? Власть делает нас, подвластных, неуправляемыми. Я не вдавался в тонкости этикета. Цветные нашивки на рукавах в виде сердец, голубков, скрещенных мечей, кубков, драконов. Красные каблуки, браслеты. Бронзовые статуи, как живые. Я не поддался искушению раздвинуть тяжелый черный занавес. И не спрашивайте меня про «сераль», о котором в народе ходит так много противоречивых слухов. Я встретил знакомых, но они сделали вид, что меня не узнали. Один Агапов задержал шаг и подмигнул. Странно было увидеть его внутри. Он здесь был явным завсегдатаем. Но там я ни разу не слышал, чтобы он упоминал о дворце. «Ты здесь работаешь?» – спросил я. «Конечно нет. Здесь никто не работает», – ответил он с неприятным смешком. Агапов не производит впечатления глыбы, но и проходимцем его не назовешь. Говорил он громко, не смущаясь эха, и это здесь, где у стен есть уши, если не глаза. Используя его в свое время как шифрограмму (о чем он, разумеется, не догадывался), я имел возможность изучить его во всех подробностях. Он с нескрываемой гордостью называл себя корыстным человеком. В доме у него на шкафу стояло чучело совы, оставшееся от прежних жильцов. На лице его отражались не мимолетные чувства и помыслы, а испытанные временем идеи – принципы. Казалось, что к нему невозможно подойти ближе чем на сто шагов. Он увлекался, как многие, оккультизмом и магией, но с какой-то холодной расчетливостью. Его жена была прелестной и безответственной, сын – болезненно-робкий… Напрасно я ждал невидимого порога, за которым вещи начнут терять привычные формы, а люди – человеческий облик, указывая на близость державного логова. Нет, эти сумеречные аркады и освещенные одинокой свечой склепы никуда не вели. Здесь ничего не происходило. Даже я, опытный провокатор, был вынужден бродить без дела, не находя события, в котором мог бы принять участие. Мне казалось, что-то важное ускользает от моего внимания. Взойдя по скрипучим ступеням, я вошел в спальню. Непогашенная лампа освещала край кровати и отражалась золотым прерывистым блеском на стремительной вертикали дождя в распахнутом окне.
– Где ты пропадал? – Нина приподнялась, опираясь локтем на подушку.
– Не знаю.
Лицо и груди примяты сном.
– Я не спала… – сказала она неуверенно. – Ты наверно весь промок!
Но я был сух, как порох.
На склоне от обеда к ужину мы играли во дворе, когда мать высунулась в окно и крикнула, чтобы я немедленно шел домой.
В тот день мы нарисовали на асфальте сложную фигуру из нумерованных квадратов и треугольников, напоминающую очертанием танцующего циклопа с длинными руками и подогнутыми кривыми ногами, и раз за разом пытались прыжками на одной ноге провести жестянку по всем, как мы говорили, «классам», но подлая банка из-под сардин упрямо вылетала за расчерченные цветными мелками границы. Виолетта, признанный эксперт по одноногим прыжкам, сердито кусая косу, объявила, что добраться до заветного пятьдесят первого треугольника с глазом невозможно. После таких слов мы просто обязаны были доскакать до цели, чтобы сбить спесь с известной «задавалы»… Фигура располагалась на плоскости, но было ощущение, что мы пытаемся взобраться на высоту, и разговор у нас был, кто кем хочет стать, когда вырастет. Вадик был уверен, что станет парашютистом. Павел мечтал стать водолазом. Виолетта, как ни странно, хотела стать водителем трамвая. А я… Я не знал, кем хочу стать. Напрасно я перебирал в уме известные мне профессии – пожарный, строитель, садовник, водопроводчик, ни одна из них меня не привлекала. И тут раздался крик матери.
Я вбежал в кухню, возмущенный, обиженный, но остановился на пороге, увидев человека, сидящего за столом. Он низко склонился над тарелкой, в которой дымился разваренный картофель с кусками мяса.
Я сразу понял, кто это.
Отец.
Но он так сильно отличался от того, каким я его помнил или думал, что помню! Я не хотел верить и продолжал смотреть на него как на чужого человека, неизвестно зачем вторгшегося в нашу квартиру. В эту минуту я почувствовал, какое значение для меня имел воображаемый отец – сильный, самоуверенный, надменный, и уже с тоской видел, как он, настоящий, удаляется с печальной улыбкой, чтобы уступить место этому невзрачному самозванцу.
Он был тощ с лица, сутул, голова покачивалась на длинной шее. Лысина маленьким куполом возвышалась над грязными спутанными волосами. На впалых щеках пятнами синела щетина. Глаза неприятно блестели в набрякших веках.
Когда я вбежал, он выпрямился и уставился на меня, слегка отодвинув тарелку и не выпуская из руки вилку, продолжая жевать, перевел взгляд на стоявшую у окна мать в надежде, что она спасет его от моего опасного любопытства. Даже здесь, в квартире, он старался сохранять анонимность. Даже здесь, среди своих, он боялся себя выдать. Едва заметно улыбнулся, скривив замасленные губы, и в его улыбке мне почудилась ирония, скрытое желание разочаровать, обмануть ожидание, не дать того, что от него хотят получить. Некоторое время мы трое обменивались молчанием: от него ко мне, от меня к матери, от матери к нему. Если в нашем молчании и был какой-то смысл, я бы предпочел ему бессмысленную речь. Я с болью чувствовал, что сидящий за столом человек не принадлежит моему миру, как если бы он существовал в другом времени и явился только для того, чтобы поставить под сомнение реальность моего существования, отобрать все то, что делало меня счастливым. Нет, конечно, он не был мне врагом, он был нелепицей, противоречием, несостыковкой. И меня злило бессилие изобличить его, освободить его от обманного облика.
– Ладно, иди, – сжалилась мать.
Я выскочил из кухни, спустился во двор. Но все уже разбежались. Жестянка лежала на треугольнике, прикрывая красное око. Пока меня не было, неразрешимая задача была решена. Старательный меловой рисунок и жестянка из-под сардин стали не нужны, и эта внезапная «переоценка всех ценностей» разогнала игравших скорее, чем приближение сумерек. Я сел на ящик возле сарая. Небо еще сияло глубокой голубизной, но на дне двора было темно. С тополя кругами летели сухие листья. Вслед за другими зажглись окна нашей квартиры, затем погасли. Я думал о школе, в которую пойду в первый раз через две недели, о здании с большими мутными окнами, где проходят уроки, где ставят оценки, наказывают за неуспеваемость, вручают грамоты и вымпелы, принимают экзамены…
Хлопнула дверь подъезда. Вышедший посмотрел по сторонам и, пригнувшись, подняв воротник короткого пиджака и надвинув на нос кепку, быстро пересек двор в сторону проходной. Он заметил меня, но не остановился. Мать сказала никому не говорить о том, что у нас кто-то был (она так и сказала – «кто-то»). Примерно через неделю, когда мы заканчивали ужинать, раздался звонок в дверь. Мать побледнела, велела идти в свою комнату. Сквозь приоткрытую дверь я видел гостя – средних лет, в штатском, но с элегантной военной выправкой, с большим надменным, насмешливо-самоуверенным лицом. Он о чем-то долго беседовал с матерью. Из того, что мне удалось подслушать, я узнал, что отец совершил побег из тюрьмы и представляет большую опасность не только для государства, но и для простых людей, живущих своими простыми интересами, и если матери станет что-либо известно о его местопребывании, она, как сознательная гражданка, да и как человек, не лишенный нравственного чувства, обязана сообщить куда следует…
И вот тогда я понял, кем хочу стать. Государственным преступником. Как он.
Я знаю людей, которые уверены, что нас, заговорщиков, не существует. Таких немного, но они есть. Они доказывают с пеной у рта, что заговор придуман властями для того, чтобы оправдать запреты и наказания. Не вздумайте (я обращаюсь не к вам, а к своим соратникам) признаваться ему, он рассмеется вам в лицо, даже если в этот момент ваше лицо будет скрыто под маской добродушия. – Какой заговор? Где вы увидели заговор? Все выжжено и вытоптано. Я улыбаюсь. Я подливаю ему в граненый стакан водочки. Теперь надо сделать так, чтобы он забыл наш разговор, иначе придется скинуть его с балкона или толкнуть под поезд. Недоверчивые бывают ужасно болтливыми.
Как только я вышел за калитку, жена, до той поры сидевшая наверху в кабинете, спустилась в сад. Как же ей надоело делать вид, что она пишет книгу! А ведь она так давно ждала уединения, свободы, живой рукописи. «Колонки» о губной помаде, лифчиках и правильном питании, которые надо сдать к сроку, были как волосы на расческе. Наконец-то у нее было время вкладывать мечты в длинные, текучие, тягучие периоды, без которых страдает то, что с придыханием называют «женской прозой». Виться, вить. Но, увы и ах, в этом заброшенном чужом доме, неспокойном, трещавшем по швам, она не чувствовала себя собой. Было скучно. Лежа в старом парусиновом шезлонге, она невольно искала в небе переулки, дома, лестницы, лица. Трава щекотала лодыжки. Хотелось одеваться, отражаться, покупать ненужные вещи, рассматривать картинки, вгонять в краску официантов, превращать ночь в день. Стесняло, что она не может признаться мужу в своей бездеятельности. Приходилось шелестеть бумагой и бить по клавишам. Если бы она сказала, что ей лень и неохота, он бы ее не понял. Он бы удивился. А она не любила, когда он смотрел на нее с недоумением, точно она вдруг открылась ему с неожиданной стороны, не такой, какой он ее знал и чувствовал. Ей нравилось быть его привычкой, удобной формой для его представления о ней, восприятием… Когда они впервые встретились и он притворился писателем, было стыдно подыгрывать его глупой выходке (неужели он думал, что ей не известно, как выглядит человек, у которого она пришла брать интервью?), но что-то в ней потребовало отдаться обману. Нет, ему нельзя знать то, что она знает. Он произвел на нее в тот день неопределенное впечатление, и эта неопределенность, пугающая расплывчатость ее отношения к нему навязала ей, наконец, его судьбу, и главными в длинной, текучей и тягучей фразе этой судьбы стали неопределенные местоимения: кто-то, где-то, когда-нибудь. Она с удовольствием отмечала, что и поныне опасная неопределенность не свелась, и если иногда хотелось чего-то другого, резкого, убегающего, как парфянин, пускающий за спину стрелы, она продолжала сохранять верность своему первому впечатлению и, когда изменяла, глупо, сумбурно, не испытывала страха, что отступает от меня, напротив только утверждалась в уверенности, что, поддавшись искушению, она всего лишь множит неопределенность, без которой наш союз был бы невозможен. Жизни на пользу немного безумия. Но как же ей надоели этот дом, сад, забор, лес за косогором, комары, как же ее утомила ненаписанная книга! И опять она должна мне подыгрывать, пусть даже это «должна» растворяет ее в медленных объятиях, нежа все ниже и ниже. Может быть, все же что-то получится – мой сюжет, ее описания?
Поле нараспашку, уклончивая река, насупленный лес. Как легко безликая природа набирается чувств перед лицом бесчувственного наблюдателя, который хотел бы видеть в ней только расстояние мысленной деятельности! Она набрасывает на него воздушный ароматный вуаль, хватает за руку, вводит в мир страстей, неожиданных в ленивом развороте холма или в отвернувшейся со стыдливым шелестом рощице. Скрещения бесчисленных взглядов создают то напряжение в воздухе, которого не может не заметить одинокий путник. Нет, не фабрика – бальная зала, вертикальный блеск длинных зеркал, позвякивание шпор, скрип пропотевших корсетов, ветреное кружение. Но мечтатель, как бы ни был он суров и недоверчив, не устоит перед соблазном мифологии. Привидятся нимфы, привидятся фавны. Прогалопирует белый кентавр. И вот уже обаяние невзыскательных ощущений рассеивается в рассеченной полуденным солнцем пыльной пустой перспективе галереи. Шаги и эхо шагов. И взгляд равнодушно отмечает смуглое закругление торса на фоне темной клубящейся зелени.
На небе появилась рука с указующим перстом, но уже в следующую минуту она превратилась в бесформенное облако, поспешившее уйти в синеву. Я успел заметить место, на которое указывал перст: лесок, называемый аборигенами «подметным». Что-то белело на опушке. Загадка разрешилась быстро. Это была девушка, вернее, женщина, во сне ставшая девушкой. Светловолосая, в белом платьице, похожем на налет фантазии, она лежала навзничь, как бы грубо это ни звучало в звенящей тишине. Но, несмотря на раскосо заголившиеся бледные ноги, я не нашел в ее расслабленной позе ничего неприличного, она воплощала покой, и только. Незнакомка покоилась в тени, поэтому я не мог прикоснуться к ней своей вожделеющей тенью, а то, что мы называем чувствами, порой бывает слишком близоруко и рассудительно. Горький запах горячей травы захватывал дух. Грозди ягод белели и краснели ядовито. Золотистые мушки свивались дрожащим кольцом. Еще один бродячий сюжет сплел паутину. Я проследовал, от греха подальше, в любезно раздвинувший на миг тяжелые складки лесок. Пройдя по длинному, узкому коридору, я оказался на пороге круглой поляны. Чуть левее от центра стояла женщина в платье, удивившем своей старомодностью. Держа на вытянутой руке зеркальце, она расчесывала длинные темные волосы, слегка наклонив голову. И та, что прелестно возлежала на опушке, и эта, суровая, были, на мой заинтересованный взгляд, не более реальны, чем небесная рука, то есть принадлежали к тому, что наша реальность допускает лишь в качестве исключения и не без юмора. Верящему в чудеса предписано держаться от чудес подальше, обходить стороной, а если, по злому случаю, произойдет сближение, не верить своим глазам и продолжать жить так, как будто ничего не произошло. Я пересек поляну, глядя прямо перед собой, и не могу сказать определенно, какова была реакция незнакомки на мое внезапное появление. Когда я уже был на противоположной стороне, мне послышалось, что она меня окликнула, но вступая в зеленую колоннаду, я легко убедил себя в том, что это был клекот какой-то птицы, не требующий от меня ответного клекота. Многое в лесу вызывает у наивного горожанина удивление. И не только отсутствие газет и транспорта. В то же время многое кажется до странности знакомым, бывшим в употреблении. Эти окна, эти лестницы… Они так же направляют нас, как их городские подобия. Но сходства словами не выразить, слова призваны различать. Захлопнув за собой дверь, я направился назад краем леска, и, совершив полукруг, обнаружил вместо спящей дивы лишь примятую изящным образом траву (в последующем будет объяснено, почему вмятина смутила меня сильнее, чем та, которая была ее причиной). Я пожалел о своей незадачливой поспешности (по показаниям хронометра, на все про все у меня ушло не более пяти минут) и решил вновь поискать счастья в подметной чаще, но на этот раз она не уступила. Напрасно я водил рукой по гладкой зеленой кладке. Ни щели, в которую я, став плоским, мог бы протиснуться, ни тайного рычажка, раздвигающего непроницаемые шторы. С таким же успехом я мог бы проникнуть внутрь картины или стать героем романа.
Забавно, что в первый раз я вышел со двора без разрешения в компании с Володиным. На пару лет меня старше: грузный, но узкогрудый и узкоплечий, туполобый, вислогубый, очки в костяной оправе. Двор его презирал, но он во дворе и не задерживался. Отец – «профессор», мать – «музыкантша», этим все сказано.
Мы прошли до продуктового магазина, куда меня иногда посылали за мелкими покупками, мимо замыленной солнцем парикмахерской, свернули в спадающий к реке переулок…
– Куда мы идем? – спросил я.
– В шахматный клуб, – мрачно пробормотал Володин. Шагая, он смотрел себе под ноги и, вероятно, мог найти дорогу к клубу с закрытыми глазами.
– Но я не умею играть в шахматы! – сказал я.
– Научу, – Володин был неумолим.
Мы пересекли трамвайные пути.
Если бы я знал тогда, что все, увиденное мной за время этой своевольной отлучки, – люди, которых я встречу и пропущу равнодушно, надписи на стенах, вышедшие из спячки предметы, – навсегда войдет в мою жизнь, вырастая на пути, как гермы или термины в критические ее моменты, я бы, конечно, постарался удержать в памяти как можно больше, но все мои мысли были устремлены к неведомому шахматному клубу (который, надо сказать, не сыграл в моей последующей судьбе никакой роли), и я, вероятно, не заметил самого важного: толстяка со шрамом, стоящего на балконе обок облокотившейся дамы в нестерпимо красном платье, машины, припаркованной у входа на почту, приклеенной к стене листовки, торчащего из урны букета роз… Я был так возбужден открывшейся мне свободой, что не прозревал сквозь ее сияние и никакие сторонние предметы и обстоятельства не могли привлечь моего внимания.
Большая, тускло освещенная зала была заставлена столиками с нарисованными на них шахматными досками. Мы с трудом нашли свободный возле прикрытого шторой окна. Среди посетителей клуба были и дети, сучащие не достающими до пола ногами, и старики с окладистой бородой. На стене висел транспарант: «Знание – Сила». Было душно, пахло потом, табаком. Кто-то крикнул: «Шах!» Все головы повернулись. Володин принес помятую картонную коробку и расставил фигуры по полустертым клеткам. Он объяснил мне правила, позиции, но ему скоро надоело и со словами «Поупражняйся сам», он ушел в другой конец залы наблюдать какую-то «забавную» партию.
Я тупо глядел на ряды фигур, не решаясь к ним притронуться. Внезапно напротив меня на стул опустился высокий, худой человек со странным бледным и как будто слегка перекрученным лицом. Длинный нос, седые лохмы за ушами.
– Ну что, юноша, сразимся? – сказал он, едва взглянув на меня, и сразу весь сосредоточился на доске, как будто предстоящая партия уже развернулась в его голове.
Нерешительно я двинул вперед крайнюю пешку.
– Ого, – сказал он, поднимая бровь, задумался и прыгнул конем.
Я ходил наугад, озабоченный лишь тем, чтобы соблюсти преподанные мне правила. Мой соперник то откидывался назад, прикрывая тяжелые веки и судорожно сплетая пальцы, то нависал над столом, чуть ли не водя носом по клеткам, и все продолжительнее делались паузы, во время которых он, видимо, пытался разгадать мой замысел и изобретал в противодействие какие-то сложные комбинации. Протянув неуверенную руку к ладье, он отдергивал ее, в последний момент замечая подвох со стороны стоящего в дальнем углу слона. Наш столик обступили зрители. Некоторые записывали ходы. Меня тревожило, что все меньше фигур остается на доске. В этом опустошении я видел свою вину.
Мой соперник встал.
– Признаю свое поражение, – сказал он торжественно и, слегка пошатываясь, вышел из зала.
Зрители молча разошлись по своим столикам.
– Ну ты даешь! – сказал Володин. – Это же Бланк!
– Кто?
– Человек-легенда. Говорят, только интриги помешали ему стать гроссмейстером. Он не часто здесь бывает, но еще никто не мог его обыграть.
– Мне пора домой, – сказал я.
Володин заупрямился – он не наигрался. Пришлось мне возвращаться одному. Уже наступили сумерки, сиреневые и отчасти сизые. Я не запомнил дороги. И я не чувствовал радости победы. В моей победе было что-то зловещее. Дома меня ждал нагоняй за то, что я самовольно ушел со двора. Я поклялся никогда не играть в шахматы (и эту клятву сдержал). Проносились машины, слепя фарами. Деревья склоняли грузную грустную листву. Улицы исчезали одна в другой, как тени, кружащие вокруг фонарей. Появились первые признаки ночной жизни – страшные непроницаемые силуэты мужчин и не менее страшные мерцающие крылья женщин. Чтобы как-то заглушить страх, я думал о том, какое наказание меня ждет дома. Когда мне стало окончательно ясно, что я потерялся и не найду дороги домой, я увидел арку во двор.
– Пишешь?
– Нет. Да.
– Хороший ответ.
– Я не чувствую себя свободной.
– Почему?
– Плохой вопрос… Мне здесь ничего не снится.
– И ты, конечно же, считаешь, что виноват я.
– Не ты.
– Тогда кто?
– Я потеряла сюжетную линию.
– Но я же все для тебя придумал: любовный квадрат, погоня, скандал, подмена…
– Это не то, не то.
– Я уверен, получится отличная книга.
– Но призраки…
– Какие еще призраки?
– Ты приводишь в дом призраков, и я не могу с ними справиться. Как если по всем комнатам разбросаны грязные носовые платки. Не понимаю, зачем к прошлому приписано будущее.
– Я спрошу, при случае, у Капустина.
– Твой Капустин!
– По всем признакам завтра – дождь. Красный закат, ветер.
– У тебя есть зонт. И ты сам говорил, что нет ничего чудеснее, чем быть застигнутым в лесу дождем.
– Но какая тоска идти в дождь по полю!
– Капризы.
– Я вдруг вспомнил, как мы шли с тобой к Чистяковым, и из окна…









































