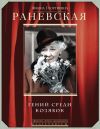Текст книги "Фаина Раневская: «Судьба – шлюха»"

Автор книги: Дмитрий Щеглов
Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
«С упоением била бы морды всем халтурщикам, а терплю»
Терплю невежество, терплю вранье, терплю убогое существование полунищенки, терплю и буду терпеть до конца дней.
Терплю даже Завадского.
* * *
Наплевательство, разгильдяйство, распущенность, неуважение к актеру и зрителю. Это сегодня театр – развал.
В театре сейчас очень трудно совестливой актрисе, и ваша статья мне в утешение. Новой роли у меня нет, а я так люблю рожать. Я в немилости у самодура и кривляки Завадского, который лишает меня работы новой.
* * *
Режиссер – обыватель.
* * *
Все мешает работе.
Все ждут от того же За-го – дилетанта, болтуна об «искусстве», пигмея с душонкой б… «Директор», все «руководящее» – мелкие жулики.
Господи, помоги мне не сойти с ума в этом клозете!
Стыдно публики. Никого из «деятелей»-коллег ничего не волнует. Кончаю мое существование на помойке, т. е. в театре Завадского.
Руководство! В театре небывалое нечто, даже для этого заведения. Грязь, шум, «артисты», «артистки»…
* * *
Я никогда не испытывала того, что называется «травля». Видимо, это и есть то самое. Людей, самых различных по своей натуре, вкусам и воспитанию, можно легко спаять, крикнув им: «Куси!» И тогда начинается то, что так любят охотники. У всякого человека, тем более актера, есть в его среде недоброжелатели, мелкие завистники, а когда это все собирается воедино, подогреваемое начальством, – тут надо устоять одной против всех. Трудно это с грудной жабой в 60 лет. Молю об одном: «Господи, дай мне силы!»
Вновь вспоминаю точные слова Ларошфуко: «Мы не любим тех, кем восхищаемся».
Недавно перечитывала «Осуждение Паганини». Какой ерундой все это представляется рядом с травлей этого гения.
Свердловск. Август 1955 года
* * *
Пишу это письмо, не зная, кому его адресовать, так как это никому и не надо и неинтересно. Пишу, наверное, для того, чтобы не сойти с ума в одиночестве. Когда после долгих и мучительных колебаний и опасений ехать на Урал я все же решилась поехать, первый человек, которого я встретила на вокзале, был Завадский. Он удивился, увидев меня, и спросил: «Зачем вы едете, ведь у вас бюллетень?». Я ответила, что еду, чтобы не сорвать «Сомовых», так как у меня нет дублерши, и что Ирина Вульф очень не хочет никого вводить, опасаясь ослабить спектакль, – как она мне сказала. Моей ошибкой было то, что я тут же не вернулась с вокзала. Я добавила, что еду с тем, чтобы репетировать «Министершу». В Челябинске репетиций не было: Завадский уезжал в Москву. Первая репетиция была 6-го числа в Свердловске. С первой же репетиции, которую провел Завадский, было ясно и многим другим, что работать со мной он не хочет. Относился ко мне в процессе так называемой работы скучающе-снисходительно рисовал, томился, предупреждал меня, что я роли не доиграю до конца, предлагал мизансцены, которые ни один нормальный актер принять не может. К примеру: сесть на пол мимо стула и оставаться всю сцену на полу на карачках и в такой позе вести диалоги. Больше ничего не предложил, скучал, рисовал – вокруг все репетировали, все игравшие давали советы, указания.
(Приписка Раневской 1976 года: «…Без содрогания не могу вспомнить этой «репетиции». Я ушла из театра. То, к чему он и стремился».)
Атмосфера была мучительная, не творчество, что-то от самодеятельности. В зал репетиционный входили и выходили, разговаривали, мешали. Я понимала, что в таких условиях не охватить огромной, труднейшей роли. Сидели на первом акте, перевод последующих актов не был готов.
* * *
13-го. Дикая боль в сердце.
* * *
19-го. Был спазм в сердце и мозговых сосудах, боль была такая невыносимая, что я кричала. Давление подскочило небывало: 165.
Двое суток держался спазм. Было много докторов – «укротителей».
Спазмы сердца и в голове начались после того, как я узнала, что обо мне было собрание, на которое меня не позвали, чтобы я не могла оправдаться во всех взваленных на меня обвинениях. Приходил Оленин, мучил несколько часов нотациями, потом приходил Мордвинов и тоже мучил упреками в заносчивости, зазнайстве, в том, что я завладела машиной, лучшей гостиницей, что меня встречают аплодисментами, что я всегда лезла вперед фотографироваться, что во Львове я вышла на одно собрание, где меня вызывали в президиум, на аплодисменты, относящиеся к Сталину, чтобы своим появлением сделать вид, что аплодисменты относились ко мне…
* * *
20.7.55 г.
Несколько дней до скандала на репетиции «Министерши» в театре шли разговоры о предстоящем производственном совещании, которое откладывала дирекция и парторганизация по разным причинам, одна из которых была недомогание С. Насколько мне известно, «недомогание» заключалось в том, что С. беспробудно пьянствовал, запершись у себя в номере. Я слышала о недовольстве рабочих сцены дирекцией и о требованиях рабочих провести производственное совещание, на котором они хотели высказать эти недовольства. И когда на следующий день после скандала на репетиции мне в частном разговоре Михайлов (актер Театра им. Моссовета. – Д. Щ.) сказал о том, что идет на собрание, я была уверена, что собрание это и есть то самое производственное совещание, которого все дожидались. Думала, что на этом собрании будут обсуждать будущее помещение театра и пр. Чувствуя себя физически нездоровой, решила на собрание не ходить. Когда Оленин сказал мне, что собрание было посвящено только мне и все выступления были только обо мне, где мне было предъявлено много обвинений, в частности обвинение дирекции и Завадского в срыве репетиций по выпуску премьеры «Министерши», – я поняла, что не была вызвана на это собрание ни парторганизацией, ни месткомом, ни дирекцией намеренно. Для того чтобы не дать собранию разъяснений по поводу того, как велась работа над этим спектаклем, вернее, как НЕ велось никакой работы главным режиссером, который в период гастролей не вел никаких репетиций и которого я силой заставила репетировать в Свердловске, где было только пять репетиций, на которых главный режиссер явно высказывал свою незаинтересованность в работе со мной, что меня глубоко огорчило и вызвало во мне чувство раздражения, так как я работала интенсивно и, видя пассивность главного режиссера, была творчески активна, несмотря на сильное недомогание, работала увлеченно, стараясь своей увлеченностью заразить моих партнеров, которые, видя незаинтересованность Завадского, были раздражены и недисциплинированы, что, в свою очередь, углубляло мое раздражение и что в результате явилось поводом к скандалу, который выразился в том, что главный режиссер позволил себе крикнуть мне: «Убирайтесь вон из театра». На что я ответила ему той же фразой. (В другой редакции фраза Раневской звучала: «Вон из искусства!» – Д. Щ.) Не могла иначе прореагировать на оскорбление, нанесенное мне впервые в жизни, к тому же публично и никак не заслуженно. Идя навстречу театру, несмотря на запрещение врачей, я поехала на Урал, где в силу климатических условий чувствовала себя настолько плохо, что врачи настаивали на моем возвращении в Москву, в привычные для меня климатические условия. И все же, преодолевая недомогание, я упорно работала над ролью, играла спектакли и даже в день, когда главный режиссер оскорбил меня, играла, имея полное право не играть по состоянию здоровья. Чувство обязательства по отношению к театру и зрителю заставляло меня остаться до конца гастролей, несмотря на то что руководство театра и парторганизация не нашли нужным вызвать меня на собрание, где я подверглась незаслуженным нападкам руководителей, а также части актеров, недовольных мною по тем или иным причинам. После собрания ко мне заходили актеры Адоскин, Баранцев, Сошальская, Михайлов и другие и выражали свое сочувствие мне и возмущение поведением руководства и парторганизации, устроившей это незаконное собрание в отсутствие человека, которого обвиняют. <…>
Протокол собрания мне не показали из опасений усугубить мое болезненное состояние!!!
Узнав об этом собрании и о том, что меня сняли с роли Министерши, я перенесла тяжелый спазм сосудов и сердца. Считаю поведение дирекции и парторганизации незаконным, бесчеловечным и жестоким в отношении актрисы моего возраста… Если я была в чем-то не права, руководство должно было объявить мне выговор, но такая мера воздействия представляется мне несовместимой с моими представлениями о советской законности.
По целому ряду фактов я поняла, что главный режиссер не хотел, чтобы я играла в роли Министерши. Показ спектакля должен был состояться в конце августа в Свердловске, и в то же время главный режиссер из Челябинска уехал в Москву, сказав, что до его возвращения репетиций быть не должно. Вернувшись из Москвы, постановщик спектакля «Министерша» не приступал к репетициям. В Свердловске 4-го числа он вызвал участников в кабинет, где занимался рисованием, в то время как я сбивалась с ног в поисках мизансцен и решения кусков. Все последующие две репетиции тоже были посвящены рисованию, что вызвало во мне особое раздражение, так как нет ничего для актера мучительнее, чем незаинтересованность, апатия и отсутствие интереса к его творчеству со стороны режиссера-постановщика. <…>
Учитывая то, что, помимо инцидента с «Министершей», я за годы пребывания в театре была мало использована, прошу Вас перевести меня в один из театров, где могу быть нужна и полезна. Однажды ко мне обращался режиссер Туманов из Театра имени Пушкина с предложением с ним работать, и если он не изменил своего взгляда на меня как на актрису, я бы сейчас приняла это предложение.
По окончании гастролей в начале сентября буду в Москве, где надеюсь с вами обсудить этот вопрос…
Черновик обращения в Министерство культуры, написанный рукой Раневской
* * *
На меня вылили помойное ведро, и никто не встал и не сказал, что это все результат недовольства отдельных актеров: одному не сказала похвальных слов, с другими не хочу играть в концертах, третьему не сказала, что он хороший артист, четвертого разозлило, что меня встречают хлопками, а его нет, с пятым не общаюсь (было неинтересно), шестого обругала за то, что не профессионален, на репетициях не собран, распущен, не работает сам дома и т. д.
Предместкома сказал в кругу своих приятелей, после того как довели до припадка: «Пора кончать этот Освенцим Раневской».
Оленин инкриминировал то, что я, входя на собрание, сажусь в первый ряд!!! Значит, должна сидеть сзади. Что в каждом моем шаге – моя нескромность и самоуверенность. Говорят, черт не тот, кто побеждает, а тот, кто смог остаться один.
Меня боятся.
Как я могла все это вынести? Перечитала свое заявление. Глупая, глупая.
* * *
Завадскому снится, что он уже похоронен на Красной площади.
Пипи в трамвае – вот все, что сделал режиссер в искусстве.
Блядь в кепочке.
Вытянутый в длину лилипут.
* * *
Мне непонятно всегда было: люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.
В театре небывалый по мощности бардак, даже стыдно на старости лет в нем фигурировать. В городе не бываю, а больше лежу и думаю, чем бы мне заняться постыдным. Со своими коллегами встречаюсь по необходимости с ними «творить», они все мне противны своим цинизмом, который я ненавижу за его общедоступность… Трудно найти слова, чтобы охарактеризовать этот… театр, тут нужен гений Булгакова. Уж сколько лет таскаюсь по гастролям, а такого стыдобища не помню. Провалились. Провалились торжественно и бесшумно… В старости главное – чувство достоинства, а его меня лишили.
* * *
Так безнадежно бездарны подлый репертуар и «деятели искусств». Живу в царстве невежества дикого, уголовно наказуемого, бешеная спекуляция на темах. О, эти темы! Почему-то все, от кого исходит необходимость темы, забыли сказанное Энгельсом своей корреспондентке в письме после прочтения ее пьесы: «Чем глубже спрятана тенденция, тем это лучше для художественного произведения…»
* * *
…Жизнь удивительно провинциальная, совсем как в детстве, в Таганроге, все всё друг о друге знают. Есть же такие дураки, которые завидуют «известности». Врагу не пожелаю проклятой известности. В том, что вас все знают, все узнают, есть для меня что-то глубоко оскорбляющее, завидую безмятежной жизни любой маникюрши.
Какой печальный город. Невыносимо красивый и такой печальный с тяжело-болезнетворным климатом. Всегда я здесь больна.
Ленинград. 60 г.
* * *
Снимаюсь в ерунде. Съемки похожи на каторгу. Сплошное унижение человеческого достоинства, а впереди провал, срам, если картина вылезет на экран.
Стараюсь припомнить, встречала ли в кино за 26 лет человекообразных? Пожалуй, один Черняк – умерший от порядочности.
1. Пышка.
2. Подкидыш.
3. Свадьба.
4. Дума про казака Голоту.
5. Пархоменко.
6. Мечта.
7. Небесный тихоход.
8. Ошибка инженера Кочина.
9. Золушка.
10. Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем.
11. Похождения бравого солдата Швейка.
12. Человек в футляре.
13. Весна.
14. У них есть Родина.
15. Встреча на Эльбе.
16. Слон и веревочка.
17. Осторожно, бабушка!
18. Александр Матросов.
19. Легкая жизнь (ну и намучилась).
20. Драма.
21. Девушка с гитарой.
22. Сегодня новый аттракцион (последний).
Фильмы эти не показывают, а сколько сил ушло на ерунду.
Прислали на чтение две пьесы. Одна называлась «Витаминчик», другая – «Куда смотрит милиция?». Потом было объяснение с автором, и, выслушав меня, он грустно сказал: «Я вижу, что юмор вам недоступен».
* * *
…Сниматься в фильмах было мучением. Деньги за них давно прожила, а стыд живуч (или позор тащится). Наслаждением было партнерство большого актера.
ИЗ ПИСЕМ Ф. Г. РАНЕВСКОЙ – Х. и Э. ГАРИНЫМ
Хесо, милая, ах Хесо! Сегодня уже 1 августа – я не писала Вам, боясь отнять у Вас время, – знаю, как Вы заняты и замучены. Чувствую, как Вам трудно на Вашей студии, а что это за студия, я до конца узнала на днях, – представьте себе! – только на днях!
На днях явилась ко мне некто Сытина – сценаристка, если бы с ней не было администратора, я бы подумала, что эта женщина убежала от Кащенки, но администратор, ее сопровождавший, производил впечатление вполне нормального сумасшедшего, работающего в кино. Сценаристка объявила, что они с администратором приехали за мной на съемку, которая состоится завтра (?!).
Мне показалось, что я брежу, настолько это было неожиданно. Сначала они оба стали меня уговаривать, умолять сейчас же из Комарова ехать в Ленинград, а затем в Москву, т. к. меня ждет весь творческий коллектив, и что я не имею права срывать (!) съемку с массовкой в 400 человек. Придя в себя, я спросила, о какой съемке идет речь? Мне сказали, что это фильм, который снимает – совместно с другим режиссером – Баранова, и что послал за мной Бритиков, который убедительно просит меня приехать и не срывать съемку (?!).
Возможно ли такое?
Я сказала, что не знаю сценария, не знаю роли и не представляю себе, как при этом можно сниматься. Сценаристка пообещала в дороге рассказать мне содержание сценария и роли (!).
На мой решительный отказ пуститься в такую авантюру Сытина стала осыпать меня упреками, сердилась, бранилась, обвинила меня в отсутствии этики по отношению к студии, съемочной группе, режиссуре и пр. А после упреков она снова стала умолять спасти положение и ехать во что бы то ни стало. Вся эта сцена происходила в вестибюле Д/О (Дома отдыха в Комарово), и многие кинематографисты из «Ленфильма» стали невольными свидетелями. Я просто вся тряслась, буквально тряслась от такой неожиданности, от ее напора, от того, что не знала, как избавиться от этой женщины. Знаете ли Вы такого человека – Бориса Михайловича Марголина? Этот добрый человек взял меня за руку, увел в мою комнату, уложил в кровать и укрыл одеялом, потому что меня трясло, а день был жаркий.
Больше всего меня оскорбили упреки в отсутствии этики, меня оскорбило то, что со старой, заслуженной артисткой можно обращаться как с девкой.
Как мог позволить себе Бритиков послать за мной на съемку, зная, что мне неведомы сценарий и роль? Надеюсь, Вы поймете меня. Наверное, есть актеры, которые дали повод так с ними обращаться, но я этого не заслужила.
У меня нет дара описывать и рассказывать на бумаге, и, наверное, все, что я Вам попыталась описать, совсем не соответствует тому, что здесь происходило. Эта сцена уговоров длилась три часа. Спасал меня от этой невероятной женщины и Туманов, который требовал, чтобы она оставила меня в покое. Уходя, она вошла ко мне в комнату, снова начала упрекать в том, что я подвела студию, и последние ее слова были: «Это останется на Вашей совести».
Ради Бога, поймите меня, – мне как-то позвонила Баранова и предложила сняться, я ответила, что, пока не прочитаю сценария и не узнаю, какова роль, кроме принципиального согласия, ничего сказать не могу. Я ответила вежливо, как отвечаю всем в подобных случаях, – мне не послали сценария, а прислали за мной с требованием срочно выезжать сниматься.
Мне думается, что это так оставить нельзя. Когда буду в Москве, отчитаю Бритикова, и никогда ноги моей не будет на этой студии. Простите, дорогая, что отняла у Вас время, но ведь ближе у меня никого нет. Это такое хулиганство, такое неуважение к творческому человеку… Никак не могу успокоиться.
…Хесо, если будет у Вас секунда, когда будете в силах, – напишите 2 слова о себе и Эрасте. Я даже Вам открытку с адресом суну, чтоб Вам не затрудняться на адрес.
Очень крепко Вас обоих обнимаю. Здесь было жарко, а теперь холодный ветер. Бегаю по лесу королем Лиром! Ах, до чего одиноко человеку.
Ваша Фаина
…После визита Сытиной я закурила. Жаль!
* * *
13.3.65 г.
Дорогая Эрасточка!
Очень была рада увидеть Ваши иероглифы, дорогая Хесо. Очень была рада тому, что Вам там хорошо. Вообще, я вижу, что мне осталось в этой жизни радоваться удаче друзей. Других радостей у меня больше нет. И не может быть. Была у меня наша Нэлли, за которую буду рада, если она поедет в Париж. Ввиду моего решительного отказа поразить парижан моей французской игрой за это мероприятие уцепилась Вера Марецкая, которая уже играет вместо меня и будет играть до отъезда. Таким образом, я абсолютно свободна и, погрузившись в мои неглубокие мысли, сижу у себя на койке и мечтаю об околеванце. По наивности (а в мои годы наивность – это глупость) я спросила моего шефа (Ю. А. Завадского), что мне предстоит играть, ибо без перспектив трудно существовать, – он мне сказал, что в первую очередь ищет пьесу для «В. П.», так и сказал: «В. П.». В театре я не бываю, – это даже лучше, потому что очень меня мутит от суматохи, сплетен, шипения, страдания неедущих, ликования едущих… Гримерша натянула мне на голову парик, как кепку, чуть ли не задом наперед. Отдельные реплики, услышанные мной от моих коллег, указывают на то, что их заботит малая сумма денег в Париже, а радость от того, что они увидят Париж и все восхитительное в нем, никто не испытывает.
Меня спрашивают часто, почему я отказалась от поездки. Я отвечаю: «Не хочется». Это никому не понятно.
Из происшествий, имевших место на предстоящем пути в Париж, упомяну самое трагическое: режиссер Шапс психически заболел по причине того, что его спектакли не везут. «В настоящее время пострадавший находится в психиатрическом отделении кремлевского филиала». Так бы звучала заметка в «Вечерке».
Милая Хесо, по Вашей просьбе я купила большую партию витамина «Геровит» – для вас обоих. Я его тоже принимаю и считаю, что если при моей дикой душевной усталости, физическом недомогании я способна строчить вторую страницу «послания к друзьям», – то это дело рук отнюдь не моих, а прославленного иностранца Геровита.
Была у меня с ночевкой Анна Ахматова. С упоением говорила о Риме, который, по ее словам, создал одновременно Бог и сатана. Она пресытилась славой, ее там очень возносили и за статью о Модильяни денег не заплатили, как обещали. Премию в миллион лир она истратила на подарки друзьям, и хоть я числюсь другом – ни хрена не получила: она считает, что мне уже ничего не надо, и, возможно, права. Скоро поедет за шапочкой с кисточкой и пальтишком средневековым, – я запамятовала, как зовется этот наряд. У нее теперь будет звание. Это единственная женщина из писательского мира будет в таком звании. Рада за нее. Попрошу у нее напрокат шапочку и приду к Вам в гости. Должны же мы наконец увидеться в этой жизни. Хесо, у меня тоска и с тоски пишу Вам ерунду.
Вас и Эрасточку крепко обнимаю.
Ваша любящая подруга Фаина
…А ведь судьба мне – мачеха!
* * *
Хесо, дорогая, как огорчило меня письмо Ваше, как душа болит, когда думаю о переезде Вашем, хлопотах, с этим связанных, но я не решаюсь Вам посоветовать отделаться от всего юмором. Не лучше ли глазу? По поводу переезда знаю, что в этих случаях надо утешаться тем, что пожар, землетрясение, чума и т. д. еще менее соблазнительны. Так я всегда говорила моему семейству на Хорошевке. У них четырежды проделывали капитальный ремонт. У Вас же это будет единственный раз. Ей-богу, этим стоит утешаться. Мне жаль, что меня не будет в это время в Москве, – я бы постаралась быть Вам хоть чем-то полезной.
…Хесо, я получила аванс, с помощью которого отослала половину долгов, оставшуюся половину проживаю. В конце июня должна получить зарплату, из которой в первую очередь отправлю Вам долг. (Если память не окончательно отшибло, – 80 рублей.) При подписании договора сумма оказалась меньше обещанной!!!
Милая моя, Вы даже не подозреваете, на какую пытку я обрекла себя!
От количества света плавятся мозги, от процесса «творческого» с помощью известного Вам «мэтра» и под стать оператора и осветителей – очень легко сойти с ума. Произнося текст, – у меня ощущение, что жую грязную вату. Плюс недоброкачественная, отечественная пленка, на которой, по словам кинодеятелей, снимать нельзя! Когда увидела кусок отснятого материала – упала со стула. Представьте гигантскую лиловую жопу, посреди которой торчит мой нос! По ночам я кричу. Многое надо заново переснимать. Во время съемок молюсь: «Помяни царя Давида и всю кротость его!» Если этот опус – еще не «лебединая моя песнь», то снимусь еще в последний раз только в черно-белом каком-нибудь говне. Но вернее всего, никогда сниматься не буду. В жизни всякого человека наступает такой день, такой час переоценок, когда содеянное прежде повторить немыслимо. И все-таки вспоминаю «Легкую жизнь» и пошлого человечка Дормана как сладостный сон! До такой степени все, что здесь происходит, – невероятно и не поддается описанию, поверьте мне! И конца этому нет. Простите, но кому еще я могу рассказать о моем отчаянии? Кому это интересно! А когда выйдет на экран это произведение?! Ведь со стыда сгоришь! У Нади такое дурновкусие, упрямство, какое бывает только у недаровитых людей. Человечески она мне абсолютно чужая, а когда-то я к ней неплохо относилась. Представьте, как мне здесь одиноко.
Ваши жалобы на истеричку-погоду понимаю, – сама являюсь жертвой климакса нашей планеты. Здесь в мае падал снег, потом была жара, потом наступили холода, затем все это происходило в течение дня.
Гостиница полна иностранцев. Столетние старушки носятся как угорелые, в ресторане галдят на всех языках. Прислушиваюсь к разговорам и понимаю, что нет большего счастья, как обладание одной-единственной извилиной в мозгу и большим количеством долларов! За номер я плачу 100 рублей в месяц, суточных не получаю, расходы огромные, и вспоминается мне рассказ о старом еврее, который сидит на ступеньках вагона мчащегося поезда и причитает: «Боже мой, Боже мой, сейчас кондуктор употребляет мою Розочку за то, что пустил нас без билетов, маленький Монечка написал в продукты, и вообще мы едем не в ту сторону».
Простите, Хесо, большое и пустое письмо. Сейчас закончила второй том дневника Гонкуров. Советую прочитать. Это великолепное, чудесное и чистое жизнеописание. Очень интересная и такая нужная книга…
…Обнимаю крепко. Привет Эрасту.
Ваша Фаина
* * *
Мне иногда кажется, что я еще не живу… За 53 года выработалась привычка жить на свете. Сердце работает вяло и все время делает попытки перестать мне служить… Но я ему приказываю: «Бейся, окаянное, и не смей останавливаться!»
* * *
«Как ни редка настоящая любовь, – настоящая дружба встречается еще реже». Ларошфуко.
«То, что писатель хочет выразить, он должен не говорить, а писать». Э. Хемингуэй.
То, что актер хочет рассказать о себе, он должен сыграть, а не писать мемуаров.
Я так считаю.
* * *
Как все влюбленные, была противная и гнусная, грозилась скорой смертью, а тот, в ком надо было вызвать тревогу, – лукаво посмеивался.
* * *
В золотом небе плавали грязные, как лужицы, тучки. Собрались гулять, вдруг пришли гости, объелись и сидели печально.
Опять литературные гости. Опять нестерпимо грустно.
* * *
В Ленинграде видела очень роскошную старушонку, наверное американку, лет 80, абсолютно пьяную, но крепко стоящую на ногах. Она прощалась со швейцарами и долго целовала их взасос. Швейцары потом отплевывались, провожая ее до машины, где сидели тоже пьяные старушки и абсолютно пьяный водитель. Я подумала, что далеко они не уедут, или наоборот…
* * *
Среди моих бумаг нет ничего, что бы напоминало денежные знаки.
Долгов – 2 с чем-то тысячи в новых деньгах. Ужас, – одна надежда на скорую смерть.
* * *
…Живу в грязном дворе, грохот от ящиков, грязь. Под моим окном перевалочный пункт, шум с утра до ночи.
Куда деваться летом? Некому помочь.
…Поняла, в чем мое несчастье: я, скорее поэт, доморощенный философ, «бытовая дура» – не лажу с бытом!
Деньги мешают и когда их нет, и когда они есть.
У всех есть «приятельницы», у меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить.
Одежду ношу старую, всегда неудачную.
Урод я.
…Алиса Коонен – я была страстной ее поклонницей, и она дружески ко мне относилась – сказала мне, что все философствуют, а она живет не философствуя и потому счастлива.
* * *
Как унизительна моя жизнь.
Какая тоска, Бог мой, это же пытка нечеловеческая жить в такой тоске. Психологическая несовместимость и психическая несовместность.
…Жизнь моя прошла около, все не задавалось. Как рыжий у ковра.
«Успех» – глупо мне, умной, ему радоваться. Я не знала успеха у себя самой… Одной рукой щупает пульс, другой играет…
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.