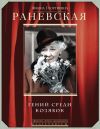Текст книги "Фаина Раневская: «Судьба – шлюха»"

Автор книги: Дмитрий Щеглов
Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Возвращаясь со спектакля в гастрольных поездках по Союзу и за рубеж, мы обычно ужинали у меня в номере гостиницы. И даже после ухода О. Н. к себе, вспоминая его рассказы, я, оставшись одна, еще долго хохотала, как филин в ночи, чем приводила в недоумение дежурного коридорного.
Осип Наумович шутил, уверяя меня, что наши ночные беседы его «скомпрометировали», и будто он даже слышал, как дежурная горничная сокрушалась, что у него старая жена!..
Отказывать он не умел, был уступчив, без тени зазнайства. Куда бы нас ни звали выступать в сборных концертах, охотно давал согласие, а потом с виноватым видом говорил: «Дорогая, еще два шефских концерта, только два» – и мы мчались куда-то очень далеко. Я сердилась, жаловалась на усталость, он утешал меня тем, что это «полезная» усталость.
Помнится, в день спектакля режиссер попросил его заменить внезапно заболевшего актера. Было это на гастролях во Львове, стояла нестерпимая жара. Мы поехали в парк; там, укрывшись в тени, он читал роль, боясь, что не успеет ее выучить к вечеру. Я подавала реплики. Волнуясь, как школьник перед экзаменом, он говорил текст роли, стараясь его запомнить. Глаза у него были детскими, испуганными, а ведь он был прославленным актером! Сыграл он экспромтом, сыграл превосходно, только утром жаловался на сердце, которое всю ночь болело. И сколько подобного было в его жизни!
С особенно нежной любовью он говорил о Ростиславе Плятте, восхищался его талантливостью. Я вообще заметила, что талант всегда тянется к таланту и только посредственность остается равнодушной, а иногда даже враждебной к таланту.
* * *
Осип Абдулов сказал, что, если бы я читала просто по радио, вещая в эфир, а не по пластинке, я бы так заикалась и так бы все перепутала, что меня бы в тот же вечер выслали в город «Мочегонск».
* * *
Больше сорока лет прошло, а я слышу – «не целуйтесь, меня тошнит». Это пьяненький Лариосик – Яншин. В те дни в него влюбилась вся театральная Москва в спектакле «Дни Турбиных». Потом мы с ним крепко подружились.
Любила его слушать. Актер был редкостно талантливый, и слушать его было интересно. Рассказывал мне, как однажды на репетиции отказался следовать указанию Станиславского, потому что не согласился с его решением куска.
Станиславский опешил. Сказал: «Репетиция окончена» – и вышел. Яншин испугался, актеры на него накинулись, хотели отколотить. Яншин убежал домой, плакал, проклинал себя. Наутро его позвали к телефону. Яншин понял – его увольняют. К телефону подошел К. С. и сказал: «Я долго думал, почему вы не захотели следовать моему указанию, в чем была моя ошибка, и понял, что вы были правы».
Говоря это, Яншин заплакал. Заплакала и я от любви к К. С.
75 год
* * *
Как-то давно смотрела фильм, название которого не помню («Закройщик из Торжка». -Д. Щ.). Но по сей день мне видятся лицо, глаза прелестной девушки с гусем в руках, она с восхищением рассматривает незнакомую ей улицу. Все ее удивляло, забавляло.
Я подумала, любуясь ею, о том, что у нас появилась редкостно талантливая, обаятельная актриса. Увидев знакомого режиссера, спросила: «Что это за прелесть с гусем?» И впервые услышала имя, ставшее дорогим всем нам. Имя недавно ушедшей от нас Веры Петровны Марецкой.
Меня связывает с ней многолетняя дружба. Я полюбила ее редкостное дарование, ее человеческую прелесть, юмор, озорство. Все в ней было гармонично, пленительно. Я никогда не скучала с ней.
Тяжело мне об этом и думать и говорить. И Вера меня любила и называла: «Глыба!» Если бы я могла в это верить!
Нет, я знала актрис лучше Раневской.
* * *
Любовь Орлова! Да, она была Любовью зрителей, она была любовью всех, кто с ней общался. Мне посчастливилось работать с ней в кино и в театре. Помню, какой радостью было для меня ее партнерство, с какой чуткостью воспринимала она своих партнеров, с каким доброжелательством! Она была нежно и крепко любима не только зрителями, но и всеми нами, актерами. С таким же теплом к ней относились и гримеры, и костюмеры, и рабочие, весь технический персонал театра. Ее уход из жизни был тяжким горем для всех знавших ее.
Любочка Орлова дарила меня своей дружбой. И по сей день я очень тоскую по дорогой моей подруге и любимом товарище, прелестной артистке.
За мою более чем полувековую жизнь в театре ни к кому из коллег я не была так дружески привязана, как к дорогой, доброй Любочке Орловой… Сказать про Любочку, что она добрая, все равно, что сказать про Толстого – «писатель не без способностей»… Но когда я думаю об отношении ко мне Любочки, меня душит горе, в горле слезы. Я понимаю, что меня никогда не любили для меня самой, – никто и никогда. Ее жалость не унижает. Жалость – это счастье материнской любви.
* * *
…Не окажись он (Г. В. Александров. – Д. Щ.) рядом с Любой, еще неизвестно, как бы сложилась ее творческая судьба. Однажды на даче у них заговорили об этом. Люба положила руку на руку мужа и сказала: «Спасибо вам, Гриша (они всегда на людях были на «вы»), за всю мою жизнь».
И вдруг Александров смутился: «Да что вы? – Он поцеловал ее руку. – Это я должен благодарить вас за всю мою и нашу жизнь». Я не выдержала и заплакала от радости, что так близко и так явственно вижу счастье двух талантов, созданных друг для друга. Очень, очень редко так бывает. Ну, с кем еще случилось такое? Разве что Таиров и Алиса Коонен, Елена Кузьмина и Михаил Ромм. Кому еще выпало подобное?
О себе могу сказать, что не была бы известной вам Раневской, если бы в начале моего пути я не обрела друга – замечательную актрису и театрального педагога Павлу Леонтьевну Вульф…
(Ардаматский В. Разговоры о Раневской// Театр. 1980. № 6)
* * *
«Мой первый друг, мой друг бесценный» Павла Леонтьевна Вульф. Мой педагог. Учила меня всему тому, что узнала от своих учителей Владимира Николаевича Давыдова и Веры Федоровны Комиссаржевской. Она была неповторимой актрисой, замечательным человеком.
* * *
Если я стала понимать, как вести себя на сцене, – я обязана этим только Павле Леонтьевне Вульф, она научила меня основам основ, этике поведения актера.
…Павла Леонтьевна – имя это для меня свято. Только ей я обязана тем, что стала актрисой. В трудную минуту я обратилась к ней за помощью, как и многие знавшие ее доброту. Павла Леонтьевна нашла меня способной и стала со мной работать. Она научила меня тому, что ей преподал ее великий учитель Давыдов и очень любившая ее Комиссаржевская.
За мою долгую жизнь в театре я не встречала актрисы подобной Павле Леонтьевне, не встречала человека подобного ей. Требовательная к себе, снисходительная к другим, она была любима своими актерами как никто, она была любима зрителями так же, как никто из актеров-современников. Я была свидетельницей ее славы. Ее успеха. Скромность ее была удивительна. Она старалась быть в тени. Не было в ней ничего от «премьерши». Мне посчастливилось не только видеть ее изумительное искусство, но даже играть с ней, это были самые радостные дни моей жизни.
П. Л. стремилась помочь даже тем, кто к ней не обращался за помощью. Она отдавала лучшие свои роли актрисам, занимаясь с ними. По моим наблюдениям, обычно стареющие актрисы действовали обратно, крепко держась за свои любимые роли. Ничего подобного не было в благородной натуре Павлы Леонтьевны…
Ф. Г. РАНЕВСКАЯ – П. Л. ВУЛЬФ. 25 ИЮНЯ 1950 г.
Мамочка, попробую тебе объяснить, почему я в таком раскисшем состоянии и подавленности. Я не выходила на сцену 8 месяцев, и вот, когда я вылезла с сырой, не сделанной, не проверенной и не готовой ролью, да к тому же еще ролью, которая чужда и противна, я растерялась, испугалась, вся тряслась, забыла, путала текст и в итоге испытала что-то вроде нервного шока, потрясения.
На премьере, ввиду всего вышесказанного, был полный провал. На втором спектакле я расшиблась и на третьем еле двигалась, потом я уже разыгрывалась, но все же продолжала играть плохо. Пойми – я не бытовая актриса, быт мне не дано играть, не умею. Я перевела роль в план реалистической буффонады, но это неверно, а м. б. роль так незначительна, что не только я, но и Савина из нее ничего бы не сделала. Была пресса на одном из спектаклей, но успеха не было. Я знаю, что им ни спектакль, ни я не понравились. Среди критиков была и Беньяш, которая ко мне зашла за кулисы и сказала, что более бесполезного спектакля в режиссерском плане, более бесталанного и тусклого и неумного она давно не видела. А мне сказала: «А вы в Москве не играйте». Я была потрясена, когда она мне звонила. Я к телефону не подошла, тогда она мне написала письмо, которое можешь прочесть. Успех же мой объяснила неизменной для меня любовью зрителя, но у публики в этой роли я успеха не имела, как обычно. Письмо Беньяш исчерпывающе. Она очень понимает. Я знаю, что ты ее терпеть не можешь, но это не умаляет ее достоинств. Я в отчаянии. Не знаю, как будет дальше. Они обрадовались, что зарабатывают на мне огромные деньги. Аншлаги делала только «Модная лавка». Я для них «лакомый кусочек».
А творческой работы в этом страшном «торговом доме» не могут мне дать…
* * *
4–7.58 г.
Дорогая моя мамуля!
У меня было впечатление от сегодняшней репетиции как от чего-то безнадежно и непоправимо кошмарного. Обычно режиссер будит фантазию, горячит кровь, наталкивает на интересные решения, подсказывает интересные задачи, а тут надо тащить на себе груз режиссерского скудоумия, скуки, уныния, сонной болезни.
10-го – скандал, собрание, оскорбления.
* * *
25–6.60 г. (на открытке с изображением Ван Клиберна)
Мамочка, золотиночка, нет под рукой бумаги, потому пишу на Ванечке. Все мои мысли, вся душа с тобой, а телом буду к 1 июля. Отпускают делать зубы, 15 июля опять съемка, пересъемка, т. е. продолжение кошмара, забот накопилось много. Белка переслал письмо брата. Скоро обниму тебя, мою родную, дорогую.
Не унывай, не приходи в отчаяние.
* * *
…Дорогой Раббик, узнала, что Вы нездоровы. Мечтаю о Вашем приезде в Москву, хочется быть с Вами… Пожалуйста, не хворайте. Хотела написать большое письмо, хотела порассказать о себе, о том, как мне теперь одиноко, как обессмыслилась моя жизнь…
…Раббинька, я уже не курю, а без папиросы не могу связать двух слов. Крепко обнимаю.
(Из письма Ф. Раневской А. Ахматовой после смерти П. Вульф)
* * *
…Теперь, в конце жизни, я поняла, каким счастьем была для меня встреча с моей незабвенной Павлой Леонтьевной. Я бы не стала актрисой без ее помощи. Она истребила во мне все, что могло помешать тому, чем я стала. Никаких ночных бдений с актерской братией, никаких сборищ с вином, анекдотами и блудом. Она научила радоваться природе – «клейким листочкам». Научила слушать и понимать лучшую музыку. В музеях мы смотрели то, что создавало для меня смысл бытия.
Она внушила страсть к Пушкину. Запретила читать просто книги, а дала познать лучшее в мировой литературе.
Она умерла у меня на руках.
Теперь мне кажется, что я осталась одна на всей планете.
* * *
Август, Болшево, 1952 г. «Пойдем посмотрим, как плавают уточки», – говорила она мне, и мы сидели и смотрели на воду, я читала ей Флобера, но она смотрела с тоской на воду и не слушала меня. Я потом поняла, что она прощалась с уточками и с деревьями, с жизнью. Как я тоскую по ней, по моей доброй умнице Павле Леонтьевне. Как мне тошно без тебя, как не нужна мне жизнь без тебя, как жаль тебя, несчастную мою сестру.
«Серое небо одноцветностью своей нежит сердце, лишенное надежд». Флобер.
Вот потому-то я и люблю осень.
Умерла Павла Леонтьевна в 63 году, сестра в 64-м.
78 год, а ничего не изменилось. Тоска, смертная тоска!..
* * *
…Не сплю ночи, целые ночи напролет не сплю. Тоскую смертно по Павле Леонтьевне. Если бы я писала что-то вроде воспоминаний, была бы горестная книжка.
В театре меня любили талантливые, бездарные ненавидели, шавки кусали и рвали на части. В жизни меня любила только П. Л.
П. Л. скончалась в муках. А я все еще живу, мучаюсь, как в аду.
* * *
Перечитываю Толстого, наслаждаюсь, как только можно наслаждаться им. И вдруг так остро, так мучительно захотелось к Павле Леонтьевне на Хорошевское шоссе, где больше ее нет, где нет и дома, в котором она жила. Дом сломан. Хотелось ей читать, ее угостить чем-либо вкусным, рассказать смешное, она любила смешное.
Толстой сказал, что смерти нет, а есть любовь и память сердца. Память сердца так мучительна, лучше бы ее не было… Лучше бы память навсегда убить.
* * *
…Сначала бессонница, потом приходит сон, когда просыпается дом и дети сбегают с лестницы, торопятся в школу.
Боюсь сна… боюсь снов…
Вот вошла в черном Ахматова, худая, – я не удивилась, не испугалась. Спрашивает меня: «Что было после моей смерти?» Я подумала, а стоит ли ей говорить о стихах Евтушенко «Памяти Ахматовой»… Решила не говорить.
66 год, декабрь
* * *
…Сегодня мне приснилось, что я звоню по телефону, разыскиваю Павлу Леонтьевну. Кто-то ответил в трубку что-то невнятное, и вдруг я явственно услышала ее голос, она сказала: «Кто-то зовет меня к телефону», и тут нас разъединили. Я увидела ее – маленькая, черная, она жаловалась, что ей холодно, просила прикрыть ей ноги пледом в могиле.
Как я всегда боялась того, что случилось: боялась пережить ее.
…Приходила Норочка Полонская, добрая душа, я хотела рассказать ей сон – и постеснялась. Потом пришла И. (И. Вульф. – Д. Щ.), которая когда-то мне сказала, что не любит, когда ей пересказывают сны.
И я вспомнила, что недавно думала и твердо знаю, что ничего так не дает понять и ощутить своего одиночества, как то, когда некому рассказать сон.
* * *
В Большом театре, когда танцевала Уланова, ко мне подошел Рихтер, я сидела в партере.
«Знаете, что я о вас думаю? Эта женщина что-то понимает», – сказал он.
* * *
Я попросила его показать мне руки. Он ответил что-то вроде: «Руки здесь ни при чем». Обожает Вагнера. Холоден к Рахманинову.
Всю ночь у Булгаковой. Была Ахматова, еще кто-то. Рихтер играл всю ночь до утра, не отходя от рояля. Я плакала. Это нельзя забыть до конца жизни.
* * *
Сейчас слушала «Карнавал» Шумана по радио. Плакала от счастья. Пожалуй, стоить жить, чтобы такое слушать. Поплетусь в театр играть мою чепуху собственного сочинения. Ничего, кроме неловкости и стыда перед публикой, не испытываю за мое творчество в «Законе чести». Хотелось сделать что-то значительное, человечное, а вышла чепуха, хотя успех некоторый есть.
48 год
* * *
Пастер: «Желание – великая вещь, ибо за желанием всегда следуют действие и труд, почти всегда сопровождаемые успехом».
Что же делать? Что делать, когда надо действовать, надо напрягать нечеловеческие усилия без желания, а напротив, играя с отвращением непреодолимым, – почти все, над чем я тружусь всю мою жизнь?
* * *
…Я часто думаю о том, что люди, ищущие и стремящиеся к славе, не понимают, что в так называемой «славе» гнездится то самое одиночество, которого не знает любая уборщица в театре. Это происходит оттого, что человека, пользующегося известностью, считают счастливым, удовлетворенным, а в действительности все наоборот. Любовь зрителя несет в себе какую-то жестокость. Я помню, как мне приходилось играть тяжелобольной, потому что зритель требовал, чтобы играла именно я. Когда в кассе говорили: «Она больна», публика отвечала: «А нам какое дело. Мы хотим ее видеть. И платили деньги, чтобы ее посмотреть». А мне писали дерзкие записки: «Это безобразие! Что это Вы вздумали болеть, когда мы так хотим Вас увидеть». Ей-богу, говорю сущую правду. И однажды после спектакля, когда меня заставили играть «по требованию публики» очень больную, я раз и навсегда возненавидела свою «славу».
* * *
…Из всего хорошего, сердечного, сказанного мне публикой, самое приятное – сегодня полученное признание. Магазин, куда я хожу за папиросами, был закрыт на обеденный перерыв. Я заглянула в стеклянную дверь. Уборщица мыла пол в пустом зале. Увидев меня, она бросилась открывать двери со словами: «Как же вас не пустить, когда, глядя на вас в кино, забываешь свое горе. Те, которые побогаче, могут увидеть что-нибудь и получше вас (!!!), а для нас, бедных, для народа – вы самая лучшая, самая дорогая…»
Я готова была расцеловать ее за эти слова.
48 год, 22 июня
* * *
Я убила в себе червя тщеславия в одно мгновение, когда подумала, что у меня не будет ни славы Чаплина, ни славы Шаляпина, раз у меня нет их гения. И тут же успокоилась. Но когда ругнут – чуть ли не плачу. А похвалят – рада, но не больше, чем вкусному пирожному, не больше.
* * *
…Впервые в жизни получила ругательное анонимное письмо, а то я думала, что я такая дуся, что меня все обожают!!!
* * *
Очень завидую людям, которые говорят о себе легко и даже с удовольствием. Мне этого не хотелось, не нравилось.
* * *
Одесса. 49 год. В Москве можно выйти на улицу одетой, как бог даст, и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальное недоумение – это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамваях, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная «скупость» – ибо в бедность никто не верит.
* * *
Одесса. Сентябрь 49 года. Завтра уезжаю в Москву с ее холодными, равнодушными знакомыми, влекомая тоскою по моей семье.
* * *
Апрель, 50 год. Ленинград. Как всегда в этом неповторимом городе – не сплю. Пасха. Играла в Манеже, который здесь существует для гастролей москвичей. Огромное, унылое, длинное здание, надо орать, пыжиться, трудиться в «поте лица». Играю ужасно, постыдно, плохо, грубо. Роль грубая, плохая и примитивная, как ситцевая баба для чайника. За что мне это? Роли не знаю и не хочу знать. Зубрила, учила, долбила, но память не воспринимает того, что чуждо сердцу. Унижение, конфуз, принимает зал плохо. Разочаровываю зрителя. После спектакля ужин у милой Тани Вечесловой: веселой, талантливой, трагической семнадцатилетней Тани, которой скоро 40 лет. Потом ездила в церковь к заутрене, к службе опоздала, гнилые старухи клянчили подаяние, поп давал всем поцеловать крест. Потом обратился к прихожанам: «Православные, крестный ход ориентировочно в 9 утра». Вокруг хулиганы с испитыми синими мордами. Вернулась в гостиницу в пятом часу. В вестибюле драка, кровь, молодая беленькая женщина била мужчину, била неистово, остервенело, сладострастно. Вокруг стояли люди и любовались великолепием зрелища. Колотилось сердце, было страшно, хотелось плакать. Почему эту молящуюся, дерущуюся сволочь, сброд, подонков никуда не высылают?? В церкви наш спутник – еврей коммунист зажигал свечку спичкой, как папиросу. Верующие сговаривались шепотком сделать нам темную.
* * *
Стук в дверь. Утро раннее, очень раннее. Вскакиваю в ночной рубахе.
– Кто там?
– Я, Твардовский. Простите…
– Что случилось, Александр Трифонович?
– Откройте.
Открываю.
– Понимаете, дорогая знаменитая соседка, я мог обратиться только к вам. Звоню домой – никто не отвечает. Понял – все на даче. Думаю, как же быть? Вспомнил, этажом ниже – вы. Пойду к ней, она интеллигентная. Только к ней одной в этом доме. Понимаете, мне надо в туалет…
Глаза виноватые, как у напроказившего ребенка.
Потом я кормила его завтраком. И он говорил: почему у друзей все вкуснее, чем дома?
Он бывал у меня. Иногда просил водку. Спрашивал, нет ли у меня водки. Я ему не давала ее.
В гостиной долго смотрел на портрет Ахматовой. Его слова: «Вот – наследница Пушкина!..»
18.08.76 год
* * *
Мы часто встречались у лифта. Александр Трифонович (нетрезвый) пытался открыть лифт, вертя ручку в обратную сторону. Подхожу и вдруг слышу в ответ на мое предложение помочь:
– Может быть, вы приняли меня за Долматовского? Так я не Долматовский.
Я рассмеялась. Твардовский гневно:
– Ничего не вижу смешного.
…А однажды пришел, сказав: «Надел новый костюм. Когда сказал, что иду к вам, жена смеялась».
А у меня было неубрано, плохо было в доме.
Прошли годы, а мне и теперь совестно.
И опять у лифта встретились, поздоровались с ним. Он сердито: «Я боялся, что вы меня примете за Долматовского».
Какая мука, какая тоска смертная, когда уходят такие, как Твардовский.
* * *
…И еще. Приехал из Италии. «Вы, конечно, начнете сейчас кудахтать: ах, Леонардо, ах, Микеланджело. Нет, дорогая соседка, я застал Италию в трауре. Скончался Папа Римский. Мне сказали, что итальянские коммунисты плакали, узнав о его смерти. Мы с товарищами решили поехать к Ватикану, но не смогли добраться, т. к. толпы народа в трауре стояли на коленях за несколько километров».
И тут он мне сказал:
– Мне перевели энциклику Папы. Ну, какие же у нас дураки, что не напечатали ее.
Сказал это сердито, умиляясь Папе, который призвал братьев и сказал им: «Братья мои, я ничего вам не оставляю, кроме моего благословения, потому что я из этого мира ухожу таким же нагим, каким я в него пришел».
* * *
В темном подъезде у лифта стоит Твардовский (трезвый).
Я:
– Александр Трифонович, почему вы такой печальный?
Опустив голову, отвечает:
– У меня мама умерла.
И столько в этом было детского, нежного, святого, что я заплакала.
Он благодарно пожал мне руку.
Любила его за аристократизм. Только семьдесят лет с рождения Твардовского. Каким же молодым он покинул нас, крепко, нежно его любящих. Он был мне родным, на редкость родным.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.