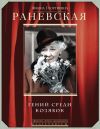Текст книги "Фаина Раневская: «Судьба – шлюха»"

Автор книги: Дмитрий Щеглов
Жанр: Афоризмы и цитаты, Публицистика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 4 (всего у книги 8 страниц)
– Тогда приходите ко мне сегодня же к вечеру, дайте мне ваши стихи, и я их переведу.
Они условились о встрече. (Это была поэтесса Рахиль Баунвиль, – ее Ахматова переводила.)
* * *
Ленинград без Ахматовой для меня поблек, не могу себя заставить съездить на ее холмик взглянуть. Зачем? У меня в ушах ее голос, смех…
…Смерть Анны Андреевны – непривычное мое горе. В гробу ее не видела, вижу перед собой ее живую. В Комарове она вышла проводить меня за ограду дачи, которую звала «моя будка». Я спешила к себе в дом отдыха, опаздывала к ужину… Она стояла у дерева, долго смотрела мне вслед. Я все оборачивалась, она помахала рукой, позвала вернуться… Я подбежала. Она просила меня не исчезать надолго, приходить чаще. Но только во вторую половину дня, так как по утрам она работает, переводит.
Когда я пришла к ней на следующий день, она лежала. Окно было занавешено… Я подумала, что она спит: «Нет, нет, входите, я слушаю музыку, в темноте лучше слышится…»
Она любила толчею вокруг, называла скопище гостей «станция Ахматовка». Когда я заставала ее на даче в одиночестве, она говорила: «Человека забыли…»[2]2
Реплика Фирса, оставленного в заколоченном доме (из «Вишневого сада», А. П. Чехов).
[Закрыть]
* * *
Когда тяжело заболела Н. Ольшевская, ее близкий друг, она сказала: «Болезнь Нины – большое мое горе». Она любила семью Ардовых и однажды в Ленинграде сказала, что собирается в Москву, домой, к своим, к Ардовым. В Москве позвонила, пообещав, если я приду, рассказать мне «турусы на колесах». Я просила ее объяснить, что означает это выражение. «А вот придете – скажу». Но я позабыла спросить про эти «турусы».
Умирая, А. Ахматова кричала: «Воздуха, воздуха…»
Доктор сказал, что, когда ей в вену ввели иглу с лекарством, она была уже мертва.
* * *
Из дневника Анны Андреевны: «Теперь, когда все позади – даже старость, и остались только дряхлость и смерть, оказывается, все как-то, почти мучительно, проясняется: люди, события, собственные поступки, целые периоды жизни.
И сколько горьких и даже страшных чувств».
Я написала бы все то же самое. Гений и смертный чувствуют одинаково в конце, перед неизбежным.
Все время думаю о ней, вспоминаю. Скучно без нее.
Она любила говорить о матери. С нежностью говорила, умилялась деликатности матери. О сестрах, рано умерших, не вспоминала. Говорила о младшем брате, о его недоброте.
Будучи в Ленинграде, я часто ездила к ней за город, в ее будку, как звала она свою хибарку. Помнится, она сидела у окна, смотрела на деревья и, увидев меня, закричала: «Дайте, дайте мне Раневскую…» Очевидно, было одиноко, тоскливо.
Стала она катастрофически полнеть, перестала выходить на воздух. Я повела ее гулять, сели на скамью, молчали. Лева был далеко…
* * *
Почему я так не люблю пушкинистов? Наверное, потому, что неистово люблю Пушкина. Он мне осмыслил мою жизнь. Что бы я делала без него?
Есть еще посмертная казнь поэта – «Воспоминания».
Читаю этих сволочных вспоминательниц об Ахматовой и бешусь. Этим стервам охота рассказать о себе. Лучше бы читали ее, а ведь не знают, не читают.
Она украсила время.
Однажды сказала мне: «Моя жизнь – это не Шекспир, это Софокл. Я родила сына для каторги»… Я примчалась в Ленинград после постановления.
…Прошло немало лет с того времени, как появилось это постановление. А. А. нет уже 12 лет.
Я ничего не прощаю.
78 год
* * *
А. А. с ужасом сказала, что была в Риме в том месте, где первых христиан выталкивали к диким зверям. Передаю неточно, – это было первое, что она мне сказала. Говорила о том, что в Европе стихи не нужны, что Париж изгажен тем, что его отмыли. Отмыли от средневековья.
* * *
По ночам в трубах стонет и плачет вода.
Она в гробу, я читаю ее стихи и вспоминаю живую, стихи непостижимые, такое чудо Анну Андреевну…
5 марта 10 лет нет ее, – к десятилетию со дня смерти не было ни строчки. Сволочи.
* * *
Меня спрашивают, почему я не пишу об Ахматовой, ведь мы дружили…
Отвечаю: не пишу, потому что очень люблю ее.
78 год
* * *
Читаю дневник Маклая, влюбилась и в Маклая, и в его дикарей.
Я кончаю жизнь банально-стародевически: обожаю котенка и цветочки до страсти.
48 год, март
* * *
…Миклухо-Маклай родился в 1846, а умер в 1888 году. Значит, он жил 42 года. И значит, 15 апреля 1948 года – 60 лет со дня его смерти. Не знаю ни одной человеческой жизни, которая так восхищала и волновала меня. В Ташкенте, в эвакуации, к Ахматовой однажды вошла степенная старушка. Ахматова мне сказала, что старушка в большой нужде. Они разговаривали об общих знакомых-ленинградцах светским тоном. По уходе старушки я узнала, что это была Миклухо-Маклай, но кто, как и кем ему приходится – я не спросила.
Наверное, от замученности жарой пропустила и это, как многое пропустила в то время.
…Вот что я хотела бы успеть перечитать: Руссо – «Исповедь», Герцен – «Былое и думы», Толстой – «Война и мир», Вольтер – «Кандид», Сервантес – «Дон-Кихот». Данте. Всего Достоевского.
Все то, что люблю помимо этого: «Тома Сойера», Лескова почти все. Бабеля (многое помню наизусть), «Тартарена» Доде, «Хромого Беса».
Хотелось бы прочитать всего Маклая.
«Будь верным, но о верности забудь!
Коль хочешь быть богатым – бедным будь». Навои.
«Вот и все» – надгробная эпитафия.
«Души же моей он не знал, потому что любил ее». Толстой.
«Трупы дней устилали мой путь, и я плачу над ними»
Узнала сейчас в газете о смерти Ольги Берггольц.
Я ее очень любила.
Анна Андреевна считала ее необыкновенно талантливой.
Так мало в мире нас осталось,
что можно шепотом произнести
забытое, людское слово «жалость»,
чтобы опять друг друга обрести.
О. Берггольц
* * *
Ахматова говорила: «Беднягушка Оля». Она ее очень любила. Все мы виноваты и в смерти Марины (Цветаевой. – Д. Щ.). Почему, когда погибает Поэт, всегда чувство мучительной боли и своей вины? Нет моей Анны Андреевны, – все мне объяснила бы, как всегда.
* * *
Грустно, нестерпимая тоска, смертное одиночество. Сейчас позвонила сестра, просила прийти на вечер ее (Ольги Берггольц. – Д. Щ.) памяти. Мне нездоровится, я отказала, а теперь это мучает.
С любовью думаю об Ольге Берггольц. Вспоминаю, как вскоре после войны приехала в Ленинград. Меня встретили на вокзале – Ольга, Ахматова, которую я предупредила телеграммой о дне и часе прихода поезда. Выйдя из вагона, я встала на колени и заплакала. Ольга сказала мне: «Так надо теперь приезжать в наш город». Ольга была еще блокадная, худющая, бледно-серая. А. А., как всегда, – величественная. Была она эвакуирована в Ташкент, все рвалась домой, в Ленинград. В Ташкенте мы не расставались. Помню, что Ташкент ей нравился. Мы с ней гуляли по рынку, любовались фруктами, не имея возможности купить. А. А. мне говорила, что считает Ольгу Берггольц поэтом прекрасным… Я тоже любила Ольгу Федоровну, узнав ее ближе, узнав ее превосходные стихи. Страшно жалела ее. Больна она была непоправимо.
80 г.
* * *
Прислали мне стихи Марии Сергеевны Петровых. Вспомнила я ее с невыразимой нежностью. Уже не помню, с кем она пришла, кто привел ее, такую на редкость милую, застенчивую, тихую. Читала мне свои дивные стихи и смущалась. Ее нежно любила Анна Андреевна, называла ее «Марусенька хорошая», любила ее стихи, считала прекрасным поэтом. У Анны Андреевны светлело лицо, когда она говорила о М. Петровых.
Ф. Г. РАНЕВСКАЯ – Е. С. БУЛГАКОВОЙ
Спасибо, дорогая моя Елена Сергеевна, за письмо. Мне понятно Ваше предотъездное трепыхание, пейте валерьянку и напевайте «три богини спорить стали…». Это проверено, очень помогает. Подумайте только спокойно: «Впереди Париж!» Умница, что поездом.
Дорогая, я получила сегодня письмо из Парижа от одной чудесной старой дамы – подруги моей сестры, – русской, замужем за французом-профессором. Белла обожала эту свою подругу. Представьте, живя 50 лет в Париже, эта Мария Васильевна не научилась говорить по-французски! Имея в мужьях француза! Прелесть!
Если у Вас будет свободная минута, не откажите попросить Вашу родственницу посмотреть в телефонной книге профессора Pier De Vambez.
Вот обрадуете, если скажете, что были дружны с Беллой.
А профессор покажет Вам всякие прелести.
Будьте благополучны.
Господь с Вами.
Обнимаю. Фаина
* * *
Елену Сергеевну Булгакову хорошо знала. Она сделала все, чтобы современники поняли и оценили этого гениального писателя. Она мне однажды рассказывала, что Булгаков ночью плакал, говоря ей: «Почему меня не печатают, ведь я талантливый, Леночка!»
Помню, услышав это, я заплакала.
* * *
…Вчера была Лиля Брик, принесла «Избранное» Маяковского и его любительскую фотографию. Она еще благоухает довоенным Парижем. На груди носит цепочку с обручальным кольцом Маяковского, на пальцах бриллианты. Говорила о своей любви к покойному… Брику. И сказала, что отказалась бы от всего, что было в ее жизни, только бы не потерять Осю.
Я спросила: «Отказались бы и от Маяковского?»
Она, не задумываясь, ответила: «Да, отказалась бы и от Маяковского. Мне надо было быть только с Осей».
Бедный, она не очень его любила…
Пришла С. С. и тоже много рассказывала о Маяковском. Он был первый в ее жизни. Рассказывала о том, какую нехорошую роль играл в ее отношениях с Маяковским Чуковский, который тоже был в нее влюблен.
Когда они обе ушли, мне хотелось плакать от жалости к Маяковскому. И даже физически заболело сердце.
Потом пришла Ирина Вульф и отвлекла от мыслей о Маяковском.
С. С. говорила, что Маяковский тосковал по дочери в Америке, которой было три года во время их последней встречи.
* * *
…Чем чаще я виделась с Норочкой Полонской, тем больше и больше жалела Маяковского.
Сплетен было так много в то время, потом читала ее воспоминания и просила ее не показываться у меня хотя бы год – она славная, только славная, как Натали, не понимающая, кто рядом.
* * *
Ночью читала Марину – гений, архигениальная, и для меня трудно и непостижимо, как всякое чудо. А вот тютчевское «и это пережить, и сердце на куски не разорвалось» разрывает сердце мне.
Есть имена, как душные цветы,
И взгляды есть, как пляшущее пламя,
Есть тонкие извилистые рты
С глубокими и влажными углами.
Есть женщины, их волосы, как шлем,
Их веер пахнет гибельно и тонко.
Им тридцать лет. Зачем тебе, зачем
Моя душа – Спартанского ребенка.
Марина Цветаева
Почему, почему мне пришли сейчас на память эти стихи молоденькой Марины?
Стала учить старую пьесу Островского и вспомнила эти строки. Откуда, зачем, почему? Ничего не понимаю и не пойму. Помню, как Марина читала, ни на кого не похожая, нездешняя. Потом вспомнила Марину старую, после Парижа, после гибели мужа. Я помогла ей чем смогла. Потом война, я ее потеряла. Потом ее гибель.
…Скверно все, ненужно.
27.2.80 г.
* * *
Недавно прочла в обывательской книжке… воспоминаний о том, что она (Марина) тоже любила деревья. Я всегда гордилась хотя бы этим сходством с ней.
Я помню ее в годы первой войны и по приезде из Парижа. Все мы виноваты в ее гибели. Кто ей помог? Никто.
Она все просила у меня пустые бутылочки от духов. Ей таскала их Гельцер. Она сцарапывала этикетки и говорила: «Теперь и эта бутылочка ушла в вечность».
А. А. часто повторяла о Бальмонте: он стоял в дверях, слушал, слушал чужие речи и говорил: «Зачем я, такой нежный, должен на это смотреть?»
Великая Марина: «Я люблю, чтобы меня хвалили доо-олго».
* * *
Весь день лежала в тоске отчаянной. Вечером пошла по просьбе молодой Пешковой к ним на заседание в связи со скорой датой – 80 лет со дня рождения Горького. Маршак, Федин, Всеволод Иванов, художники, музейщики и сама вдова, маленькая старушка. Андреева в параличе. У Пешковых в доме любят Андрееву, а «законную» терпят и явно не любят. Я люблю бывать в этом доме, люблю Горького.
Похвалила Федина за последний роман, он был рад по-детски. И засиял глазами – у него породистое, красивое лицо.
(Приписка Раневской 1976 года: «Он сволочь».)
* * *
Любовь Михайловна Эренбург – жена Эренбурга. У М. Ц. (Марина Цветаева. – Д. Щ.) сохранились с ней хорошие отношения и после расхождения М. Ц. с Эренбургом. М. Ц. писала о ней: «Л. М. – очарование, она птица, и страдающая птица. У нее большое человеческое сердце, но – взятое под запрет. Ее приучили отделываться смехом и подымать тяжести, от которых кости трещат. Она героиня, но героиня впустую…
Мне ее глубоко, нежно, восхищенно-бесплодно жаль».
* * *
Я была летом в Алма-Ате. Мы гуляли по ночам с Эйзенштейном. Горы вокруг. Спросила: «У вас нет такого ощущения, что мы на небе?»
Он сказал: «Да. Когда я был в Швейцарии, то чувствовал то же самое». – «Мы так высоко, что мне Бога хочется схватить за бороду». Он рассмеялся…
Мы были дружны. Эйзенштейна мучило окружение. Его мучили козявки. Очень тяжело быть гением среди козявок.
* * *
Дорогой Сергей Михайлович! Ничего не понимаю: получила телеграмму с просьбой приехать на пробу во второй половине мая, ответила согласием, дожидалась вызова, – вступаем во вторую половину июня, – а вызова все нет и нет!
Может быть, Вы меня отлучили от ложа, стола и пробы? Будет мне очень это горестно, т. к. я люблю Вас, Грозного и Ефросинью!
Радуюсь тому, что сценарий Ваш всех восхищает. Жду вестей.
Обнимаю Вас, Раневская. 12.6.42 г.
* * *
Дорогой Сергей Михайлович!
«Убить – убьешь, а лучше не найдешь!» Это реплика Василисы Мелентьевны Грозному в момент, когда он заносил над ней нож!..
Бессердечный мой!..
(Из писем Ф. Раневской С. Эйзенштейну)
* * *
48 г. 9 января. Встретила Корнея Чуковского. Шли по Тверскому. Меня осаждали как всегда теперь ненавистные, надоевшие школьники. Чуковский удивился моей популярности. Я сказала ему, что этим ограничивается моя слава – «улицей», а начальство не признает. Все, как полагается в таких случаях.
* * *
Чуковский рассказал, как однажды к Леониду Андрееву шла на свидание дама. Свидание было где-то на мосту, в Петербурге, и, конечно, тайное, т. к. дама была замужем. Андреев в то время входил в славу, за ним гонялись хроникеры-киношники, которые и засняли на пленку это свидание.
Рассказывал Чуковский интересно о Некрасове, читал его чудесные стихи, но не хрестоматийные, а настоящие, есть блоковские строчки, – рассказывал о любовных историях, страстях, картах, поездке за границу вслед за француженкой, которую любил, игра на бирже и прочее – прелесть этот Некрасов.
* * *
…Сегодня была у Щепкиной-Куперник, которая рассказывала о корректоре, переделавшем фразу «на камне стояли Марс и Венера» в «МАРКС и Венера».
Она же говорила, что Ермолова была так равнодушна к деталям, что, играя Юдифь в «Уриеле Акоста», не снимала нательного креста. И никто не замечал этого, хотя крест был виден. Не замечали – так играла Ермолова!
48 год, 26 ноября
* * *
А. Я. Закутняк рассказывал мне, что во время гастролей Комиссаржевской в Америке, где она играла «Дикарку», зрители время от времени дико вопили и неистово хлопали. Хохот, крики и аплодисменты неслись то с правой стороны зрительного зала, то с левой. Актеры были ошеломлены. В. Ф. (Вера Федоровна Комиссаржевская. – Д. Щ.) была в отчаянии.
Выяснилось, что зрители держали пари. Заключалось оно в том, что актриса подойдет к стогу сена по правой стороне сцены. Выигравшие ликовали. Когда же она отходила к противоположной стороне – ликование было еще неистовей. И так в течение всего спектакля. В ход шли большие пачки долларов. Вера Федоровна играла в полуобморочном состоянии. Интерес к ней американцев был вызван тем, что она графиня по мужу.
* * *
«…В искусстве путь всегда идет вверх, по раскаленной лестнице, но к небу». Андерсен.
«Невинные души сразу узнают друг друга». Андерсен.
Не помню, когда записала это. Сейчас я ползаю в луже грязной, смрадной. Играю, как любительница в клубе. Не могу я больше играть «Лисички».
47 год, декабрь
* * *
Есть люди, хорошо знающие, «что к чему». В искусстве эти люди сейчас мне представляются бандитами, подбирающими ключи. Такой «вождь с отмычкой» сейчас Охлопков. Талантливый как дьявол и циничный до беспредельности.
Кто бы знал мое одиночество! Будь он проклят, этот самый талант, сделавший меня несчастной.
Но ведь зрители действительно любят? В чем же дело? Почему так тяжело в театре?
В кино тоже Гангстеры и самый из них матёрый – неожиданно (зачеркнуто. – Д. Щ.).
Май 48 год
* * *
«Хеська (Хеся Лакшина, жена Эраста Гарина, близкая подруга Раневской. – Д. Щ.) сказала сейчас упавшим голосом, что разрешено снимать картины 16 режиссерам, она не попадает в это число, ни она, ни Гарин.
Кто же они?
Александров – 1
Ромм Мих. – 2
Пырьев – 3
Довженко – 4
Пудовкин – 5
Райзман – 6
Луков – 7
Роом Абрам – 8
Донской – 9
Юткевич – 10
Савченко – 11
Васильев – 12
Эрмлер – 13
Козинцев – 14
Трауберг – 15
неразб.»
* * *
Погиб Соломон Михайлович Михоэлс. Не знаю человека умнее, блистательнее его. Очень его любила, он был мне как-то нужен, необходим.
Однажды я сказала ему: «Есть люди, в которых живет Бог, есть люди, в которых живет дьявол, а есть люди, в которых живут только… глисты… В вас живет Бог!» Он улыбнулся и ответил: «Если во мне живет Бог, то он в меня сослан».
48 год, 14 января
* * *
Играю скверно, смотрит Комитет по Сталинским премиям. Отвратительное ощущение экзамена.
После спектакля дома терзаюсь. В два часа ночи звонок телефона: «Дорогая, простите, что так поздно звоню, но ведь Вы не спите. Вы себя мучаете. Ей-богу, Вы хорошо играли. Спите, перестаньте мучиться. Вы хорошо играли, и всем понравилось». Это была неправда. Но кто, кроме Михоэлса, мог так поступить? Никто, никто не мог пожалеть так.
Он вернулся из Америки уставший, больной. Я навестила его, он лежал в постели, рассказывал мне ужасы из «Черной книги». Страдал, говоря это. Чтобы чем-то отвлечь его от этой страшной темы одного из кругов, не рассказанных Данте, я спросила: «Что вы привезли из Америки?»
«Мышей белых жене для научной работы…»
«А себе?»
«А себе кепку, в которой уехал в Америку».
Мой дорогой, мой неповторимый.
* * *
…Соломон Михайлович, Корнейчук и я. Ужин в гостинице, в Киеве. Ужин затянулся до рассвета. Любуюсь Михоэлсом. Он шутит, смешит, вдруг он делается печальным. Я испытываю чувства влюбленной, я не отрываю глаз от его чудесного лица.
Уставшая девушка-подавальщица приносит очередное что-то вкусное. Михоэлс расплачивается и дарит подавальщице 100 рублей. В то время, перед войной, большие деньги. Я с удивлением смотрю на С. М. Он шепчет, наклонившись ко мне: «Знаете, дорогая, пусть она думает, что я сумасшедший». Я говорю: «Боже мой, как я люблю вас…»
…Гибель Михоэлса – после смерти моего брата – самое большое горе, самое страшное в моей жизни…
ИЗ ПЕРЕПИСКИ С С. М. МИХОЭЛСОМ
Дорогой, любимый Соломон Михайлович!
Очень огорчает Ваше нездоровье. Всем сердцем хочу, чтобы Вы скорее оправились от болезни, мне знакомой.
Тяжело бывает, когда приходится беспокоить такого занятого человека, как Вы, но Ваше великодушие и человечность побуждают в подобных случаях обращаться именно к Вам.
Текст обращения, данный Я. Л. Леонтьевым, отдала Вашему секретарю, но я не уверена, что это именно тот текст, который нужен, чтобы пронять бездушного и малокультурного адресата!
Хочется, чтобы такая достойная женщина, как Елена Сергеевна (Булгакова. – Д. Щ.), не испытывала лишнего унижения в виде отказа в получении того, что имеют вдовы писателей меньшего масштаба, чем Булгаков.
Может быть, Вы найдете нужным перередактировать текст обращения. Нужна подпись. Ваша, Маршака, Толстого, Москвина, Качалова.
Мечтаю о дне, когда смогу Вас увидеть, услышать, хотя и боюсь Вам докучать моей любовью.
Обнимаю Вас и милую Анастасию Павловну.
Душевно Ваша Раневская. 1944
* * *
Вчера была у меня вдова Михоэлса (Анастасия Павловна Потоцкая), мне хотелось ей что-то дать от себя, а было такое чувство, что я не только ей ничего не могу дать, а еще и обираю ее.
28 февраля 48 г.
Ф. Г. РАНЕВСКАЯ – А. П. ПОТОЦКОЙ (вдове С. М. Михоэлса)
Дорогая Анастасия Павловна!
Мне захотелось отдать Вам то, что я записала и что собиралась сказать в ВТО на вечере в связи с 75-летием Соломона Михайловича.
Волнение и глупая застенчивость помешали мне выступить. И сейчас мне очень жаль, что я не сказала, хотя и без меня было сказано о Соломоне Михайловиче много нужного и хорошего для тех, кому не выпало счастья видеть его и слушать его.
В театре, который теперь носит имя Маяковского, мне довелось играть роль в пьесе Файко «Капитан Костров», роль, которую, как я теперь вспоминаю, я играла без особого удовольствия, но, когда мне сказали, что в театре Соломон Михайлович, я похолодела от страха, я все перезабыла, я думала только о том, что Великий Мастер, актер-мыслитель, наша совесть Соломон Михайлович смотрит на меня.
Придя домой, я вспомнила с отчаянием, с тоской все сцены, где я особенно плохо играла.
В два часа ночи зазвонил телефон. Соломон Михайлович извинился за поздний звонок и сказал: «Вы ведь все равно не спите и, наверное, мучаетесь недовольством собой, а я мучаюсь из-за вас. Перестаньте терзать себя, вы совсем неплохо играли, поверьте мне, дорогая, совсем неплохо. Ложитесь спать и спите спокойно – совсем неплохо играли».
А я подумала, какое это имеет значение – провалила я роль или нет, если рядом добрый друг, человек – Михоэлс.
Я перебираю в памяти всех людей театра, с которыми сталкивала меня жизнь, нет, никто так больше и никогда так не поступал.
Его скромная жизнь с одним непрерывно гудящим лифтом за стеной.
Он сказал мне: «Знаете, я получил письмо с угрозой меня убить». Герцен говорил, что частная жизнь сочинителя есть драгоценный комментарий к его сочинениям. Когда я думаю о Соломоне Михайловиче, мне неизменно приходит на ум это точное определение, которое можно отнести к любому художнику. Его жилище – одна комната без солнца, за стеной гудит лифт и денно и нощно.
Я спросила Соломона Михайловича, не мешает ли ему гудящий лифт. Смысл его ответа был в том, что это самое меньшее зло в жизни человека.
Я навестила его, когда он вернулся из Америки. Он был нездоров, лежал в постели, рассказывал о прочитанных документах с изложением зверств фашистских чудовищ.
Он был озабочен, печален. Я спросила о Чаплине. «Чаплина в Америке затравили», – сказал Соломон Михайлович. В одном из баров ему, Соломону Михайловичу, предложили выпить коктейль под названием «Чаплин». Коктейль оказался пеной. Даже так мстили Чаплину за его антифашистские выступления.
Я спросила Соломона Михайловича, что он привез из Америки. «Жене привез подопытных мышей для научной работы». А себе? «Себе кепку, в которой уехал в Америку».
* * *
Однажды после какого-то убогого кутежа в ВТО мы возвращались на рассвете с компанией, в которой был Алексей Толстой, шли по Тверскому бульвару, и Толстой стал просить и хныкать, чтобы его пустили к Михоэлсу. «Пойдем к Соломону», – умолял он Людмилу, но она не пустила.
* * *
Они – Толстой и Михоэлс – дружили и очень друг друга любили…
…Вчера была Людмила Толстая, вспоминали Алексея Николаевича. Людмила жаловалась на полное одиночество. Я уговаривала ее купить собаку.
Однажды Толстой сказал, что у меня терпкий талант.
Я спросила – почему терпкий?
Он объяснил: «Впивается как запах скипидара…»
Последнюю встречу с ним не забуду. Он остановил меня на улице, на Малой Никитской. Я не сразу его узнала, догадалась – это Толстой. Щеки обвисли, он пожелтел, глаза были тоже не его. Он сказал: «Я вышел из машины, не могу быть в машине – там пахнет. И от меня пахнет, понюхайте…»
Я сказала, что от него пахнет духами.
А он продолжал говорить: «Пахнет, пахнет, всюду пахнет».
Машина стояла рядом, он не хотел в нее садиться. Я предложила проводить его до дому. Взяла его под руку. По дороге он просил меня запомнить и сказать всем, что с фашистами нельзя жить на одной планете, что их надо поселить к термитам, чтоб термиты ими питались или же чтобы фашисты питались термитами.
Его нельзя было вводить в состав комиссии, которая изучала все злодеяния фашистов. Нельзя было.
Вскоре после этой последней с ним встречи его не стало.
Я его очень любила. Играла в его пьесе «Чудеса в решете» роль проститутки. Играла где-то в провинции. Пьеса из времен нэпа. Талантливая, забавная была комедия. Я любила роль, играла ее с наслаждением – всегда жалела женщин этой чудовищной профессии. Играла ее доброй, наивной, чистой. Ему нравился мой рассказ о том, как я решила образ этой несчастной.
Нельзя, нельзя было заставить его смотреть на то, чего нельзя вынести, после чего нельзя жить. Это зрелище убило его, прикончило…
* * *
Ромм… До чего же он талантлив, он всех талантливей. Он очень болен, издерган, сказал, что его в инфаркт загнал Никита Сергеевич…
* * *
Помню, как, однажды захворав, я попала в больницу, где находился Михаил Ильич Ромм. Увидев его, я глубоко опечалилась, поняла, что он болен. Серьезно. Был он мрачен, помню его слова, что человек не может жить после увиденного неимоверного количества метров пленки о зверствах фашистов.
Там же, в больнице, я получала от него записки, которые отдала на сохранение в ЦГАЛИ. Там, в архиве, дорогие мне его строчки останутся в сохранности.
Очевидно, чтобы позабавить меня, в одной записке было сказано: «Я вас люблю, увидимся в палате».
Мой дорогой, я вас тоже люблю, восхищаюсь вами, художником и человеком. С той же нежностью и интересом относилась к его спутнице Елене Кузьминой. Впервые увидела ее в немом фильме.
…Утрату этих двух друзей несу как тяжелое личное горе.
…Да, вот… Он (Ромм. – Д. Щ.) мне сказал:
«Дайте мне слово, что вы не посмотрите… Вы добрая, дайте мне слово, что вы не будете смотреть мой фильм «Обыкновенный фашизм», хотя там и сотой доли нет того, что делали эти нечеловеки».
* * *
Была в гостях у Надежды Андреевны (Обуховой. – Д. Щ.). Она мне пела много, долго, а в клетках вопили птички, ей это не мешало, – потом мы ужинали, потом она рассказала, что получила письмо от ссыльного, он писал: «Сейчас вбежал урка и крикнул: «Интеллигент, бежи скорей с барака, Надька жизни даеть», это по радио передавали Обухову. Сказала, потом загрустила, потом мы пили водочку, я забыла попросить подписать фото.
* * *
Очень любила я дорогого Николая Васильевича Петрова. Вспоминаю с особой нежностью работу с ним. Мне было легко, радостно, весело. Любила его за самое дорогое в человеке и особенно в характере режиссера – доброту, доброжелательство. Любила его за чуткое отношение к актерам, людям, как известно, легкоранимым. К огорчению моему, мы с Николаем Васильевичем встретились только дважды в работе. Первая совместная работа была над инсценировкой «Игрока» Достоевского. Он мне очень помогал тем, что верил мне, верил, что бабуленька у меня получится, сердился на мою трусость, бранил меня за то, что не верила себе. Все его замечания, указания, советы помогали. Роды были легкие, роль я полюбила и, вопреки обыкновению, на репетиции с ним ходила, как на праздник.
Вторая встреча была в спектакле «Изгнание блудного беса», где мы в содружестве с Борисом Чирковым изображали мракобесов в талантливой пьесе Алексея Толстого.
Николай Васильевич стремился к тому, чтобы роль моя была более яркой, и потому предложил мне прыгать, убеждая меня в том, что моя героиня – сектантка из секты прыгунов. Все указания и предложения мне очень нравились, я охотно их принимала и прыгала к большому удовольствию режиссера и зрителей. Николай Васильевич сказал, что это смешно и страшно.
Вспоминается, как на гастролях театра, рано утром, ко мне вбежал Николай Васильевич, – мы жили в одном отеле, я удивилась, увидя его в пижаме. Он сказал, что так ко мне спешил, что не успел переодеться. Принес мне рукопись с просьбой скорее с ней ознакомиться, т. к. ему интересно было мое впечатление о первой части книги, которую он писал. Я тут же с величайшим интересом и волнением прочла не отрываясь то, что он впоследствии мне подарил с надписью:
«Дорогая Фаина Георгиевна! Вы были первым человеком, который прочел первую часть этой книги, и благословили меня на дальнейшее. Наказ Ваш, как видите, выполнил, и теперь пеняйте на себя, Вам придется прочитать до конца, а когда прочтете, напишите мне, – что это такое?
Горячо любящий Вас Николай Петров»
* * *
Известие о кончине Василия Васильевича Меркурьева было для меня тяжелым горем. Встретились мы с ним в работе только один раз в фильме «Золушка», где он играл моего кроткого, доброго мужа. Общение с ним – партнером – было огромной радостью. Такую же радость я испытала, узнав его как человека. Было в нем все то, что мне дорого в людях, – доброта, скромность, деликатность. Полюбила его сразу крепко и нежно. Огорчалась тем, что не приходилось с ним снова вместе работать. Испытываю глубокую душевную боль от того, что из жизни ушел на редкость хороший человек, на редкость хороший большой актер.
* * *
Осип Наумович Абдулов уговорил меня выступать с ним на эстраде. С этой целью мы инсценировали рассказ Чехова «Драма». Это наше совместное выступление в концертах пользовалось большим успехом.
Как ошибочно мнение о том, что нет незаменимых актеров. Когда не стало О. Н., я скоро прекратила выступать в этой роли. Успеха больше не было.
Мне посчастливилось часто видеть его в домашней обстановке. Обаяние его личности покоряло меня. Он любил шутку. Шутил непринужденно, легко, не стараясь рассмешить. За долгую мою жизнь я не помню никого, кто бы мог без малейшего усилия шуткой привести в радостное, хорошее настроение опечаленного друга.
Как актер, он обладал громадным чувством национального характера. Когда играл серба – был подлинным сербом («Министерша»), подлинным англичанином («Ученик дьявола»), подлинным французом («Школа неплательщиков»), подлинным греком («Свадьба» Чехова).
Вспоминаю его великолепное исполнение роли Лыняева в спектакле «Волки и овцы», Сорина в чеховской «Чайке». Эта работа особенно взволновала меня. Какая глубокая печаль уходящего, никому не нужного старика была показана им в этой роли! С какой мягкостью и вдохновением он ее играл!
Я часто сердилась на Осипа Наумовича за то, что он непосильно много работает, не щадит себя. Он на все мои нападки неизменно отвечал: «В этом смысл моей жизни».
Однажды после окончания ночной съемки в фильме «Свадьба», где он чудесно играл грека, нам объявили, что машины не будет и что нам придется добираться домой пешком. Осип Наумович сердился, протестовал, но, тут же успокоившись, решил отправиться домой как был: в гриме, с черными усами и бровями, в черном парике и турецкой феске. По дороге он рассказывал мне какую-то историю от лица своего грека, на языке, тут же им придуманном. Свирепо вращал глазами, отчаянно жестикулировал, невольно пугая идущих на рынок домашних хозяек. Это была не только озорная шутка, это было творчество, неуемный темперамент, щедрость истинного таланта. И это – после трудной ночной съемки.
Наша прогулка продолжалась бы дольше, если бы изумленный нашим видом милиционер категорически не потребовал, чтобы мы немедленно шли домой.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.