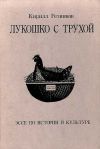Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 13 (всего у книги 45 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Начало Ливонской войны
Русская армия была многочисленна, хорошо вооружена и достаточно боеспособна. До «заградотрядов» тогда еще не додумались, но дисциплина была железная. Продал «ездовой человек» порцию конского корма «налево» – получай розги, не смазал вовремя колесо – снова ложись под лозу, ушел караульный с поста – пожалуй под плети. Любопытно, что никто в русском войске даже не собирался тратить время на то, чтобы доставлять провинившихся к экзекутору. Старшина просто брал кусок мела и ставил им по метке на лбы (или по нескольку меток, в зависимости от тяжести назначенного наказания) – и после вечернего молебна солдаты подтягивались к шалашу или избе «заплечных дел мастера» сами, своим ходом, а чаще всего – трусцой, дрожа от страха и крестясь на ходу[126]126
Порядки, царившие в русском войске той эпохи, удачно воссозданы в недавно опубликованном историческом романе В.Полуйко «Ливонская война» (М., 1998, см. в особенности с. 69–73).
[Закрыть].
Итак, час Ливонии пробил – и зашагала через границу русская пехота, потянулись посошные обозы, пошли стрелецкие полки, поволочили наряд, поскакали татарские сотни на вертких конях под чалдарами, поехали важные воеводы в бехтерцах и зерцалах, зареяли на ветру боевые знамена.
В нашу задачу не входить рассматривать здесь подробности Ливонской войны. Общий ее ход памятен читателю. Он включает исключительно удачное для русских войск начало войны, знаменовавшееся взятием Нарвы, Феллина (позднейшего Вильянди), Дорпата. Война началась зимой 1558 года – а уже осенью 1561-го, после ряда неудачных битв и беспомощных дипломатических маневров, Ливонский орден прекратил свое существование. Южные его земли были формально уступлены Великому княжеству Литовскому, северные – Швеции. Что же касалось эстонских островов, то они были приобретены Данией.
На следующем этапе, основной театр военных действий переместился на юг, где русской армии удавалось еще добиваться довольно значительных успехов. Так, в 1563 году был взят Полоцк, что сразу поставило под удар Вильну, а в перспективе – и Ригу. В 1566 году, в Москву приезжало литовское посольство, и предлагало заключить мир на условиях раздела ливонских земель, достаточно выгодных для России.
После долгих колебаний, созвав Земский собор и выслушав его мнение, царь принял решение продолжать войну. Формально, оно было здравым. Русская армия сохранила свою боеспособность, и к середине семидесятых годов даже добилась новых успехов, взяв под свой контроль почти всю территорию к северу от Двины (за исключением самой Риги и Ревеля). Среди городов, взятых царскими воеводами приступом, был, кстати, старинный ливонский город Пернов (теперешний Пярну). Само по себе важное, это событие нашло себе более чем любопытное отражение в российской геральдике.
Ливонский герб Романовых
Дело в том, что в Ливонской войне, в особенности же при взятии крепости Пернов (теперешнего Пярну) в 1575 году, весьма отличился один из русских военачальников, по имени Никита Романович Захарьин-Юрьев. Современники относились к нему с уважением, хотя знали людей и познатнее. Однако по исторической случайности – или, скорее уж, милостью Божией – внуку Никиты Романовича довелось в следующем столетии, после времен Смуты, взойти на русский престол, под именем царя Михаила Феодоровича.
Между тем, в память перновской победы и своих подвигов в Ливонской войне, Никита Захарьин-Юрьев принял своим гербом одно из изображений, которые использовались в ту пору в геральдике в качестве эмблемы Ливонии. То была фигура вставшего на задние лапы, грозно разъявшего свою пасть грифа, или грифона – сказочного существа с телом льва, но головою и крыльями орла.
Думается, что внимательный читатель уже начал понимать, к чему мы его подводим, представив себе хотя бы фигуры грифонов с мечами, охраняющих монументальный тамбур парадного подъезда дворца великого князя Владимира Александровича, построенного во второй половине XIX столетия у нас, на Дворцовой набережной (теперь в этом здании помещается Дом ученых). Кому-то припомнятся многочисленные фигуры грифонов, поставленных в профиль, и потому косо поглядывающих сверху вниз со стен Михайловского дворца. Кто-то вспомнит и о фигурах грифонов с мечами, восстановленных недавно в убранстве царской ложи в Мариинском театре.
Все это будут вполне правомерные ассоциации. Не будет ошибкой сказать, что грифоны стали уже привычной нашему глазу деталью сказочной фауны Петербурга. Между тем, они появились в нашем городе, как отдаленное следствие того, что род Романовых принял старинную ливонскую эмблему в качестве своего герба, после Ливонской войны. С течением времени, приняты были меры с тем, чтобы отличить родовую эмблему российских царей от герба старой Лифляндии, вошедшей в состав их империи на правах небольшой провинции.
Всматриваясь в пестрые изображения, заполнявшие девять больших и шесть малых щитов, помещенных вокруг черного двуглавого орла на Большом государственном гербе Российской империи в том виде, который ему был придан при последних Романовых, мы видим белого грифа с мечом, в червленом (красном) поле. Это – герб Лифляндии, включенный здесь в состав "Соединенного герба Областей прибалтийских". Рядом с ним – изображения синих эстляндских львов в золотом поле, курляндского червленого льва в серебряном поле и серебряного семигальского оленя в лазоревом поле.
На другом щите, нашему взору предстает червленый гриф в серебряном поле – можно сказать, что цвета поменялись местами. Для вящего отличия от лифляндской эмблемы, в лапы грифу, кроме меча, дан также маленький золотой тарч, увенчанный фигуркой маленького орла, а весь герб окружен черной каймой с восемью оторванными львиными головами (она получила в отечественной традиции наименование "романовской каймы"). Для того, чтобы полюбоваться этой оригинальной и выразительной эмблемой, читатель может обратиться к справочным пособиям по российской геральдике[127]127
Гребельский П., Думин С., Мирвис А., Шумков А. Катин-Ярцев М. Дворянские роды Российской империи. Т.I: Князья. СПб, 1993, с. 37–39.
[Закрыть]. Вместе с тем, можно будет поступить проще – а именно, предпринять прогулку по Екатерининскому каналу к Спасу на Крови и найти это изображение на той стене колокольни, которая обращена к Невскому проспекту.
"Германский" характер этой эмблемы усиливался тем обстоятельством, что родовой герб Романовых занимал лишь правую половину щита, отведенного на Большом и Среднем государственных гербах "Родовому Его Императорского Величества гербу". Вторую половину занимала весьма пестрая комбинация эмблем, в которой опытный глаз выделял гербы Шлезвига, Гольштейна, Ольденбурга и прочих земель, исторически входивших в состав "немецкого мира" (оговоримся, что был и норвежский лев с секирой).
Здесь нужно добавить, что гриф – или, как у нас его иногда называли, "птица-львица" – была известна также славянской письменности, равно как искусству "звериного орнамента", с давних времен. Русские книжники знали ее со времен создания русских изводов Александрий, а также Сказания о царстве царя-пресвитера Иоанна, и полагали существом не то чтобы прямо зловещим, но, в общем, скорее недобрым – в любом случае, причастным ко всяческим темным тайнам[128]128
Панченко А.М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984, с. 98–99.
[Закрыть]. Вместе с тем, в качестве эмблематического изображения ее у нас первоначально связывали преимущественно с Западной Европой. К примеру, в пору формирования при царе Михаиле Феодоровиче первых иноземных полков регулярного строя, на некоторых их знаменах было помещено изображение грифа, что возражений царя не вызвало[129]129
Соболева Н.А. Старинные гербы российских городов. М., 1985, с.32.
[Закрыть].
Сами Романовы, повидимому, не придавали особого значения источнику изображения, вошедшего в их родовой герб. Однако для немецкой метафизики Петербурга совсем небезразлично, что старинная ливонская эмблема вошла в эмблематику династии, бессменно правившей в нем со времени основания и до самой революции – что, как мы теперь знаем, отразилось и в облике некоторых зданий, с детства знакомых большинству читателей…
Что же до Ливонской войны, то наши успехи времен взятия Пернова быстро подошли к концу. В целом, силы России исподволь подтачивались тяжелым экономическим кризисом. Земли центральных и западных областей лежали в запустении. В некоторых городах в течение 1570-х годов опустело до девяноста дворов на сотню. К этому нужно добавить и политический кризис – боярские заговоры, попытки возрождения княжеских усобиц и созданная в 1565 году для их подавления страшная опричнина. Нельзя забывать и о войнах, практически непрерывно ведшихся Россией с конца сороковых годов.
Международная обстановка в Восточной Европе также существенно осложнилась в 1569 году объединением Польши с Литвой. На западной границе России встало новое мощное государство – Речь Посполитая, правящие круги которой мечтали не только об удержании ливонских земель, но о походе на Москву. В войну против России вступили шведские и датские войска, с юга поджимали – и доходили до Москвы – орды крымского хана.
Метафизика Воронича
В конце семидесятых годов, польско-литовское войско под руководством едва ли не лучшего полководца своего времени – короля Стефана Батория вторглось в пределы России, и было остановлено лишь у стен Пскова героической обороной его защитников. Вот, кстати, еще одна славная страница нашей истории, по самоотверженности защитников, тяготам осады и значению подвига осажденных для исхода всей войны, вполне сопоставимая с обороной Ленинграда.
Взгляд псковичей различил у истоков похода Стефана Батория лифляндских немцев, бежавших к курляндским немцам, и уже вместе с ними пришедших за помощью в стан литовцев. Нашествие на Русь "двунадесяти языков", не исключая и "немцев цесарских", "бруцвицких" и "любечских", было осмыслено у нас в совершенно метафизических терминах.
"Спешно и радостно", как вырвавшийся "из великих пещер" "лютый великий змий", летел литовский король к Пскову. Со стороны же был виден он со своей свитой, как "темный дым", окруженный "искрами огненными". Свиту дракона литовского составляли аспиды, змеи и скорпионы. Всех их король обещался насытить, извергнув из чрева непереваренные остатки добычи, которую он намеревался захватить во Пскове.
Мы передаем этот дивный пассаж в пересказе, цитируя лишь некоторые красочные выражения, по той причине, что древнерусский текст Повести о прихожении Стефана Батория на град Псков написан достаточно трудным – во всяком случае, требующим неоднократного обращения к словарю – языком. Несмотря на это, она была очень любима современниками, и дошла до нас более чем в сорока списках[130]130
Для нашего рассказа, мы обратились к изданию древнерусского текста, предпринятому В.И.Охотниковой, см.: Повесть о прихожении Стефана Батория на град Псков \ Воинские повести Древней Руси. Л., 1985, с. 313–314.
[Закрыть]. Повесть писалась по горячим следам событий – по всей видимости, их очевидцем. Ученые полагают, что автором был житель Пскова, некий иконописец, по имени Василий.
Цитированный фрагмент привлекает наше внимание еще в одном отношении. Он начинается с упоминания о том, что король-дракон приходит "на Вороноч город", садится на нем, слышит, что до самого Пскова осталось всего "сто поприщ", и тогда уже радуется, что вот-вот проглодит российскую твердыню: "Приближение же свое до Пскова увидевши, яко несытый ад, пропастныя свои челюсти роскидаша и оттоле града Пскова поглотити хотяше"… Примерно так же немецким фашистам после занятия Пулковских высот казалось, что падение самого Ленинграда – дело ближайшего будущего, осталось только пошире "раскидать челюсти" и "поглотити град".
Где же был расположен этот пригород Пскова, немалый, повидимому, центр, стоявший на страже подступов к нему? Думается, что внимательный читатель уже нашел ответ на этот вопрос. Конечно же, речь идет о городище Воронич, занимающем по сей день вершину холма на окраине имения Тригорское, в святых наших пушкинских местах.
Воронич в свое время процветал. Ко времени литовского нашествия в нем числилось не менее четырехсот дворов, несколько монастырей, стоял хорошо укрепленный детинец с деревянными башнями по углам. Все укрепления были срыты по приказу Стефана Батория, большинство жителей вырезали. После Ливонской войны Вороничу уже не суждено было оправиться вполне. Ну, а еще через двести лет земли над Соротью были розданы разным заслуженным людям дворянского звания.
"В частности, прадеду поэта А.П.Ганнибалу царица Елизавета пожаловала в 1742 году Михайловскую губу. Егорьевская губа, как уже упоминалось, согласно указу Екатерины II в 1762 году перешла во владение деда П.А.Осиповой – М.Д.Вындомского. Бывая в Михайловском, Пушкин с живым интересом знакомился с историческими памятниками прошлого, с событиями тех времен, о которых они напоминали. Он был в Велье, Опочке и, конечно, особенно часто бывал на городище Воронич, на Савкиной горке и с Святогорском монастыре. Как тесно связана история создания "Бориса Годунова" с этими местами, выразительно говорит фраза из первоначального названия трагедии:
"…Писано бысть Алексашкою Пушкиным.
В лето 7333
На городище Ворониче".
С верхней точки крепостного вала, высота которого равна двадцати шести метрам, видны просторы полей, лугов, живописных окрестностей Воронича. Все на городище связано с памятью о Пушкине"[131]131
Гейченко С.С. Пушкиногорье. М., 1981, с.154.
[Закрыть].
Да, замечательный наш пушкиновед, "гений музейного дела", по выражению Д.С.Лихачева – и уж, во всяком случае, добрый гений Михайловского, Семен Степанович Гейченко был вполне прав. Перед глазами автора этих строк так и стоит его высоченная, нескладная фигура, руки, размахивавшие по сторонам во время восхождения на холм Воронич, глаза, жадно вбиравшие каждую деталь неповторимого пейзажа, открывавшегося со склонов холма – и характерный, немного скрипучий голос с милыми, теперь уже редко слышными старыми петербургскими интонациями, ведший уже вечером, за самоваром, неспешный рассказ о какой-нибудь новой находке, просто необходимой для срочного включения в экспозицию.
Гейченко у нас уважали – но, как мне кажется, все-таки недостаточно понимали. Конечной его задачей, нигде в его книгах по условиям того времени четко не высказанной, однако прослеживающейся во всей логике его музейных трудов, было создание в пушкинских местах чего-то вроде "светского монастыря", цели массового паломничества во времена оскудения веры и приближения эпохи новых "великих потрясений".
Поспешим оговориться, что Семен Степанович был человек верующий. Он чтил церковь – и мало что доставляло ему такую поистине детскую радость, как колокольный звон. Но окружение имени Пушкина ореолом своеобразной святости, по мысли Гейченко, если мы правильно его понимаем, религии ничуть не вредило, и даже ей помогало. Привезти "паломников" в Михайловское, раздать им лейки, заставить полить "пушкинские цветы", стихи почитать им, сделать едва ли не силой прививку "чувств добрых" – дело само по себе благое. Однажды зароненное в душу, это зерно непременно взойдет, сделав одного человеком порядочным, обогатив талант другого, и поведя третьего с течением времени к вершинам духовной жизни.
Решимся предположить, что если бы Бог не дал Семену Степановичу высокого поста хранителя пушкинских мест, оставив его, к примеру, сотрудником петергофских дворцов и парков – то и там, на примере прежде всего Петра Великого, создавал бы он тот же объект "светского паломничества", занимался бы с той же убежденной страстностью своим главным делом – не пушкиноведением, но лепкой душ человеческих, формированием трансперсональных основ личности – одним словом, той работой, или, скорее, искусством, которое у древних греков носило древнее имя психагогии.
Мы посвятили известное место описанию деятельности нашего замечательного музейного деятеля не только затем, чтобы принести дань памяти его светлому образу и по возможности подвигнуть читателя на поездку в пушкинские места, если он там давно не был. Разработка метафизики Петербурга на практике должна, в частности, привести к созданию мемориальных комплексов именно того типа, над которыми, по нашему мнению, С.С.Гейченко работал в свое время в Михайловском, Тригорском и их окрестностях – а также и к выработке того склада личности, о котором он мечтал и замечательным представителем коего был сам.
Что же касается городища Воронич, то обретение поблизости от него чудотворной иконы, а также и приуроченное к нему предание о "черном преображении" иноземного короля сообщают этому месту ореол сакральности. Его подкрепляет предание и о другом чуде, произошедшем во время похода на Псков литовского князя Витовта, за полтора столетия до прихода Стефана Батория. Неожиданно налетевший, страшный ураган сорвал шатер, в котором расположился князь, и унес его. Уже было подготовившийся лишиться жизни, "стогный и трясыйся, мняся уже землю пожрен быти и во ад внити", Витовт снял осаду с Воронича и ушел восвояси. Ну, а исторические прозрения, открывшиеся А.С.Пушкину на Ворониче, дают нам прочное основание включить это место в «металандшафт Петербурга» – или, скорее, его дальних окрестностей.
К сказанному нужно добавить, что значительно ближе к селу Михайловскому было расположено городище Савкино, которое в старину входило в состав Воронича. Савкино – или Савкина горка, как его стали позднее называть – обладало для Пушкина совершенно особой притягательной силой. Он любил приходить на Савкину горку, потом стал мечтать даже о ее приобретении и обустройстве там небольшого помещения для работы.
Плану поэта не суждено было сбыться. Зато после войны сотрудники заповедника засыпали траншеи и пулеметные гнезда, которыми немецкие вояки изрыли всю горку, вернули на нее древний каменный крест, восстановили старинную деревянную часовню – бедную, маленькую, но построенную в таких славных пропорциях, что паломнику остается только ахать и тихо млеть, рассматривая ее. Более подробно об этом удивительном, совершенно особом "месте силы" можно прочесть в другой написанной им книге[132]132
Гейченко С.С. У Лукоморья. Л., 1981, с. 291–300 (главы «На Савкиной горке» и «Савкин камень»). При чтении книги, не забудьте обратить внимание на иллюстрации замечательного ленинградского графика, Василия Михайловича Звонцова. Его острый глаз, верное художественное чутье, а кстати, и задушевная дружба с Гейченко, много способствовали нахождению простых, строгих, но исключительно удачных решений при реконструкции построек и ландшафтов пушкинского заповедника.
[Закрыть].
Конец Ливонской войны
Последний этап Ливонской войны завершился для Русского государства внутренним разорением и военными катастрофами. Договор 1582 года с Речью Посполитой зафиксировал окончательный отказ царской дипломатии от ливонских земель. Согласно трактату 1583 года, эстляндские земли перешли к Швеции. Если принять во внимание то, что шведские дипломаты попутно добились присоединения к своей территории еще и земель Ингерманландии, примерно по линии Корела – Орешек – Ивангород – так, что Россия вообще утратила выход к Балтийскому морю – то мы легко сможем себе представить, какое настроение царило в Москве при завершении военных действий.
Иван Грозный умер на следующий год (1584), оставив наследнику и боярам совершенно разоренное государство, неотвратимо входившее в испытания Смутного времени. Как видим, надежда на легкое возвращение "отчины своей" – "земли Лифлянская Неметцкого чину" (цитируем выражение из Второго послания к Курбскому) – привела само государство Российское на край гибели.
Размышляя о причинах "ливонской катастрофы", историки говорят о впервые налаженной коалиции христианских и мусульманских держав, поставивших себе целью вытеснить русских с Балтийского моря, напоминают и об экономических трудностях, в первую очередь – разорении дворянских хозяйств. Однако существенное значение нужно придавать и твердо выраженной воле немецкого населения Ливонии пойти на все, включая распад своего государства и переход в подданство соседних монархов – лишь бы не допустить присоединения к России.
Речь в данном случае идет не о проявлении некого "цивилизационного разлома", вроде постулируемого С.Хантингтоном, но о простом страхе перед репрессиями русских царей. Рассказывая об уничтожении новгородских вольностей, мы не зря упоминали периодически о той озабоченности, с которой на это смотрели с другого берега реки Наровы. Походы Иоанна III произвели сами по себе достаточно тяжелое впечатление. За ними последовала уже совершенно возмутительная история с закрытием новгородского представительства Ганзы, сопровождавшаяся бессовестным разграблением имущества немецких купцов. К началу Ливонской войны эти события вовсе не были забыты. Но то было только начало.
Выселение дерптских бюргеров
Заняв часть Ливонии в результате успешных военных действий на первом этапе войны, царские воеводы, естественно, постарались успокоить местных жителей и обещали им не менять привычных законов и уложений. Однако, всего через несколько лет, бюргерам такого крупного центра Ливонии, каким являлся Дерпт, было заявлено, что они-де «ссылалися с маистром ливонским, а велели ему притти под город со многими людми и хотели государю … изменити, а маистру служити»[133]133
Данная цитата, а также фрагмент из псковской летописи с осуждением этого выселения, приводимый в следующем разделе, цит. по кн.: Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990, с.197.
[Закрыть].
Это заявление не выдерживало никакой критики. Во-первых, "маистр ливонский" укрылся в Курляндии, за Двиной, и сидел там, "как мышь под метлой". Во-вторых, дерптские бюргеры не были сумасшедшими, и совсем не желали на том этапе перешибать русский обух своей плетью. В-третьих, немцы были людьми в принципе законопослушными, и вообще имели обыкновение полагаться на обязательства любых законных властей, если они были оформлены в должном порядке.
Несмотря на это, целый ряд семей "лучших людей" Дерпта, в первую очередь видных купцов, были в срочном порядке высланы из ливонского города. Ничего страшного (по русским понятиям) с ними, правда, не произошло. Купцов расселили во Владимире, Костроме, Угличе и других городах, помогли обзавестись хозяйством на новом месте. Протестантскому проповеднику было разрешено ездить по местам нового расселения немцев и проводить их духовное окормление.
И все же немцы, не непонятном основании брошенные в абсолютно чуждую им среду, были более чем недовольны. Главное же состояло в том, что их не защищал никакой закон, так что и достояние смирных немецких бюргеров, да и сама их жизнь зависели единственно от прихоти царя – и от навета, который мог поступить в любой момент. Надо сказать, что русские люди прекрасно понимали эту особенность своей государственной организации и даже гордились ею, выстрадав необходимость неограниченного самодержавия за время монгольского ига.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?