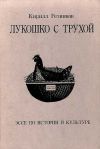Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 12 (всего у книги 45 страниц)
Николай Булев
Упомянув это имя, мы должны коротко рассказать о его носителе. Николаус Бюлов, прозванный у нас для простоты «Николаем Булевым»[118]118
По мере дальнейшего упрощения, эта фамилия могла выговариваться и писаться русскими как «Люев» и даже «Луев». Иронического оттенка в последнем прозвании, повидимому, не было. Были же «Луевы горы», через которые Гришка Отрепьев бежал в свое время в Литву. Они, кстати, упомянуты в знаменитой сцене «Корчма на Литовской границе», у Пушкина в «Борисе Годунове» (а в текст этой драмы перешли, скорее всего, из карамзинской Истории).
[Закрыть], был человеком большой учености. Уроженец ганзейского Любека, он получил обширное образование в Ростокском университете, и приобрел с течением времени авторитет европейского масштаба. Достаточно сказать, что, закончив работать на епископа Геннадия, Бюлов уехал прямо к папе римскому Юлию II – и был немедленно принят на его службу.
По своей основной специальности, Булев был медиком, что и позволило ему четырьмя годами позднее, вернувшись в Россию, занять пост придворного врача Великого князя Московского Василия III. Что же касалось душевной склонности, то "Николай Немчин", как его тоже могли называть, был знатоком астрологии и не только ее поклонником, но и горячим пропагандистом. Последнее для нас наиболее интересно, поскольку, только ступив на русскую землю, Немчин принялся рассказывать о предмете своей страсти встречным и поперечным на довольно быстро им освоенном русском языке, совершенно не опасаясь доноса и не заботясь о последствиях.
Надо сказать, что немецкий врач рисковал отнюдь не так сильно, как это может показаться на первый взгляд. Дело в том, что во врачебной науке того времени астрологические выкладки были не только общепринятыми, но и практически обязательными. К примеру, они применялись для определения оптимального времени проведения медицинских процедур, или при подборе диеты. Поэтому Булев всегда мог сослаться на авторитет медицинских светил Европы – и свой профессиональный долг.
С другой стороны, астрология в ее полном виде безусловно занимала почетное место в комплексе "тайных наук", сложившемся к тому времени в западноевропейской культуре. Углубленное ее изучение заставляло прилежного адепта обращаться за справками сначала к герметическому кодексу, затем – к алхимическим трактатам, и, наконец, приводило его к оперативной магии, а то и демонологии. Примеров такой эволюции несть числа – и у нас есть все основания думать, что Булев также прошел этот путь.
Булев и теория «Москва – третий Рим»
В Европе того времени пользовался большой популярностью астрологический альманах, выпущенный в свет И.Штефлером и Я.Пфлауме в первые годы XVI века, и несколько раз оперативно переизданного. Изучая расположение небесных светил на будущее, немецкие астрологи установили, что в 1524 году их констелляция станет особенно опасной, что повлечет за собой некое – как мы сказали бы сейчас, глобальное – «преобразование». Что надо было под этим понимать – дело темное, но европейская общественность предпочла увидеть свидетельство о грядущем всемирном потопе и светопреставлении. К двадцатым годам, панические слухи достигли пределов России, а списки русского перевода избранных глав «Нового Альманаха» получили у нас известность.
Тут-то к распространению слухов и подключился наш "странствующий архиятер". По мнению Булева, выкладки германских авторитетов были безупречны, а сам потоп – скорее всего, неотвратим. Впрочем, в предвидении его надлежало не унывать, но рассчитывать на милость Божию. Наиболее же верным путем для снискания таковой было, по рекомендации лукавого Немчина, вступление православной церкви в унию с католической и участие в подготавливавшемся тогда крестовом походе против Османской империи. Не подвергая сомнению чистоты астрологических убеждений Булева, современные ученые полагают, что его церковно-политические прожекты были оплачены папскими деньгами, и это скорее всего близко к истине.
В поисках сторонников, Немчин пошел на беспрецедентный шаг. Он изложил эти мысли в ряде посланий и направил их нескольким крупным политическим и церковным деятелям Московской Руси. Справившись о мнении, сложившемся при дворе, и узнав, что немца никто не собирался сажать на кол, адресаты его эпистол поняли, что придется отвечать. А ведь к таким дискуссиям у нас люди были в ту пору решительно непривычны. Достаточно вспомнить, что через полтора столетия после Булева, за предсказания похожего типа (включая призыв к разрушению Османской империи) московские власти без долгих церемоний отправили на костер другого немецкого мистического проповедника, по имени Квиринус Кульман.
Ответы, полученные Булевым, были все в своем роде замечательны. Жаль, что тема нашего рассказа не позволяет рассмотреть их в должных подробностях. Нас заинтересует история лишь одного из булевских посланий, направленного на имя псковского великокняжеского дьяка Мисюря Мунехина. После некоторого размышления, дьяк передал письмо старцу Елеазарова монастыря, по имени Филофей. Полагаем, что, прочитав это имя, читатель уже понял, к чему мы клоним. Впрочем, расскажем все по порядку.
Изыски астрологической мысли не привлекли внимания псковского монаха. Пробежав их накоротке, старец ограничил свое неприятие презрительной ремаркой "Сия вся кощуны суть и басни". Что же касалось историософских выкладок, то здесь рассуждение Филофея, оформленное в виде ответа Мисюрю Мунехину, было более пространным. "По его мысли, ни о каком новом "пременении", преобразовании и "преиначении" не может быть речи, поскольку уже произошло изменение всемирного характера (в рамках христианского мира): оно состоит в переходе к России со столицей – Москвой, единственной православной державе, сохранившей политическую независимость, функции неразрушимого "Ромейского царства", истинного христианского царства, "третьего Рима". Но это – особая тема"[119]119
Синицына Н.В. Гипербореец из Эллады, или Одиссея Максима Грека \ Прометей. Историко-биографический альманах серии «Жизнь замечательных людей». Том 16: Тысячелетие русской книжности. М., 1990, с. 230–231.
[Закрыть].
Действительно, генезис теории Москвы как «третьего Рима», и ее последующее многовековое развитие на отечественной почве – предмет совершенно особого разговора. Тем не менее представляется весьма показательным, что у ее колыбели стоял не только восхваляемый одними и хулимый по сей день другими псковский старец с его сторонниками и противниками, но и полузабытый немецкий астролог.
Вот в этом-то и нужно видеть наиболее значительный вклад, который Николаю Булеву довелось сделать в сокровищницу российской культуры. Что же касалось предсказания о потопе, поднявшего волну массового страха, то с ним произошло то же самое, что всегда происходит с торопливыми прогнозами. Пришел 1524 год, за ним наступил – 1525, и ничего особенно страшного не произошло. Народ успокоился до следующего предсказания, ну, а причастные к нему астрологи на некоторое время потеряли кредит доверия.
Доброе имя Николая Булева после указанного года также изрядно пострадало. Что именно произошло, сказать трудно, но современники злорадно писали, что "миру убо преставление предвозвещати спешил еси, о Николае, повинувся звездам, внезапное же житиа твоего раззорение предрещи не возмогл еси"[120]120
Цит. по: Буланин Д.М. Булев (Бюлов) Николай \ Словарь книжников и книжности Древней Руси. Вып.2 (вторая половина XIV–XVI в.). Ч.1. Л., 1988, с.103.
[Закрыть]. Впрочем, речь шла не более чем об опале. Позднейшие историки заверяют нас, что Булев, по всей вероятности, умер в своей постели. Имущество же немецкого «прелестника и звездочетца», накопленное, кстати, за долгие годы честных врачебных трудов, было, также по российской традиции, без колебаний и объяснений с наследниками отписано в казну.
В заключение нашего разговора о предсказании Штефлера и Пфлауме нужно подчеркнуть, что звезды указали немецким астрологам только на предстоявшее "всеобщее преобразование". Все остальное было не более чем попыткой интерпретации. Между тем, в двадцатые годы XVI века в мире – причем очень недалеко от тех мест, где жили и работали оба звездочета – действительно произошло событие колоссального значения, последствия которого мир ощущает до наших дней.
В 1517 году, Мартин Лютер выступил со своими знаменитыми "виттенбергскими тезисами". В 1526, великим религиозным реформатором был завершен и издан в свет текст новой "Немецкой мессы и последования богослужения". В том же 1526 году, часть германских князей провела в своих владениях реформу церкви по лютеранскому образцу и получила на то согласие имперских властей. К 1530 году, завершена разработка базового текста новой конфессии – знаменитого "Аугсбургского вероисповедания". Ну, а вслед за этим тронулась подлинная лавина, перекроившая политическую и духовную карту Европы. Формально, она принесла в мир евангелическо-лютеранское вероисповедание, фактически – "протестантскую этику", составившую вместе с наукой и технологией фундамент великой индустриальной цивилизации, которая знаменовала самое настоящее "всеобщее преобразование", – в масштабах, сравнимых разве что с "неолитической революцией"[121]121
Отметим, что в современной западной историографии концепция М.Вебера, разработанная на материале протестантского (и уже – кальвинистского) менталитета, продолжает, при всех коррективах, рассматриваться как содержательная (в частности, при выделении констант менталитета российского), более того – с некоторыми оговорками распространяется на традицию «западного христианства» в целом (подробнее см.: Yaney G. The systematization of Russian government. Social evolution in the domestic administration of imperial Russia, 1711–1905. Urbana – Chicago – London, 1973, p.395).
[Закрыть].
В свою очередь, основание Петербурга стало ответом "русского мира" на вызов этой цивилизации, начавшей формироваться в Европе шестнадцатого столетия[122]122
Мы говорим здесь о ней в широком смысле, включая и фазу так называемой прединдустриальной (раннекапиталистической) цивилизации (подробнее см.: Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997, с. 158–165).
[Закрыть]. Что же касалось теории о Москве как о «третьем Риме», то она – правда, в изрядно переосмысленном виде – также нашла свое место в метафизике новой столицы. Одним словом, «De te fabula narratur»[123]123
«Речь идет о тебе» (лат.).
[Закрыть], – могли бы сказать петербуржцу немецкие астрологи XVI века, и, в общем, были бы правы.
«Петербургское летосчисление»
Впрочем, рассказ о деятельности Николая Бюлова сначала в Новгороде, а потом на Москве, отвлек нас от основного русла повествования. Соединенными усилиями, все затруднения были преодолены, пасхалии – рассчитаны, и «Миротворный круг» продолжил свои плавные обороты. Сама собой спала и волна апокалиптической паники, спровоцированная концом седьмого тысячелетия от сотворения мира. Все были уверены, что у русских людей впереди еще много времени, чтобы духовно подготовиться к концу наступившего тысячелетия.
Вот почему Петр I совершил с точки зрения своих традиционно мыслящих подданных величайшую "календарную бестактность", прервав плавное движение привычного им летосчисления на 7208 годе, и буквально втолкнув их в тысяча семисотый год по счету от Рождества Христова – в общем знакомому им, однако ассоциировавшемуся скорее с западноевропейским календарем.
Формально новое летосчисление было введено в Москве: Петербурга пока просто не существовало нигде, кроме, быть может, подсознания Петра. В "первопрестольной столице" был обнародован царский указ о переходе на новое летосчисление. Там была произнесена и похвальная – скорее же, всепокорнейшая – проповедь Стефана Яворского, там были проведены и торжественный смотр войскам на Ивановской площади, и пышный бал с дамами, одетыми уже в немецкие платья. Там чернь украсила стогны ельником и пила из бочонков, выставленных прямо на улице, у наскоро сколоченных триумфальных ворот с эмблемою нового века.
Все это так. Но, несмотря на это, воплощением нового "столетнего века" стала, конечно же, новая, "петербургская империя". Московский пролог лишь высветлил, откуда шли некотрые из ее корней. Не будет ошибкой сказать, что если «московский период» отечественной истории был открыт поновлением летосчисления, предпринятым во времена архиепископа Геннадия, то прологом «петербургского периода» послужила календарная реформа 1700 года.
Ну, а на долю нашего поколения выпало пережить новую волну апокалиптических ожиданий, связанную с окончанием тысячелетия, в которое Россию ввел Петр – и двинуться к трехсотлетию его Города, осеняющему первые годы нового "милленниума". Как видим, вполне нейтральные на первый взгляд реформы календаря приобретают у нас привкус историософии, оказывая заметное воздействие на "психологию масс".
«Прение живота со смертью»
Диалоги, неизменно озаглавленные как-нибудь вроде «Прение живота со смертью» и посвященные свободному обсуждению конечных ценностей человеческого существования, постепенно стали привычными для средневекового русского читателя, утратили элемент новизны. Между тем, при первом знакомстве с их темой, она поразила воображение ведущих интеллектуалов эпохи. В отличие от многих других тем и сюжетов, мы можем точно сказать, когда и при каких обстоятельствах произошло это знакомство.
В 1494 году, издатель по имени Бартоломей (точнее, Бартоломеус) Готан приехал в Новгород, привезя с собой экземпляр стихотворного диалога человека со смертью, изданного им незадолго до этого (не позже 1492 года) на нижненемецком языке, в славном ганзейском городе Любеке. Будучи вхож в окружение новгородского архиепископа Геннадия, известный немецкий интеллектуал не вытерпел и поделился с русскими приятелями западноевропейской новинкой.
Диалог действительно представлял тему, занимавшую в то время внимание как духовных лидеров, так и широкой общественности католического мира. "Ни одна эпоха не навязывает человеку мысль о смерти с такой настойчивостью, как XV столетие", – подчеркнул один из ведущих западных культурологов XX века, Йохан Хейзинга[124]124
Хейзинга Й. Осень средневековья. Исследование форм жизненного уклада и форм мышления в XIV и XV веках во Франции и Нидерландах Пер. с нидерл. М., 1988, с.149.
[Закрыть].
Поражены были и русские книжники. Не медля ни дня, и не отпуская Готана далеко, чтобы иметь возможность обращаться к нему за помощью в понимании трудных мест, они быстро перевели диалог на русский язык и пустили его по рукам знакомых любителей чтения. Ну, а дальше заработал механизм тогдашнего "самиздата". Диалог стал переписываться, дополняться и расходиться по русским землям во все нараставшем количестве вариантов. Это показывает, кстати, насколько тогдашние новгородцы еще были близки по своему религиозно-психологическому мировосприятию жителям Западной Европы.
Поспешим оговориться, что в содержании известных нам вариантов диалога, включая и ранние, нельзя указать ничего прямо противоречившего учению православной церкви. Вместе с тем, при внимательном чтении читателя настораживает своеобразный характер решения темы, который в самом предварительном порядке можно определить как гностический. Следует также заметить, что привкус такого подхода нарастает при продвижении к концу диалога.
Сюжет его очень прост. Некий человек, удалой воин, разъезжает "по полю чисту и по раздолию широкому", встречает смерть, вступает в ней диалог, говорит с ней сначала горделиво, затем все более униженно, просит отсрочить свою гибель – и, наконец, испускает рыдание. Госпожа Смерть, объяснив, что она еще никому не давала отсрочки (как и не посылала предварительного уведомления), подступает к несчастному и принимается за разные хитрые манипуляции. Подробно описано, как она подсекает ноги человека косой, как дробит части тела "маленьким топором" (страшнее всего именно то, что он "ма-аленький"), как вырывает "все двадцать ногтей".
Затем она отсекает голову удальца, наливает в чашу какой-то напиток ("а чего – не знаю и не ведаю", – сомнабулически добавляет автор), и дает ему пить против его воли и желания ("он" и "я" по ходу повествования сменяют друг друга, искусно вовлекая читателя в переживания героя). Наконец, душа вылетает из тела, как птичка из сети, и попадает в руки прекрасных юношей… Надо ли говорить, как действовали на воображение отечественного читателя все эти подробности, решительно неизвестные каноническому тексту Священного Писания, но изобильно представленные в его апокрифических вариантах.
В свете того, что мы знаем о широте умственного кругозора средневековых россиян, быстрота и точность перевода диалога о человеке и смерти с немецкого не вызывает удивления. Скорее уж нужно удивляться тому, как этот небольшой текст, отнюдь не утративший своего мрачного обаяния, так мало читается у нас. Мы положительно рекомендуем читателю освежить в памяти его образы – или ознакомиться с ним впервые. Для этого достаточно будет обратиться хотя бы к такому общеизвестному изданию, как "Памятники литературы Древней Руси", том "Середина XVI века".
Психологический облик владыки Геннадия
Размышляя о деятельности архиепископа Геннадия и членов его ученого кружка, не знаешь, чему удивляться больше – масштабности замыслов или последовательности в их воплощении в жизнь, знанию иностранных языков или ориентации на самое широкое общение с европейцами. Заметна и тяга к освоению совсем не ортодоксальных пластов европейской духовной культуры. Одним словом, перо так и хочет вывести что-либо вроде того, как внутренняя свобода, присущая психологии образованных новгородцев, пережила историческое крушение великого северного города и нашла себе продолжение в деятельности подвижников просвещения вроде епископа Геннадия и его сотрудников.
Сделав такой вывод, мы разошлись бы с исторической правдой, и самым печальным образом. Архиепископ Геннадий был властным, жестоким человеком, который прибыл в Новгород не врачевать души, но выжигать ереси каленым железом. Услышав об учрежденной в Испании святой инквизиции, владыка душевно возрадовался, возблагодарил Господа, что есть еще на земле мудрые пастыри, повелел не медля записать "Речи посла цесарева" и отослать их в Москву. Эта, говоря современным языком, аналитическая записка дошла до наших дней и сберегла теплые слова, сказанные новгородским епископом по адресу его испанских коллег.
Подвластных ему новгородцев епископ Геннадий недолюбливал и, по всей видимости, даже побаивался. Дело было в том, что последнего архипастыря независимого Новгорода московские власти принудили сложить с себя сан. Первый присланный из Москвы архиепископ, по имени Сергий, повел себя очень заносчиво и вызвал у новгородцев немалое озлобление. По прошествии известного времени, он стал вести себя странно, шарахался от новгородских святых, являвшихся ему в облике, невидимом для других. Святые порицали его за принятие сана архиепископа при живом предшественнике, грозили всякими бедами. Сергий стал заговариваться, потом вообще лишился дара речи. Современники говорили, что новгородцы "ум отняша у него волшебством"[125]125
Скрынников Р.Г. Святители и власти. Л., 1990, с.107.
[Закрыть].
Пришлось московским властям отрешить новгородского владыку в связи с развившейся психической болезнью – или, как было деликатно объявлено, "за немощью" – и отправить его восвояси, в Троицкий монастырь. Там он, кстати, оправился и прожил еще два десятка лет без всяких галлюцинаций. Надо ли говорить, что это убедило самых больших скептиков в том, что Сергий стал жертвой магических чар новгородцев.
Вторым архиепископом завоеванного Новгорода и суждено было стать Геннадию. Впрочем, "суждено" – это еще слабо сказано. По всей вероятности, Геннадий купил себе кафедру за деньги, и этот позорный факт стал известен современникам. Теперь читатель сможет яснее представить себе, с какими чувствами новопоставленный владыка въезжал в Новгород – а местные жители его приветствовали. Вскоре он начал их мучить не меньше, чем представители светских властей, присланные из Москвы – а иногда даже больше (известно письмо владыки Геннадия на Москву, где он оправдывался в том, что слишком люто пытал подозреваемых в ереси).
Одним словом, по своему психологическому типу владыка Геннадий был близок не пастырям или книжникам старой, вольной Новгородской земли, но церковным деятелям новой, суровой Московской Руси – Иосифу Волоцкому (бывшему, кстати, его «стратегическим союзником»), Зосиме Брадатому, Никону, даже жестокому и энергичному деятелю петровских времен Феофану Прокоповичу.
Зачем же в таком случае Геннадию и его сотрудникам потребовалось заниматься переводами с европейских языков и освоением астрологических премудростей? Прямой ответ на этот вопрос звучит просто: затем, чтобы бить еретиков их же оружием. Кстати, несмотря на незаурядную подкованность своих сотрудников и коллег, архиепископ Новгорода все же не был вполне уверен в их полемических способностях.
Известно его письмо, написанное в Москву, в предвидении церковного суда над новгородскими еретиками. В нем Геннадий писал собравшимся на суд епископам без обиняков, что люди они простые, о вере спорить пока не очень привычны. Поэтому надобно не обсуждать с еретиками тонкости их вероучения (главное, писал наш владыка – чтобы "никаких речей с ними не плодили"), но сразу вести дело к приговору, а именно: так скоро, как только будет возможно, "казнити – жечи да вешати". Что за заботливый пастырь был у нас в древнем Новегороде!
Более широкий ответ должен учитывать двойственность, пронизывавшую психологию московских верхов той эпохи. В ней совмещались безумная национальная гордость – и затаенная жажда признания за границей, стремление оградить свою веру от чуждых влияний – и жадное любопытство к европейским новинкам. Впрочем, о характерных чертах психологического склада людей только ли той эпохи идет речь?
Русские претензии на Лифляндию
В середине XVI столетия мир на восточной окраине прибалтийских земель снова пришел в движение. В 1552 году Казанское царство было разгромлено и присоединено к России. Четырьмя годами позже, в 1556 году, наступила очередь присоединения и Астраханского ханства. С чувством нараставшего ужаса следили за подвигами российского монстра обитатели замков Немецкого ордена или епископства Дерптского.
Наконец, пожрав двух своих самых крупных восточных соседей, придавив по пути и нескольких других хищников послабее, вроде сибирского хана Ядигара, еще не переведя духа, московская Годзилла обернулась, окинула взглядом земли своей западной соседки Ливонии и издала боевой вопль. В 1558 году началась Ливонская война – длинная, ожесточенная и совершенно изменившая облик Восточной Прибалтики.
Мысленное сопоставление стратегии Ивана IV и Петра I становится здесь не только допустимым, но даже желательным. Точно так же, стремясь обеспечить своей растущей стране выход к Балтийскому морю, Петр направил посла к турецкому султану, с одной главной инструкцией – подписать мир с ним и развязать этим руки для нападения на Швецию. На другой день после получения благоприятного известия из Стамбула, началась Северная война.
В свою очередь, стратегия европейских политиков в отношении как иванова царства, так и петровской державы состояла в том, чтобы организовать более или менее представительную коалицию, совокупив вней силы европейских государств и Турции – с той целью, чтобы поставить Россию перед угрозой воевать на два, а то и больше фронтов.
Дипломатия Ивана IV хорошо подготовилась к войне и выдвинула достаточно убедительные аргументы в пользу российских претензий на прибалтийские земли. Была припомнена и развернутая к востоку от Чудского озера строительная деятельность князя Ярослава Великого, и военные победы "над безбожными немцами" князя Александра Невского, и традиционный для новгородцев сбор дани "с областей дерптских". Одним словом, Иван Грозный полагал вполне справедливым именовать "Землю Вифлянскую" (то есть Лифляндскую) своею законной "отчиной" (так стояло, к примеру, в заключительном разделе Первого послания Иоанна Васильевича к князю Андрею Курбскому).
Заметим, что это последнее именование, выделенное нами выше курсивом, отнюдь не было экспромтом литературно одаренного царя. Оно прямо соотносилось с программой собирания русских земель, даже и управлявшихся в ту эпоху на вполне законных основаниях совсем другими государями. Она была поставлена на повестку дня дипломатией еще его деда, Великого князя Московского Иоанна III.
Тогда у нас было четко, "раз и навсегда" заявлено соседям, что "ано не то одно наша отчина, кои города и волости ныне за нами: и вся русская земля, Киев и Смоленск и иные городы, которые он за собой держит к Литовской земле, с Божьею помощью из старины и прародителей наша отчина" (курсив наш). Иными словами, на исторических русских землях были важны исторические права лишь русских князей. Что же касалось претензий других (в данном случае, Великого князя Литовского), даже основанных на достаточно старых и общепризнанных договорах и грамотах, то им предлагалось посторониться, а лучше уйти с дороги нашей «птицы-тройки».
К этому нужно добавить, что русский царь полагал для себя возможным выступить также в обличье протектора католической религии. В одной из грамот, посланных ливонцам в начале войны, Иван IV нашел уместным особо подчеркнуть, что они-де переменили веру и нанесли тем урон своим господам, то есть папе римскому, а также и императору Священной Римской империи. Действительно, вслед за городами и княжествами Северной Германии, где лютеранство завоевало наиболее сильные позиции, оно распространилось и в Ливонии. "Ну, а раз ваши господа не смогли покарать вас, то будет вам мститель в моем лице", – заверял Иван Грозный, и ему трудно было не поверить.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.