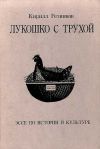Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 16 (всего у книги 45 страниц)
Ново-Немецкая слобода
Речь в данном случае шла, собственно, о Ново-Немецкой слободе, которую немцы поставили в непосредственной близости от Москвы, но формально за пределами города, на берегу реки Яузы, согласно указу царя Алексея Михайловича, подписанному четвертого октября 1652 года. Прежде этого времени, верховная власть колебалась, как лучше бы было устроить московских иностранцев.
С одной стороны, после Смуты, во времена царя Михаила Федоровича, они расселились в Москве без особого разрешения – как говорится, "явочным порядком". Пр этом больше всего иноземцев обосновалось в районе Покровской улицы, а также "Поганых прудов" (они же Чистые). С другой стороны, при таком расселении дворы иноземцев чередовались с дворами русских людей. На такое близкое соседство косо смотрела православная церковь. К тому же и сами предводители иноземцев совсем не желали ускоренного обрусения, практически неизбежного при таком близком соседстве.
Выселяя иноземцев на Яузу, царь озаботился созданием для них самых благоприятных условий. Земельные участки выделялись иноземцам бесплатно и были освобождены на будущее от всякого "государева тягла" (то есть земля слободы была объявлена "белой"). При этом было подтверждено право иностранцев носить европейское платье и строить свои дома в том стиле, в каком сами пожелают. Строительство храмов любой конфессиональной принадлежности было также разрешено.
Как следствие, постепенно "Немецкая слобода приобрела вид "немецкого города, большого и людного«, имевшего три рынка: Большой, или Верхний, Средний и Нижний, а на улицах – торговые лавки и шинки, где к кушаньям подавалась традиционная кружка немецкого пива. К концу столетия слобода украсилась тремя каменными храмами – голландским (реформатским) и двумя лютеранскими, заменившими собой обветшавшие деревянные постройки, а также первой католической деревянной кирхой… Многонациональное население Немецкой слободы Москвы в общении между собой пользовалось самым распространенным между ними немецким, а также русским языком»[141]141
Ковригина В.А. Немецкая слобода Москвы \ Немцы в России: Люди и судьбы. СПб, 1998, с.8 (внутренняя цитата в приведенном фрагменте дана со ссылкой на русское издание «Описания путешествия польского посольства в Московию в 1678 году», выпущенного Б.Таннером; курсив наш).
[Закрыть].
Немцы, прибывшие в разное время, естественно, различались между собой по образу жизни и обхождения. Новоприбывшие немцы смотрели на старожилов слободы, наполовину уже обрусевших, как на диковину, и звали их "старичками" – собственно, "старыми немцами" ("Alten Deutschen"). С течением времени и эти "новые немцы" перенимали русский язык и обычаи, удивляя в свою очередь приезжих следующей "новой волны" своим старомосковским гостеприимством, пристрастием к квасу и русской бане, равно как и оборотами немецкой речи, слегка уже устаревшими на их старой родине.
Связи с немецкими землями, впрочем, поддерживались достаточно тесные. В первую очередь речь идет, разумеется, о посредничестве "торговых людей". Известно, что в Ново-Немецкой слободе их звали обычно "амбурскими" (то есть гамбургскими) купцами. Это говорит о том, что старая, еще новгородская ориентация на торговые связи с крупными ганзейскими ("вендскими") городами Северной Германии в известных границах была сохранена и нашла себе продолжение в рамках нового, "московского периода".
Немецкая слобода и Ниен
Особого упоминания заслуживают связи, налаженные деятелями Ново-Немецкой слободы с жителями города Ниен, основанного шведами в устье Невы, в начале того же, семнадцатого столетия, вскоре после подписания Столбовского мира. К примеру, историками обнаружены документы, связанные с приглашением на русскую службу нескольких корабельных плотников, бывших подданными шведского короля и жителями города Ниен.
Контракт с ними был заключен в 1697 году. Известны и имена плотников, некоторые из которых, несомненно, принадлежали природным шведам, другие же из них вполне могли носить и русские люди из числа шведских подданных. В списке завербованных лиц, глаз историка сразу же выделит такие характерные для Ниена прозвания, как Дмитрий Гойкон или Анвент Павлов. Важным здесь представляется тот факт, что выписал ниенцев в Немецкую слободу известный московский купец и предприниматель, немец Франц Тиммерман[142]142
Некрасов Г.А. 1000 лет русско – шведско – финских культурных связей IX–XVIII в. М., 1993, с.92.
[Закрыть]. Известны и более ранние контакты этого рода.
Москва должна была, несомненно, ошеломить приехавших жителей Ниена своей экзотичностью. Что же казалось Ново-Немецкой слободы, то тут они, скорее всего, быстро почувствовали себя так, будто вовсе не покидали родной почвы. Кирхи и торговые лавки, язык и манера поведения, улицы и ровный "фасадный фронт" домов, выходивших на набережную Яузы – все должно было напоминать им о Ниене.
Мы не случайно упомянули о ровной линии фасадов, без всякого опасения выведенной строителями Ново-Немецкой слободы вдоль набережной, "на немецкую и галанскую стать". Дело в том, что средневековые европейские города строились в постоянном опасении нападения. Поэтому собственно город долго не покидал крепостных стен, а выйдя за их пределы, стремился окружить себя на всякий случай валами.
В Европе эта структура возводится историками к градостроительным практикам времен поздней античности. "В условиях частой военной опасности, особое значение для жизни города получали его оборонительные стены, и теперь еще больше, чем прежде, с ними связывают само представление о городе. Вполне естественно, что в этих обстоятельствах слово civitas, которым город характеризовался как правовой и административный центр, стали понимать как город, окруженный стенами и обособленный от сельской округи, то есть как urbs"[143]143
Мажуга В.И. Культурные идеалы античности в средневековой Европе. Город как их символ \ Городская культура. Средневековье и начало Нового времени. Л., 1986, с.251. См. также страницы 3–7 в Предисловии к указанному изданию, содержащие сжатую, но замечательно яркую характеристику облика средневекового города, данную выдающимся отечественным медиевистом и подлинным ленинградским интеллигентом, Виктором Ивановичем Рутенбургом.
[Закрыть].
Опорные признаки городов такого типа нередко сохранились до наших дней, и могут быть с большей или меньшей легкостью прослежены по планам Любека, Вены, равно как самой Москвы. Ново-Немецкая же слобода строилась в совсем другую эпоху, и, в силу понятных причин, собственная крепость ее обитателям положительно не была нужна. Похожую линию по набережной реки Охты составляли и дома обывателей Ниена. Впрочем, необходимо оговориться, что эти дома строились под защитой королевской пятиугольной цитадели, поставленной по другую сторону реки.
Любопытно, что борьба этих двух градостроительных стратегий прослеживается историками архитектуры и на планах петровского Петербурга. Как известно, приглашенный Петром из Европы Жан-Батист Леблон представил царю проект построения идеального "города-крепости", обнимающего своей овальной внешней стеной все острова невской дельты и ее берега, в соответствии с новейшими (а, впрочем, восходящими к градостроительным идеям, выработанным еще в эпоху Возрождения[144]144
Подробнее см.: Заварихин С.П. Явление Санктъ – Питеръ – Бурха. СПб, 1996, с. 126–127.
[Закрыть]) требованиями строгой регламентации – но при этом, по сути своей, все той же, традиционной urbis.
Напротив, сам Петр склонялся, повидимому, к идее новой, гражданской civitatis эпохи меркантилизма – города-порта, открытого всем ветрам и приникающего к воде каждым изгибом своей береговой линии. В его планировке не было никакой нужды воспроизводить давно отжившие образцы. Идея такого города, проведенная с достаточной убедительностью в плане Д.Трезини, нашла себе воплощение в прослеживающемся и в наши дни общем замысле Васильевского острова, а более всего – удивляющем своей целостностью ансамбле невских набережных.
Размышляя над результатами воплощения этих стратегий в камне, историки архитектуры приходят к выводу, что ни одна из них не победила вполне. Петербург сложился в итоге как "полицентричный город", и это придало его облику черты дополнительного обаяния. Отмечая этот факт, исследователи тем не менее подчеркивают, что линия "фасадного фронта" домов западного образца, впервые увиденная Петром на набережной Яузы в Ново-Немецкой слободе, по всей видимости, произвела на него неизгладимое впечатление. Пополнив его осмотром западных городов, а также чтением новейших архитектурных трактатов, Петр, скорее всего, принял окончательное решение строить центр своего "невского парадиза" по этому образцу[145]145
Более подробную аргументацию см. в кн.: Кириллов В.В. Архитектура и градостроительство \ Очерки русской культуры XVIII века. Ч.IV. М., 1990, с. 17–23.
[Закрыть].
К сказанному стоит добавить, что вклад этнических немцев в устроение ниенской жизни был весьма заметным. Прежде всего, языком администрации в Ниене служил немецкий, как это было обычным для балтийских портовых городов того времени. Далее, немецкие дворяне – обычно, выходцы из соседних, остзейских земель – довольно рано приобрели в окрестностях шведского городка значительные по размерам имения. Достаточно взглянуть на карту Ниена, выполненную шведским картографом около середины XVII столетия[146]146
Карта воспроизведена, например, в сборнике: Шведы на берегах Невы. Стокгольм, 1998, с.20.
[Закрыть].
Обширная полоса земли, простиравшейся вдоль левого берега Невы, как вниз от границ Ниена, так и вверх от стен Ниеншанца, была записана за господином Бернхардом Стен фон Стенхусеном[147]147
В документах того времени, встречаем как написание «Sten von Stenhvsen», так и «Steen von Steenhuussen».
[Закрыть]. Что же касалось левого берега Невы напротив Ниена, то, судя по карте, откуда из города ни посмотри – всюду виднелись лишь земли, принадлежавшие удачливому остзейскому коммерсанту. В устье Фонтанки, на месте будущего Летнего сада, он основал себе небольшое имение «Usadiss[a] Hoff», перешедшее потом от его потомков прямо в руки царя Петра Алексеевича. Помимо того, герр фон Стенхусен владел еще и обширной усадьбой «Björkenholm (или Birkenholm) Hoff», помещавшейся на территории теперешней Петроградской стороны…. В этих условиях, обычные для немецкой культуры того времени представления об устроении пространства не могли не отразиться в облике Ниена и его окрестностей.
Вдобавок к приведенны примерам, можно упомянуть и о мерах по привлечению в Ингерманландию немецких колонистов. Шведские власти попытались содействовать их привлечению сразу же после Столбовского мира, в надежде сделать край более заселенным. Правда, в отличие от Екатерины Великой, им не удалось добиться успеха. К середине XVII века, в Ингерманландии осталось, дай бог, если несколько десятков семей колонистов: остальные вернулись в Германию[148]148
Исаченко Г.А. «Окно в Европу»: История и ландшафты. СПб, 1998, с.76.
[Закрыть].
Лютеране и православные
Церковные власти довольно косо смотрели на присутствие в непосредственной близости от православной столицы города, обитатели коего за малым исключением были протестантами или католиками. Главный предмет опасений состоял в том, что запретить спонтанное повседневное опасение православных москвичей с инославными обитателями Ново-Немецкой слободы не представлялось возможным.
Историкам известен целый ряд случаев успешного обращения слободских немцев в православную веру. Нет нужды говорить, что они гласно приветствовались церковными иерархами. Что же касалось негласных постановлений, то ими предписывалось самое внимательное наблюдение за новообращенными, с особым вниманием к тому, "кто из них како житие свое препровождает и крепко ли [веру] ону и церковные предания содержит"[149]149
Цит. по: Замалеев А.Ф., Овчинникова Е.А. Еретики и ортодоксы: Очерки древнерусской духовности. Л., 1991, с.172 (пояснение в квадратных скобках введено нами). В следующем ниже рассказе о «деле Дмитрия Тверитинова» основываемся на том же источнике, гл.12.
[Закрыть]. В случае, если вывод был неблагоприятным, то православный немец имел все шансы отправиться укреплять свою веру на берега Оби или Иртыша.
Сохранились и сведения о переходе русских людей в лютеранство. По всей видимости, наиболее показателен здесь пример Дмитрия Тверитинова. Поступив в ученики к аптекарю Ново-Немецкой слободы, он быстро освоил немецкий и латинский языки, подружился с немцами и в конечном счете "совратишеся с правого пути, утвердишеся в ереси Мартина Лютера". Вслед за этим, московский энтузиаст составил небольшой кружок единомышленников из числа русских людей, один из которых был цирюльником, другой – "овощного ряду торговым человеком", третий – хлебопродавцем.
Одним словом, кружок Тверитинова объединил вовсе не заучившихся богословов, но самых простых людей, и в этом была его сила (нужно, впрочем, оговориться, что в состав кружка вошел и по крайней мере один студент новооснованной Славяно-греко-латинской академии, по имени Иван Максимов). Не вызывает сомнения, что еще в середине века деятельность кружка была бы пресечена с примерной жестокостью. Но времена уже были петровские (Тверитинов приехал в Москву в 1692 году).
Конечно, с течением времени последовал донос куда надо, деятельность кружка пресекли. Однако расследование пошло вяло, потом совсем вяло – и дело, судебная перспектива которого была вполне однозначна с точки зрения наших блюстителей веры, развалилось само собой, на корню. В довершение конфуза преследователя кружка, богобоязненного Стефана Яворского, царь определил задорного лютеранина Тверитинова к нему же на службу, в качестве лекаря.
Не отрицая тут привкуса злой иронии, вообще характерной для отношений зрелого Петра I с предстоятелями православной церкви, причиной такого решения могли стать и просто воспоминания юности. Дело здесь было в том, что Петр Алексеевич в годы ветреной юности сам усиленно посещал Немецкую слободу и даже встречался там с Тверитиновым. Любопытно, что богословский трактат "лютероборческого направления", написанный Стефаном Яворским под живым впечатлением прений с людьми психологического склада Дмитрия Тверитинова, стал известен Петру, очень его рассердил, и стал одним из решающих аргументов в пользу начала церковных реформ.
Гравюра и икона
Примеры прямых контактов такого рода легко продолжить, однако активный прозелитизм отнюдь не определял основного русла немецко-русских религиозных контактов. Гораздо важнее был общий тон, еще не обозначившийся вполне, однако уже внятный духовному зрению внимательных наблюдателей. Представление о нем проще всего составить, если пойти в Русский музей и пройти вдоль ряда икон, от самых старых – до написанных в семнадцатом веке, в преддверии петровских реформ.
С начала и почти до самого конца экспозиции, перед нашими глазами будут представать все новые образцы почтенного "умозрения в красках", с его верным следованием указаниям древних "лицевых подлинников", с почти чуждой для современного глаза, но все же неповторимо прекрасной и узнаваемой сразу, "обратной перспективой" и совершенно своеобразной палитрой.
На середине семнадцатого столетия эта традиция обрывается почти сразу, и перед нашими глазами предстают творения какого-нибудь Симона Ушакова или его единомышленников, с их грязноватой гаммой, изобилующей мутными желтыми, оливковыми или лиловыми мазками, предельным натурализмом – и, разумеется, прямой перспективой, размеченной с прямотою старательного, но безнадежно тупого приготовишки. На место "окна в вечность" поставлено "окно в Европу"!
"А все то кобель борзой, Никон, враг, умыслил, будто живыя писать, устрояет все по фряжьскому, сиречь по немецкому", – выразил общее мнение приверженцев старины Аввакум в трактате, специально посвященном проблемам иконописи, и с замечательной выразительностью, неотъемлемо присущей его стилю, заключал: "Ох, ох, бедная Русь, что-то тебе захотелося немецких поступов и обычаев!".
Мнение протопопа было вне всякого сомнения справедливым. Целью иконописцев нового направления было заимствование приемов и всей системы западноевропейской живописи, а образцом – в первую голову, так называемые "фряжские листы". Это название носили у нас гравюры, северноевропейского, преимущественно немецкого происхождения, сначала распространявшиеся насельниками Немецкой слободы – чаще всего граверами, работавшими в Оружейной палате бок о бок с русскими мастерами – а после лежавшие на развале у Спасской башни, а то и на рынке в любом мало-мальски значительном русском городе.
Представляется не случайным, что сам вождь "нового направления", по-своему небесталанный Симон Ушаков, потратил немало времени и сил, открывая для себя зады европейской мысли в сфере изобразительного искусства. Он разрабатывал новую технику иконного письма практически самоучкой, имитируя композицию и общий дух все тех же "фряжских листов". И.Э.Грабарь характеризовал где-то Симона "злым гением русской иконописи" – и, в общем, за дело[150]150
О «новом вкусе» в иконописи подробнее см.: Корнилович К.В. Окно в минувшее. Л., 1968, с. 128–142.
[Закрыть].
Число гениев такого рода стало у нас со временем прирастать в самых разных областях церковной и общественной жизни, гуманитарных наук и изобразительного искусства. Прослеживая жизненные пути этих людей, мы будем часто встречать то период усиленных посещений Немецкой слободы, то пребывание в Курляндии, а то и поездку по германским университетам (в первом случае, мы имеем в виду прежде всего самого Петра Алексеевича, во втором – Сильвестра Медведева, в последнем – Феофана Прокоповича).
Европейская культура просачивалась сквозь все поры ветшавших стен, которые пока еще ограждали московское "затворенное царство" от напора внешнего мира. Культурному посредничеству немцев принадлежала самая активная роль в деле подготовления массового сознания россиян к эпохе петровских реформ.
Дело Квиринуса Кульмана
Семнадцатое столетие было в Европе, помимо всего прочего, также и временем обновления оккультных наук. Император Священной Римской империи Рудольф II открыто покровительствовал алхимикам и каббалистам. Сообщество немецких «паломников в страны Востока», укрывших свои имена под названием ордена розенкрейцеров (собственно, Братства Розового Креста – «Fraternitatis Rosae Crucis»), буквально зачаровало умы мечтателей и фантазеров тогдашней Европы. Визионер Якоб Беме публиковал свои откровения, предвещавшие астральные приключения Сведенборга в следующем веке.
Одним словом, Европа предавалась тайным наукам – а значит, в той или иной форме, они стали известны и некоторым обитателям Ново-Немецкой слободы в Москве. Кто от кого принял посвящение, и по какой системе работал, остается до настоящего времени делом весьма темным. Надо ли говорить, что деятели этого склада были отнюдь не болтливы и дневников не вели. К тому же они чувствовали за своей спиной подозрительные взгляды как русских, так и немецких блюстителей благочиния.
Весьма характерен пример Квиринуса Кульмана – ученика самого Якоба Беме, увлекательно говорившего и легко писавшего – к тому же, наладившего связи со всеми мало-мальски значительными фигурами оккультного мира тогдашней Западной Европы. К началу восьмидесятых годов, Кульман утвердился в мысли, что русским суждено было спасти Европу, сокрушив империю турок-османов, а после нее – и духовную империю римских пап. Себя же Квиринус рассматривал как пророка, получившего откровение о тайнах грядущего.
В 1687 году, новоявленный немецкий пророк отправил в Москву, прямо к царю, специально написанное сочинение "Kuhl-Jubel", содержавшее очерк его мистической системы, подготовленный с особым вниманием к ближайшему будущему Московского царства, "Пятой иезуитской мировой монархии", и прочими небезынтересными историософскими рассуждениями[151]151
Более подробное обсуждение в контексте русско-немецких связей см.: Гро Д. Россия глазами Европы \ Дружба народов, 1994, N 2, с.177.
[Закрыть]. Не получив определенного ответа, бедняга – или, как его точнее назвал о. Г.Флоровский, «мистический авантюрист»[152]152
Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, с.80 (репринт парижского издания 1937 года).
[Закрыть] – снялся с места и поехал-таки в Московию.
После недолгой проповеди в Ново-Немецкой слободе, на Кульмана поступил донос куда следовало, причем подали его сами немецкие проповедники, озабоченные широтой мистического темперамента Кульмана и зажигательностью его проповеди. По расмотрении дела, московские власти в лице князя Голицына уважили просьбу слободских пасторов и отправили Квиринуса на костер, в компании его единомышленника, по имени Кондратий Нордерман.
Для русского человека, обвинение в занятиях тайными науками несло не меньшую опасность. Достаточно напомнить, что когда политические противники такого крупного деятеля, как Сильвестр Медведев, не смогли расправиться с ним силой разумных доводов, он был отправлен на плаху по обвинению именно в "чернокнижии". Казнили нашего видного просветтеля на Лобном месте, напротив Спасских ворот, через два года после К.Кульмана.
Нужно сказать, что в занятиях чернокнижием Медведев был, насколько можно судить на основании доступных нам документов, решительно неповинен. При этом, однако, он имел немало знакомых в Немецкой слободе, и боролся за воплощение в жизнь учебного заведения западного типа – Славяно-греко-латинской академии. Разумеется, мы говорим здесь только о замысле, но не о его воплощении в жизнь, проведенном братьями Лихудами в духе, совершенно противоположном мечтам Сильвестра.
Астрологические послания Энгельгардта
Так обстояли дела во времена молодого Петра, пусть пока связанного по рукам и ногам ревнителями старины. Что же тогда говорить о более ранних временах – хотя бы тишайшего царя Алексея Михайловича! Примерно так могли бы мы воскликнуть, под впечатлением мрачных расправ, практиковавшихся молодцами «из железных ворот» Преображенского приказа и других, родственных ему по духу карательных заведений. Издав это восклицание, мы были бы в общем правы, однако прошли бы мимо удивительно интересного эпизода отечественной истории. Он состоял, ни много ни мало, в непосредственном знакомстве православного царя с основами современного ему европейского оккультизма. Посредником в этом знакомстве был лейб-медик царя, по имени Андреас Энгельгардт.
Энгельгардт был по происхождению немец, уроженец Нижней Саксонии, и по религии протестант. Получив диплом знаменитого Лейденского университета и защитив докторскую диссертацию в менее известном, но также солидном Франекерском университете, он около десяти лет проработал в голландских и северно-немецких городах и приобрел самую положительную репутацию как у коллег, так и среди пациентов. Прослышав о быстро шедшем в гору молодом докторе, любекский купец Иоганн фон Горн, подвизавшийся в качестве агента московского правительства, снесся с ним и известил, что при царском дворе есть вакансия для хорошего врача.
В рекомендательном письме, подписанном представителями властей города Любека, Энгельгардт был даже аттестован как "честнейший, славнейший и изряднейший доктор", что было, по всей видимости, близко к истине[153]153
Цит. по: Богданов А.П., Симонов Р.А. Прогностические письма докора Андреаса Энгельгардта царю Алексею Михайловичу \ Естественнонаучные представления Древней Руси. М., 1988, с. 151–204. В дальнейшем рассказе мы опираемся на указанный источник, содержащий полный перевод на русский язык обоих Прогностических писем Энгельгардта, а также предпосланный им, весьма содержательный вступительный очерк.
[Закрыть]. Как мы видим и на этом примере, традиционные еще для новгородских времен деловые контакты с ганзейскими городами Северной Германии сохранили свою силу и для эпохи Московской Руси.
В результате переговоров, ранней зимой 1656 года, "доктор Андрей Энгерт", как его вскоре стали у нас для простоты называть, приехал в Москву, получил колоссальный оклад и приказ поселиться в Ново-Немецкой слободе. Через шесть лет, заслужив милость царя и сделав карьеру при дворе, немецкий врач переселился поближе к венчанному пациенту, а именно на Тверскую улицу, где поместился в палатах, принадлежавших прежде того одному русскому князю. Как видим, в этом случае – и для данного, отдельно взятого иноземца, закон у нас и тогда не был писан. Колоритные, а главное, много говорящие современному читателю подробности этого рода были щедро рассыпаны по жизненному пути доктора Энгельгардта. Для нас будет важнее один эпизод, связанный с астрологическими познаниями немецкого врача.
Под Рождество 1664 года, царь обратился к доктору Энгельгардту с несколько неожиданным запросом. Он переслал ему три выпущенных в немецких землях календаря, содержавших астрологические прогнозы, обещавшие европейским странам на ближайшее время всяческие беды. В Западной Европе тогда быстро распространялась чума. Вдобавок, на небе появилась хвостатая звезда, хорошо видная в Москве по ночам, да еще и крутившая временами лохматым хвостом из стороны в сторону. По совокупности этих причин, государь пожелал узнать мнение своего медика касательно перспектив на ближайшие годы государства Российского.
Как нам уже довелось отметить выше, астрологические выкладки входили тогда в искусство врача на правах его неотъемлемой части. Вот почему в своем ответе, написанном достаточно быстро, доктор думал не о том, чтобы скрывать свои знания, но только о том, чтобы получше их показать. Признав неблагоприятное расположение Сатурна и Марса, немец отметил, что никакой особой угрозы он в их расположении не видит.
Однако, добавил он с неподражаемым пессимизмом, если уж Бог пошлет людям бедствие – то оно, надо думать, будет всеобщим, так что погибнем все ("от чего, впрочем, да благосклонно избавит всемилостивый Иисус", – сразу же добавил Энгельгардт). Все это рассуждение позволяет нам оценить как протестантскую прямоту доктора, так и приобретенные им при московском дворе навыки дипломатического обхождения.
В том, что касалось чумы, мудрый доктор высказался в том смысле, что очень полезно бы налегать на лук и хрен, чем, впрочем, подданные царя поголовно увлекались и без особых советов высокооплачиваемых иностранных специалистов. Помимо того, указал он, в общем плане может быть весьма полезна молитва, а в особенности – чистосердечное покаяние. И эта рекомендация для человека того времени была естественна и понятна.
В заключение доктор нашел возможным мягко намекнуть на то, что дешевые календари не есть лучший источник прогнозов на будущее для венценосной особы и предложил свое посредничество в обращении к профессиональным немецким астрологам высшего класса (их имена названы), привычным к работе для, так сказать, VIP-клиентов.
Предпочтя пропустить последнюю рекомендацию мимо ушей, царь задал своему лейб-медику еще восемь вопросов, свидетельствовавших о его интересе не столько к мистицизму, сколько о факторах, которые могли дестабилизировать положение русской державы, напрягавшей тогда все силы в борьбе с Речью Посполитой – будь то чума, недород, либо же положение в Германской империи.
Ответ Андреаса Энгельгардта и на этот запрос дошел до нас, причем наиболее его интересная часть касается именно последнего, восьмого по нумерации доктора, вопроса о судьбах Германии. В первую очередь, немец упомянул о пророчестве Даниила, и это упоминание было очень уместным. Как мы помним, во второй главе библейской Книги пророка Даниила повествовалось о приснившемся царю Вавилонскому истукане, голова коего была сделана из золота, грудь и руки – из серебра, живот и бедра – из меди, голени – из железа, а ноги были частью железные, частью глиняные.
Сон об истукане был истолкован Даниилом, как посланное от Бога видение ряда "мировых монархий" – или, как мы сейчас сказали бы, супердержав. Первую из них, безусловно, следует определить как Вавилонскую. Что же касалось последующих, то здесь пророк высказался менее определенно.
Согласно толкованию, общеизвестному во времена Энгельгардта, четвертое ("железное") царство есть древняя Римская империя, равно как и ее непосредственная преемница – Священная Римская империя германской нации. Более того, это толкование было положено в основание историософии, принятой правящими кругами Германской империи практически в качестве официальной. Оно составляло в этом качестве ближайшую аналогию получившей у нас распространение примерно в ту же эпоху концепции "Москва – третий Рим".
Разница состояла в том, что католики обычно рассматривали библейское пророчество в мажорных тонах, то есть как обещавшее Германской империи дальнейшее возрастание, а протестанты брали ту же тему в миноре, указывая на неизбежность скорого разрушения империи. Будучи протестантом, Энгельгардт склонялся к последнему тезису, о чем прямо и написал. "И не напрасно в небесах изображено – ибо, как говорит Гермес, что вверху, то и внизу, и одно подобно другому — все то, что мы знаем, например, если не говорить о других знамениях, великие соединения Сатурна и Юпитера, число которых от сотворения мира – семь, причем каждое из таких соединений неизменно порождает великие перемены".
Энгельгардт так увлеченно подводит своего царственного читателя к следующей историософской схеме и излагает ее так убедительно, что мы можем и не заметить упоминания имени Гермеса Трисмегиста и скрытой цитаты из его "Изумрудной скрижали", выделенных нами курсивом в предыдущем абзаце. Ведь если теперешнему читателю эта цитата, почти оброненная мимоходом в латинском послании немецкого доктора, говорит очень немного, то в старину она была чем-то вроде пароля, позволявшего европейским приверженцам тайных наук узнавать своих.
"Quod est inferius est sicut id quod est superius.
Et quod est superius est sicut id quod est inferius", —
"То, что внизу, подобно тому, что вверху.
И то, что вверху, подобно тому, что внизу".
Именно так звучали на латыни начальные предложения старинного мистического текста, при своей исключительной краткости содержавшего важнейшие аксиоматические положения европейского эзотеризма. Эти слова бормотал любой подготовленный алхимик, склонявшийся над своими ретортами, равно как любой знающий свое дело астролог, приступавший к наблюдению ночного неба.
В современной культурологии "Изумрудная скрижаль" также расматривается как исключительно значимый, хотя и допускающий множественные истолкования текст, "безусловно представляющий собою наиболее сжатое, хотя и не самое ясное из существующих описаний Великого Дела (du Grand Œuvre)"[154]154
Sadoul J. Le trésor des alchimistes. Paris, 1970, p.26. Об истории «Изумрудной скрижали» в контексте средневековой алхимии см.: Рабинович В.Л. Алхимия как феномен средневековой культуры. М., 1979, с. 369–371.
[Закрыть].
Тема настоящей книги не требует детального ознакомления ни с историософией восьми великих соединений Сатурна и Юпитера, к которой вслед за цитированием Гермеса Трисмегиста перешел наш доктор, ни с его выкладками относительно возможности конца света в приближавшемся 1666 году. Читатель легко сможет самостоятельно доставить себе это удовольствие, следуя представленному выше библиографическому указанию.
В нашу задачу входит лишь поместить перед его или ее мысленным взором образ строгого повелителя великого православного царства, входившего в курс основных положений европейского оккультизма, прямо в своей столице, не отвлекаясь от государственных дел, при содействии своего приближенного, немецкого доктора, знатока астрологии и герметической философии — и оценить всю степень нетривиальности такой ситуации.
Впрочем, вскоре знакомство по крайней мере с астрологическими сочинениями стало для подданных московского царя не только возможным, но даже обычным. Переводы из некоторых прогностических календарей стали настолько обычными, что историки с удивлением обнаружили цитаты из них даже в одном летописном своде, созданном по благословению патриарха во второй половине семнадцатого столетия. О факте непосредственного знакомства Симеона Полоцкого с алхимической литературой, равно как широком использовании астрологической символики в его сочинениях мы уже и не упоминаем, в связи с их общеизвестностью.
При этом нельзя сказать, чтобы царь, равно как его подданные не были предупреждены о духовной опасности чтения оккультных, в частности астрологических сочинений. Достаточно сказать, что за столетие до обращения Алексея Михайловича к мудрости "звездозакония", во времена Иоанна Грозного и митрополита Макария, на Руси был создан знаменитый "Стоглав".
В двадцать втором вопросе этой известнейшей книги, подводившей итоги работы собора, специально созванного для разбора наиболее актуальных проблем духовной культуры, в перечне душевредных текстов, были помянуты и "остроломия", и "звездочет"… В завершение указанной статьи, составители "Стоглава" призвали на голову читателей этих или других текстов, содержавших "мудрости еретическия и коби[155]155
Под «кобью» у нас в старину понимали гадание по приметам и связанную с ним ворожбу, направленную на призывание удачи. В случае, если глагол «кобениться» происходит от этого слова, можно предположить, что такое волхвование включало ритуальные телодвижения особого типа.
[Закрыть] бесовския", многообразные кары, включавшие «царскую грозу» и «великое духовное запрещение».
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.