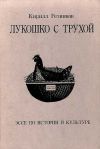Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 36 (всего у книги 45 страниц)
«Двенадцать»
Многое из того, что имело отношение к немецкой культуре в дореволюционных стихах, поэмах и статьях Александра Блока, предсказуемо, очевидно и в подробных комментариях не нуждается. Нам представляется более интересным обратиться к небольшому циклу стихов и прозы, написанному Блоком вскоре после революции, в январе 1918 года и достаточно быстро опубликованного. Мы говорим в первую очередь о поэме «Двенадцать», а также о стихотворении «Скифы» и о статье «Интеллигенция и революция», вместе с менее значительными текстами, которые представляют литературный контекст этих магистральных для позднего Блока вещей.
Блок, как известно, придавал исключительное значение творческому подъему того холодного января. В записке, составленной в 1920 году и специально посвященной обстоятельствам написания "Двенадцати", он подчеркнул, что в такой же мере, полностью и без колебаний, "отдался стихии" лишь дважды до этого – в январе 1907-го и в марте 1914-го. Читателю не составит труда восстановить в памяти, создание каких произведений поэт вспоминал в данном случае. Известна и запись, внесенная Блоком в свой дневник под датой 29 января 1918 года. "Сегодня я – гений", – писал обычно строгий к себе поэт в день завершения текста "Двенадцати".
Немаловажным представляется и тот факт, что после "Двенадцати" и "Скифов", поэт практически перестал писать стихи. Кроме того, публикация написанного в январе 1918 года со всей очевидностью показала старой литературной общественности, что А.А.Блок революцию принял. Последствия этого, часто весьма болезненные для поэта, не заставили себя ждать. Впрочем, последовавшее вскоре включение в пантеон классиков советской литературы и внесение "Двенадцати" в состав школьной программы, сокровенным чаяниям Блока, мягко говоря, не вполне соответствовали. Положа руку на сердце, нужно признаться, что мало какое произведение, входящее в школьный курс русской литературы, вызывает по сей день такое непонимание школьников, чем эта разухабистая поэма, представляющая собой, по верному замечанию В.М.Жирмунского, "грандиозный неразрешенный диссонанс".
Говоря о записи "Сегодня я – гений", мы повторили один из расхожих штампов отечественного литературоведения. Между тем, в записи от 29 января прямо о поэме "Двенадцать" ничего не было сказано. Вот ее полный текст:
"Азия и Европа. Я понял Faust'a: "Knurre nicht, Pudel". Война прекращена. Мир не подписан. Страшный шум, возрастающий во мне и вокруг. Этот шум слышал Гоголь (чтобы заглушить его – призывы к порядку семейному и православию). Штейнер его «регулирует»? Сегодня я – гений"[394]394
Блок А.А. Из дневников и записных книжек \ Idem. Сочинения в двух томах. Т.II. М., 1955, с. 495–496 (курсив – Блока).
[Закрыть].
Слова, набранные курсивом, напоминают о внешнем контексте событий. Накануне, 28 числа, мирные переговоры в Брест-Литовске были прерваны в тревожной ситуации, определяемой формулой "ни мира, ни войны". Блок отдавал себе отчет в том, что война вскоре возобновится, а немецкие войска могут подойти к Петрограду. Всего через месяц, записи этого содержания появляются в дневнике. Внутренний контекст событий состоял прежде всего в "страшном шуме", возраставшем "во мне и вокруг". В чисто метафизической природе этого шума не приходится сомневаться. Следует подчеркнуть, что из трех указаний, конкретизирующих это понятие, два относятся к миру немецкого мистицизма.
Как видим, прежде всего Блок припомнил слова Фауста из первой части (сцена 3) классической поэмы Гете, обращенные к его псу: "Не ворчи, пудель" и привел их в немецком оригинале. Смысл этого указания нашел достаточно полное разъяснение в исследованиях творчества Блока. Литературоведы напомнили, что в тексте Гете пудель напыжился, разбух, превратился в чудовище, затем развеялся – и в облаке черного дыма перед Фаустом предстал сам Князь тьмы. "У Блока в его 12-й главе пес оборачивается старым миром, и красногвардеец, сперва ругнувшийся по адресу бродячей собаки, теперь проклинает уже не ее, а зловещее прошлое, в ней воплотившееся:
"– Отвяжись ты, шелудивый!
Я штыком пощекочу,
Старый мир, как пес паршивый,
Провались – поколочу!"[395]395
Эткинд Е.Г. «Демократия, опоясанная бурей». Композиция поэмы А.Блока «Двенадцать» \ Idem. Там, внутри. О русской поэзии XX века. СПб, 1995, с.116 (оригинал статьи опубликован в 1972 г.; курсив автора).
[Закрыть].
В завершении процитированной двенадцатой главы, завершающем и всю поэму, образы Спасителя, незримо идущего перед красногвардейцами и пса, замыкающего их шествие, связываются синтаксическим параллелизмом, который поддержан ритмом и рифмой, что позволяет исключительно четко противопоставить их по смыслу: «Позади – голодный пес… Впереди – Исус Христос». Это противопоставление, заметное глазу современной аудитории, было куда более ярким, почти непереносимым для слушателей или читателей того времени. Один из них заметил однажды, что, вероятно, Александр Блок остался единственным в русской литературе, решившимся зарифмовать слово «пес» с именем Божиим… Как бы то ни было, этот прием, в конечном счете обязанный эзотерическому образу, выведенному Гете, позволил русскому поэту с предельной четкостью выразить главную мысль всей поэмы – точнее сказать, «петроградской мистерии».
Далее следует упоминание о Гоголе, дар тайнослышания, как и литературный талант которого Блок ценил очень высоко, и сразу же вслед за ним – предположение, что Штейнер учит "регулировать" внятный поэту "страшный шум". Речь, разумеется, шла о ведущем немецком мистике того времени, основателе антропософского учения, Рудольфе Штейнере. Формально, это замечание справедливо: Штейнер почти в обязательном порядке предписывал своим ученикам медитацию, включавшую "регулирование" инсайтов из астральных пространств (технический термин уместен в данном контексте, поскольку своей задачей Штейнер ставил именно доведение медитации до уровня точной науки).
Вместе с тем, в данном случае, немецкий мистик скорее всего рекомендовал бы не отдаваться стихии – во всяком случае, не делать этого на свой страх и риск. Мы не располагаем свидетельствами о том, что Штейнер был знаком с текстом поэмы "Двенадцать", но одна из его любимых учениц, вхожая и в круг русских символистов, ознакомилась с ней и заметила в своих мемуарах: "Можно понять, что опьяняло тогда в революции Александра Блока, Андрея Белого. Широта души русского человека, как и все свойства души, имеет свою теневую сторону. Дионисийски-люциферическое начало, ненавидящее тесные формы жизни, ликует, когда эти формы сжигают. Многим поэтам дорого пришлось заплатить впоследствии за свои иллюзии"[396]396
Волошина-Сабашникова М.В. Зеленая змея. Мемуары художницы Пер. с нем. СПб, 1993, с.263 (оригинал был опубликован в Германии в 1954 году).
[Закрыть].
Другой убежденный антропософ, усердно занимавшийся "медитациями по Штейнеру" – Максимилиан Волошин, видимо, также отчетливо различил "страшный шум", донесшийся из астральных миров, когда, за месяц до Блока, в декабре 1917 года, писал свое знаменитое стихотворение "Петроград. 1917". В нем можно найти строки, в которых поэт недвусмысленно определил природу этого шума:
"…Сквозь пустоту державной воли
Когда-то собранной Петром,
Вся нежить хлынула в сей дом.
И на зияющем престоле,
Над зыбким мороком болот
Бесовский правит хоровод".
«Скифы»
Фраза «Азия и Европа», начинающая дневниковую запись, которая привлекла наше внимание, относится, очевидно, к другому произведению, которое Блок начал писать в тот же день, 29 января 1918 года и закончил наутро. Мы говорим о прославленных «Скифах» – сочинении, представлявшем собою не столько стихотворение, сколько широко задуманную, торжественную оду. В творческой психологии Блока концепция «Двенадцати» была, по всей вероятности, непосредственно связана с замыслом «Скифов» и нашла в нем свое завершение. «Там – как бы сверхисторическая, эпически мощная картина крушения старого мира как стихийного вселенского катаклизма… Здесь – поэтическая декларация, поднимающая вопрос об исторических судьбах России и откликающаяся на запросы и задачи текущего исторического дня, лирическая речь (однако уже не от первого лица, но от „мы“), обращенная к витиям старого мира, прогноз на будущее»[397]397
Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока. Л., 1980, с. 614–615.
[Закрыть].
Как уже выяснили литературоведы, по ощущению мира и истории "Скифы" преемственна длинной череде отечественных историософских сочинений, от Пушкина и Чаадаева – до Вл. Соловьева и современников Блока, объединившихся в литературную группу "Скифы" (в газете, которую эта группа издавала, стихотворение А.А.Блока вскоре увидело свет). Тем более любопытно, что, несмотря на лишения и беды, принесенные войной с немцами и австрийцами, он не нашел нужным отделить в своей оде романский мир от германского – но обратился к обоим без различения. "…Нам внятно все – и острый галльский смысл, И сумрачный германский гений…", – убежденно писал поэт.
В следующей строфе он сводил воспоминания о парижских улицах и "дымных громадах Кельна" в единую картину "священных камней Европы". Разделив мир на романо-германскую цивилизацию и противостоящую ей "монгольскую дикую орду", Блок предложил Европе мир и "светлый братский пир" от имени "третьей силы" – "скифской России", доселе разделявшей обоих "естественных врагов". В противном случае, предупреждал он, Россия может снять все заслоны и устраниться от грядущей смертельной схватки между Азией и Европой.
Нужно заметить, что историософская концепция, развернутая поэтом в "Скифах", представилась современникам в общем не вполне актуальной – так же, как присущее группе "Скифы" противопоставление ледяного "монголизма" и огненного "скифского начала" в истории. Вместе с тем, нельзя забывать о том, что она предвосхитила некоторые важные положения учения евразийцев, выступивших на мировую арену всего через три года, со своим изданным в эмиграции программным сборником "Исход к Востоку".
Историософия Блока приобретает новое значение в наши дни, с назревающим антагонизмом между атлантической и дальневосточной цивилизациями – а, в первую очередь, между США и Китаем, разделенными, как показывает географическая карта, не только Тихим океаном, но и сухопутными пространствами нашего Дальнего Востока. В этой грядущей схватке России придется принять сторону одного из соперников – либо же, хотя это будет почти невозможно, наблюдать за схваткой со стороны. Тем более интересно, что видение грядущего противостояния цивилизаций и роли России в будущем мире представилось Блоку в истерзанном Петрограде, над которым нависала реальная опасность немецкой оккупации.
«Интеллигенция и революция»
В третьем тексте цикла – статье «Интеллигенция и революция» и непосредственно примыкающей к ней работе «Искусство и революция», написанной двумя месяцами позже, в начале марта 1918 года – А.А.Блок заявил, что он революцию принял, и определил те условия, на которых нашел возможным занять такую позицию. Главное из них состояло в том, чтобы революция не остановилась на стадии разрушения и не привела к власти новое мещанство. Блок призывал к тому, чтобы «смертельная усталость» сменилась «животной бодростью» и чтоб революция продолжилась в сфере духа, создав «нового человека» и новое, «артистическое человечество».
Непосредственный источник новых, непривычных терминов был указан автором сразу. Это – работа великого немецкого композитора Рихарда Вагнера "Искусство и революция". Не случайно статья Блока, получившая то же заглавие (с подзаголовком "По поводу творения Рихарда Вагнера"), была подготовлена как предисловие для намеченного к публикации на русском языке вагнеровского трактата. Более общий контекст составляло учение Фридриха Ницше о "сверхчеловеке". Этот немецкий мыслитель, как известно, благоговел перед Вагнером и его творениями и нашел судьбоносным то обстоятельство, что первая часть "Заратустры" была им закончена в те "священные часы", когда Вагнер умирал в Венеции.
"Умерли все боги: теперь мы хотим, чтобы жил сверхчеловек", – так звучит знаменитое заключение первой части трактата Ницше, в которой философ со всей определенностью выразил основную мысль своего трактата[398]398
Ницше Ф. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого Пер. с нем. СПб, 1903, с.106.
[Закрыть]. Эти слова вполне соответствовали тому, что в новых исторических условиях попытался выразить А.А.Блок в своей публицистике 1918 года – а, впрочем, и последующих лет. Они хорошо разъясняют и то, что никак не могли понять многие тогдашние собеседники Блока, принадлежавшие к лагерю победителей. Так, А.В.Луначарский был искренне удивлен, когда в одной из бесед Блок признался ему, что марксизм ему чужд, от него «веет холодом», но есть в революции нечто другое, какая-то бездна, она-то и привлекает. А.М.Горького в том же 1919 году Блок тоже удивил, сказав, что опорой в жизни могут служить только Бог – или собственная личность, а вся трагедия заключается в том, что сейчас «мы стали слишком умны для того, чтобы верить в Бога, и недостаточно сильны, чтобы верить в себя»[399]399
Цит. по: Орлов В.Н. Гамаюн: Жизнь Александра Блока. Л., 1980, с.568, 680.
[Закрыть].
Удивление собеседников Блока можно понять. Оба они были связаны с классом одержавшего верх "нового мещанства", которое наконец ощутило свою силу и ринулось на приобретение материальных благ, власти и почестей. Именно этот общественный слой составил надежную опору партии, вскоре приведшей к власти И.В.Сталина и его соратников. Для них продолжение революции представлялось абсолютно ненужным.
Что касалось Александра Блока, то он смог осмыслить и сформулировать свои новые взгляды, отталкиваясь от идей представителей немецкой «философии жизни» – в первую очередь, Фридриха Ницше – и в большой степени приняв их. Эта линия мысли, нашедшая себе и других сторонников в послереволюционном Петрограде, в дальнейшем не получила развития на отечественной почве. Было бы, впрочем, ошибкой забыть, что уже в следующем десятилетии она послужила в самой Германии в качестве одного из источников нацистской идеологии.
«Немецкий текст» акмеизма
Ведущая роль в культуре «серебряного века» принадлежала символизму, в более или менее явном отталкивании от которого осмысливали свои цели и представляли себя публике представители новых литературных направлений. Мы говорим прежде всего об основателях акмеизма, которые в первых же своих программных текстах, опубликованных в первом номере журнала «Аполлон» за 1913 год, представили список позиций, по которым они радикально разошлись с символистами. Одно из важнейших мест заняло отношение к ноуменальной, метафизической проблематике.
Символисты направляли все свои творческие силы на то, чтобы провидеть биение "души мира" под "грубой корой бытия". С точки зрения акмеистов, это стремление было просто "нецеломудренным". Оно должно было уступить место интересу к посюстороннему миру, к жизни во всех ее мгновениях и частностях. Соответственно, и художественное слово вместо намеренной темноты, скрывавшей входы в иные миры, должно было приобрести качества точности, простоты и ясности.
В терминах европейской литературной традиции, акмеистам было естественнее всего сопоставить свою восходившую школу с французским классицизмом, приравняв увядавший символизм к немецкому романтизму. Признаки такой оппозиции прослеживаются в статье Н.С.Гумилева, бросившего символистам упрек в "безнадежной немецкой серьезности" и указавшего на французскую литературную традицию, с ее вкусом к иронии и конкретности, как образец для основанного им направления. Этот намек не получил дальнейшего развития. Как известно, более актуальным для символистов представилось противопоставление французского символизма – французской же школе "парнасцев", которой и были отданы все их симпатии. Соответственно, и "немецкий текст" занял скорее второстепенное место в произведениях акмеистов.
Характерным примером может служить состав поэтической книги "Колчан", выпущенной основателем акмеизма, Н.С.Гумилевым, в 1916 году, в самый разгар мировой войны. Первое, вступительное стихотворение было посвящено памяти учителя – "спокойного, учтивого, слегка седеющего поэта" (И.Анненского), второе – войне, на которую Николай Степанович пошел добровольцем. Стихотворение написано сжато и образно. Шрапнели пронизывают его текст, как пчелы, "собирая ярко-красный мед", за плечами российских воинов стоят "серафимы, ясны и крылаты" – а последняя строфа говорит о милости к побежденным вслед за неизбежной победой. Казалось бы, за ним должны следовать другие стихотворения, развивающие "немецкую тему", силою обстоятельств приобретшую несомненную актуальность. Но за ним автор поставил еще довоенное стихотворение о призрачной Венеции, еще далее посвятил стихи Пизе, Риму, Падуе, Болонье, Неаполю, даже прощанию на границе Китая со спутником, у которого были "глаза гадюки" – только не Германии, сынов которой он каждый день видел из своего уланского (а позже – гусарского) седла, а нередко и доставал саблей или пулей.
В следующем сборнике, выпущенном в свет в 1918 году – знаменитом "Костре" – картина примерно та же, с той разницей, что тут есть стихи к стокгольмским колоколам, норвежским горам и садам Эзбекие. Нашу мысль подтверждает и то, что включенное в его состав стихотворение "Рабочий" было в дальнейшем воспринято массовой читательской аудиторией как предвидение казни, на которую поэта, приехавшего в Петроград, в 1921 году послала рабоче-крестьянская власть. Кто же у нас не помнит строк о труде пожилого спокойного рабочего в светло-серой блузе: он отливает пулю, которая убьет поэта…
Между тем, это стихотворение было написано в 1916 году, в ту пору, когда русские рабочие еще не пришли к власти и пока не думали о том, чтобы расстреливать русских офицеров. Гумилев, несомненно, писал о немецком рабочем, отливавшем пулю для кайзеровских солдат. Современники, кстати, поняли его совершенно верно – обратив, по всей вероятности, внимание на строки «Пуля, им отлитая, просвищет Над седою, вспененной Двиной…». Действительно, на Западной Двине в ту пору шли кровопролитные бои, в которых довелось участвовать самому Николаю Степановичу.
* * *
Военная тема заняла заметное место и в творчестве А.Ахматовой. В написанном на следующий день после объявления войны, небольшом цикле «Июль 1914», мы находим скорбное известие о приближении страшных сроков «глада, и труса, и мора» и прочих ветхозаветных бедствий. В изумительной краткой «Молитве», помеченной Духовым днем следующего, 1915 года, лирическая героиня обращается к Богу с просьбой отнять «…и ребенка, и друга, И таинственный песенный дар» – лишь бы Он рассеял тучу, нависшую над Россией. Еще через год, Ахматова мысленно возвращается в день начала войны – в стихах, так и озаглавленных «Памяти 19 июля 1914». «Мы на сто лет состарились, и это Тогда случилось в час один», – начинается это горькое стихотворение, произнесенное как бы через силу. Его завершают строки, повествующие, что Господь стер следы «песен и страстей» из памяти поэтессы – затем, чтобы «стать страшной книгой грозовых вестей».
Как видим, Анна Ахматова восприняла империалистическую войну, как вступление к неисчислимым бедствиям России и осмыслила их в традиционных религиозных понятиях, так же, как предназначенное ей пророческое служение. Глубинная связь оскудения веры, нашествия немцев и внутренних нестроений как непосредственных причин крушения «петербургской империи» была для Ахматовой вполне ясна.
"Когда в тоске самоубийства
Народ гостей немецких ждал,
И дух суровый византийства
От русской церкви отлетал,
Когда приневская столица,
Забыв величие свое,
Как опьяневшая блудница,
Не знала кто берет ее,
Мне голос был…"
Так начинается написанное в 1917 году, знаменитое стихотворение, где эти причины названы поочередно и связаны с образом «приневской столицы». Тем не менее, при написании этих строк, Ахматова не вглядывалась в лица германских солдат, не воскрешала в памяти и звуков немецкой лиры, но погружала взор в глубины российской духовности – и, как мы можем заметить, «метафизики Петрограда». Ведь ответ лирической героини на «недостойную речь» – точнее, ее решение «замкнуть слух» и отказаться от эмиграции – выразило психологическую доминанту многих интеллигентов, предчувствовавших невиданные испытания, и все же решившихся не оставлять Петрограда.
* * *
В военных стихах О.Мандельштама наше внимание привлекает стихотворение «Европа» опубликованное осенью 1914 года. В третьей строфе, мысленный взор поэта обратился ко временам Священного союза, созданного за век до того, волей монархов России, Пруссии и Австрии. В следующей, заключительной строфе, помянут один из архитекторов этой коалиции, глава австрийского правительства Клеменс Меттерних, и немного мечтательно – пожалуй, слишком мечтательно для того сурового времени – сказано, что установленная во времена Меттерниха «таинственная карта» Европы теперь меняется на глазах.
В написанном вскоре после того стихотворении "Ода Бетховену", поэт нашел уместным и своевременным воспеть гений Людвига ван Бетховена и выделить в его образе дионисийское начало. Как выразился бы автор заурядного курса истории литературы, поэт, таким образом, в трудных условиях империалистической бойни отдал дань уважения классику немецкой музыки, поддержав тем самым гуманистическую традицию отечественной культуры. Вот, собственно, те простые ходы мысли, которых ищет глаз исследователя, стремящегося заполнить очередную ячейку в своей схеме русско-немецких культурных контактов.
Однако уже в январе 1916 года, в Петрограде (черновой автограф помечен "Петербургом") Мандельштам берется за текст своего "Зверинца". В одном из авторских вариантов, стихотворение было озаглавлено "Ода миру во время войны" – и это, промежуточное, название удачно оттеняет смысл окончательного. Действительно, Мандельштам, с одной стороны, создал оду, написанную в лучших традициях этого жанра. Чего стоит живая картина того, как германский орел, британский лев, галльский петух, а ними и ласковый русский мишка расселись в довоенные времена на европейских вершинах, не мешая ягнятам и волам щипать травку в долинах.
В четвертой строфе, поэт напомнил и о совсем отдаленных временах, когда славяне и германцы смешали свой лен в "праарийской колыбели". Это упоминание делает честь эрудиции одописца. Ведь русское слово "лен", равно как немецкое "Lein" (с тем же значением) принадлежат к древнейшим пластам лексического фонда обоих языков, восходя порознь к общему индоевропейскому корню – и, таким образом, сохраняют память об эпохе первоначального единства предков обоих народов.
С другой стороны, автор выразил не совсем подходившее для высокой оды желание поскорее построить клеть для войны и загнать в нее весь передравшийся геральдический зверинец (отсюда и не вполне почтительное окончательное название стихотворения). Сочетание органической приверженности литературным и культурным традициям с легкой иронией вообще было весьма характерно для творчества акмеистов.
В начале тридцатых годов, в предчувствии "новых чум и семилетних боен" Мандельштам снова обратился к знакомым и близким ему с петербургского детства немецкому языку, немецкой литературе и музыке. Читатель, возможно, припомнит здесь яркий образ послойности памяти, запечатленный в очерке "Книжный шкап", написанном несколько раньше, в начале двадцатых годов, включенном в состав автобиографической книги "Шум времени". На уровне глаз мальчика там стояли исаковское издание Пушкина, Лермонтов в зелено-голубом переплете, книги Тургенева и Достоевского, изданные в серии приложений к "Ниве". Но ниже полок русской классики стояли старые «лейпцигско-тюбингенские издания» Шиллера и Гете, описанные с любовью и нежностью. Не лишним будет припомнить и то, что в юношеские годы поэт принял лютеранство.
Все это служит полезным фоном для понимания стихов "К немецкой речи" с ее образом немецкого поэта, с Церерой на губах и розами, цеплявшимися за эфес (речь шла о фон Клейсте – конечно, не Генрихе, а Эвальде, который служил в прусской армии и погиб в битве с русскими при Кунерсдорфе), и заключительной инвокацей бога Нахтигаля (что по-немецки значит "Соловей"). Ну, а хрестоматийно известные строки "Быть может, прежде губ уже родился шепот, И в бездревесности кружилися листы…" служат зачином второй строфы стихотворения, написанного холодной зимой 1934 года, и начинающегося образами немецких гениев (хочется сказать, гениев-хранителей европейской культуры):
"И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе…".
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.