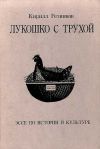Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 33 (всего у книги 45 страниц)
По ходу разговора, один из персонажей ставит вопрос, "… как же Крафт может быть патриотом, если он уже перестал в Россию верить? – К тому же немец, послышался опять голос. – Я – русский, сказал Крафт. – Это – вопрос, не относящийся прямо к делу, заметил Дергачев перебившему". Русский Крафт или немец – вскоре становится безразличным, поскольку по прошествии некоторого времени он, потеряв всякую психологическую устойчивость, застрелился. В многозначительном разговоре, произошедшем у героя романа с Крафтом непосредственно перед этим, намечаются некоторые важные для писателя интуиции, развитые потом независимо от Крафта.
Задумавший уже "отправиться в Америку" и запасшийся револьвером, немец почти кричит, что "скрепляющая идея совсем пропала. Все точно на постоялом дворе и завтра собираются вон из России, все живут только бы с них достало", а если кто сделает что-то, хоть дерево посадит, так над ним все смеются (подробнее см. начало главы четвертой (часть I). Что тут сказать… Слова Крафта находят себе параллели в "Дневнике писателя", предвосхищают монологи героев Чехова. Применимы они, к сожалению, и к психологии нашего современника.
За этим рациональным пластом есть и менее заметный, чисто мифологический. Ведь разговор происходит у Крафта, в его маленькой квартире на Петербургской стороне, а она играет исключительно важную роль в присущей "Подростку" метафизике города. Не случайно, глава завершается решением героя открыть наконец читателю свою "идею-фикс" – ту идею, с которой вошел он "в дверь петербургского романа со всеми позорными моими в нем приключениями". Кстати, толкуя о содержании этой идеи, герой замечает, что "всякий фатер в Германии повторяет это своим детям" (1, V, 1).
"Метафизика Петербургской стороны" не чужда и замыслу "Преступления и наказания". Во второй части романа, Раскольников идет в трактир, требует газету и начинает искать некое весьма нужное ему известие. "… Массимо – Ацтеки – Излер – фу, черт! а, вот отметки: провалилась с лестницы – мещанин сгорел с вина – пожар на Песках – пожар на Петербургской – еще пожар на Петербургской – еще пожар на Петербургской – Излер – Излер…"(2, VI). У читателя на минуту создается впечатление, что Петербургская сторона – вся в огне, и это вполне соответствует тому, что в огне пребывают душа и сердце Раскольникова.
Архитектурный текст Петербурга второй половины XIX века
Магистральная линия развития петербургской архитектуры эпохи ускоренного развития капитализма состояла в массовом возведении дешевых, по возможности «прилично смотревшихся» и вместительных зданий общественного назначения – больниц, учебных заведений, тюрем, народных домов, и так далее, вплоть до многоквартирных жилых домов. Ни в постановке задач, ни в выборе средств их решения наши зодчие решительно не считали себя связанными сложившимся уже в Петербурге типом застройки. В этих условиях естественным было обратиться к опыту архитекторов основных мегаполисов Западной Европы.
Между тем зодчие Мюнхена, Вены, Берлина давно уже взяли на заметку преимущества облицовки фасадов голым кирпичом, в общем традиционного для "немецкого мира", и поставили задачу его возрождения. Причин было несколько, в первую очередь те, что за счет отказа от штукатурных работ повышалась скорость строительства, снижалась его стоимость, и удлинялся срок эксплуатации без косметического ремонта. При выборе качественного кирпича, применении рельефной кладки, дополнения ее полихромными изразцовыми вставками, здание выглядело вполне прилично, что, в общем и требовалось.
Одним из первых опытов применения этой техники у нас стал комплекс зданий, заказанных фабрикантом А.И.Ниссеном архитектору В.А.Шретеру. Он состоял из доходного дома и фабрики шелковых изделий, и размещался в конце набережной Фонтанки (дом 183), выходя также на Калинкинский переулок и Прядильную улицу. При возведении комплекса, Шретер нашел уместным применить целый спектр новых идей, от особой прокладки подвалов, спасавшей от сырости – до ледника необычной конструкции, которая получила потом приз на Брюссельской выставке (устройство последнего было важно, поскольку холодильников тогда еще не было). Когда же петербургские домовладельцы узнали, что использование кирпича обошлось на 25 процентов ниже устройства привычного, штукатурного фасада – сердца их были покорены. В приемной Виктора Шретера выстроилась целая очередь заказчиков – ну, а для Петербурга настала эпоха "кирпичного стиля"[358]358
Подробнее см.: Николаева Т.И. Виктор Шретер. Л., 1991, с. 76–80.
[Закрыть].
Облик массивных зданий этого стиля резко дисгармонировал с привычной для глаз петербуржцев оштукатуренной поверхностью стен, окрашенной в светлые цвета, которая заставляла их как будто слабо светиться порой "белых ночей". Впрочем, здания «кирпичного стиля» возводились, как правило, на окраинах города, и их деловой, рациональный облик лишь подчеркивал пышность ансамблей исторического ядра города. Вот почему они постепенно были приняты коллективным сознанием петербуржцев и в основной массе сохранились в застройке города до сего времени[359]359
Краткий перечень наиболее удачных зданий этого стиля приведен в кн.: Пунин А.Л. Архитектурные памятники Петербурга: Вторая половина XIX века. Л., 1981, с. 157–159.
[Закрыть]. Совершенно аналогичный процесс происходил и в немецких городах.
Ход заимствования нового стиля легко проследить на материале творческих биографий его мастеров. Для одних – это обучение у петербургских архитекторов, принадлежавших к немецкой архитектурной школе, для других – обучение в берлинской Строительной академии, принадлежавшей к числу лучших учебных заведений на континенте, и, почти для всех – постоянный контакт с германскими архитекторами. В этом отношении нам представляется необходимым коротко остановиться на образовании Петербургского Общества архитекторов, которое оказало определяющее влияние на формирование архитектурного текста Петербурга конца XIX – начала XX века.
В бытность свою в Берлине, Виктор Шретер записался в члены Общества архитекторов и обстоятельно ознакомился с его работой. Она заключалась в обширной лекционной деятельности, издании специального журнала, организации конкурсов, на которых конкурировали проекты, представленные разными архитекторами. Все эти и многие другие формы работы давно уже установились и прекрасно зарекомендовали себя в целях повышения профессионального мастерства архитекторов и строителей, и распространения новых идей и приемов. По приезде в Петербург, Шретер пришел к выводу о неободимости перенесения всей этой структуры на нашу почву.
На первых порах, инициативная группа из восьми человек, сплошь петербургских немцев, собиралась на его квартире, по адресу: Екатерингофский проспект, близ Вознесенья, дом Голицына (N 15), квартира 8 (теперь – пр. Римского-Корсакова, дом 15). Затем к ней стали присоединяться новые члены, собрания начали проходить в более вместительных помещениях и, наконец, в октябре 1870 года последовало высочайшее разрешение на открытие Общества. Вскоре под его эгидой было налажено издание журнала "Зодчий", знакомого каждому краеведу. В свой черед, начали проводиться и архитектурные конкурсы – правда, на первых порах довольно вяло. В одном из докладов, Шретер отметил, что общее число таких конкурсов у нас было в несколько раз ниже, чем у немцев, и призывал ликвидировать отставание[360]360
Об истории Общества подробнее см.: Т.И.Николаева. Цит. соч., с. 167–202.
[Закрыть]… В целом же, нужно сделать вывод, что немецкий опыт организации профессиональной жизни был широко воспринят у нас и много способствовал постановке строительного дела в столице.
В заключение нужно сказать несколько слов и о знакомом нам здании "Петрикирхе". Каждое новое поколение петербургских немцев с пиететом приходило под ее своды – а каждое новое поколение архитекторов почитало за честь способствовать украшению храма на Невском проспекте, ставшего символом успехом и процветания немцев в Российской империи. В конце рассматриваемого нами периода, в 1895 году, под руководством выдающегося, опытнейшего архитектора столицы – Максимилиана Егоровича Месмахера, был проведен капитальный ремонт кирхи и обновление ее внутренего убранства.
Само собой разумеется, что при переоборудовании помещений, Месмахер применил разнообразные технические новшества. Что же касалось стилевого решения, то он устранил излишнее разнообразие, в пользу представлявшегося ему более уместным для данного здания "готизированного стиля со звучанием Ренессанса", характерного в первую очередь для церквей Флоренции"[361]361
Тыжненко Т.Е. Максимилиан Месмахер. Л., 1984, с.134.
[Закрыть]. Так, впрочем, и сами петербургские немцы, перерастая в особую этнопсихологическую группу, постепенно утрачивали старую идентичность, не забывая вполне о своей исторической связи с «немецким миром» (и Западной Европой в целом) – хотя и во многом переосмысливая ее заново.
Глава 4. Петроград-Ленинград в эпоху великих российско-германских войн
Значение немецкой философии для Вл. Соловьева
Анна Ахматова заметила однажды, что «настоящий, не календарный» двадцатый век начался для нее и многих ее современников только в 1914 году, с началом великой войны. Глубоко верное в психологическом отношении, это наблюдение все же осталось по преимуществу применимым к судьбе лишь российского общества. Что же касалось российской культуры, то для нее век двадцатый начался самое меньшее на десятилетие ранее календарной даты. Мы говорим, разумеется, об учении замечательного русского философа и публициста В.С.Соловьева, идеи и интуиции которого составили отправную точку для творчества интеллектуальных лидеров нашего «серебряного века».
Сын знаменитого отечественного историка, профессора Московского университета С.М.Соловьева, Владимир Сергеевич был одним из самых образованных людей своего времени. В его кругозор входила античная, средневековая и новая западноевропейская философия, необозримый корпус теологических сочинений, русская историософская и художественная литература от Чаадаева до Тютчева, и бесконечное множество школ и направлений, в своей совокупности представлявших гуманитарную традицию христианского мира.
К этому нужно добавить глубокое знакомство мыслителя с оккультной литературой последних двух тысячелетий, от ранней каббалистики до поздней алхимии, а также и личный мистический опыт, начинавшийся от глубокого переживания православной литургии и заканчивавшийся участием в спиритических сеансах, а также и непосредственным духовидением по образцу Сведенборга. Духовному взору исследователя русской культуры последней трети XIX столетия представляется, как едва ли не все нити отечественной культурной традиции – славянофилов и западников, охранителей и нигилистов, романтиков и реалистов, рационалистов и мистиков, масонов и ортодоксов, – сплелись на известное время в тугой узел в философии Соловьева – и дальше пошли врозь, в той или иной степени преображенные этим синтезом.
Вопрос, был ли знаком Соловьев с классической немецкой философией, примерно так же неуместен, как и вопрос, знаком ли был Кант или Гегель с философией Платона – и в каком именно объеме. Не будем дробить изложение на мелочи и мы. При этом среди почти бесконечного количества мыслей и интуиций, в которых Соловьев сходился с немецкими философами и свободно черпал из их трудов, мы можем выделить несколько основных, самых глубинных. К ним относится прежде всего базовая для системы Гегеля мысль о единстве мира, обусловленном постепенным разворачиванием абсолютной идеи сначала в пределах космоса, затем – на пространстве истории человечества.
В чеканной формулировке Соловьева, "космический процесс заканчивается рождением натурального человека, а за ним следует исторический процесс, подготовляющий рождение человека духовного". "Недаром Вл. Соловьев был сын историка", – замечает один из его комментаторов, – "потому-то и чувствуется постоянно Гегель в философских построениях Соловьева, что для него "историчность" была главной формой бытия, его цветением"[362]362
См.: Зеньковский В.В. История русской философии. Т.II, ч.1. Л., 1991, с.21, 65 (воспроизведение парижского издания 1950 года).
[Закрыть]. Другое дело, что Соловьев разработал свою «метаисторию» в формах, существенно расходившихся с гегелевским «панлогизмом». История философии полна таких внешних заимствований, таящих в себе глубокие расхождения.
В основе мира, а исторически – в его начале, у Соловьеве было помещено не творение мира Абсолютом, но его внутреннее разделение, в результате которого Абсолют порождает "свое другое" – иными словами, "второе Абсолютное", представляющее собой "производящее начало бытия" и корень множественности вещей. Как следствие, Абсолютное не может мыслиться отделенным от мира ни на какой стадии, что и составило суть базовой для системы Соловьева интуиции, получившей название «метафизики всеединства». Между тем, эта весьма плодотворная идея, подхваченная потом другими нашими создателями собственных систем «всеединства» – в первую очередь, о. П.Флоренским и о. С.Булгаковым – прямо восходила к Шеллингу. Строго же говоря, могла она быть прослежена и у Фихте, выработавшего учение о том, как "я" создает «не-я» в акте не творения, но «полагания»[363]363
Подробнее см.: Зеньковский В.В. Цит. соч., с. 35–40.
[Закрыть].
Наконец, для эстетики Вл. Соловьева более чем существенным было понимание искусства не как свободной игры с формами, но как теургии, в процессе которой поэт-маг провидел «душу мира», вступал с ней в сложные, почти эротические отношения и переносил обретенные знания в мир, преображая, буквально продолжая его сотворение. В этом отношении, русский философ продолжал линию мысли, развивавшуюся последовательно рядом крупнейших мыслителей, от Платона до Шеллинга. По мнению комментаторов, наиболее вероятным непосредственным источником в данном случае была традиция немецкого романтизма, в первую очередь – «магического идеализма» Новалиса – приобретшая у нас к тому времени значительную популярность[364]364
В стихах на смерть Скрябина, Вяч. Иванов удивительно точно связал одной рифмой имя «Новалис» с глаголом «повиноваться» («Он был из тех певцов (таков же был Новалис) Что видят в снах себя наследниками лир, Которым на заре веков повиновались Дух, камень, древо, зверь, вода, огонь, эфир»; курсив наш)). Добавим, что сам Новалис, в свою очередь, с вниманием и пользой изучал эстетику Шеллинга.
[Закрыть]. Поэзия и история идут «по одной орбите», – заметил герой Новалиса в программном для его творчества мистическом романе[365]365
Подробнее см.: Новалис. Гейнрих фон Офтердинген Пер. с нем. Петербург, 1922, с.159.
[Закрыть].
Именно эта последняя интуиция, поддержанная импозантным внешним обликом Вл. Соловьева, его "теургическим беспокойством", бурным романом с Софией, протекавшим в интерьерах то лондонских библиотек, то египетской пустыни и отраженном в ярких стихах, произвели наибольшее впечатление на деятелей нарождавшегося у нас символизма. "Раньше у нас возвращались к вере через философию (к догматике), или через мораль к евангелизму). Путь через искусство был новым. На него вступает отчасти Вл. Соловьев, именно в эти 90-е годы"[366]366
Флоровский Г. Пути русского богословия. Вильнюс, 1991, с. 455–456 (репринт парижского издания 1937 года).
[Закрыть]. Ну, а вскоре после того пришел черед мистических озарений юного Блока, провидевшего «Вечную Женственность» «под грубой корой бытия» – и первого цикла его стихов, представлявшего собой своеобразный часослов, без остатка посвященный поклонению «Прекрасной Даме».
Первая мировая война
Ход исторического процесса отнюдь не является монотонным. Напротив, в его течении, наряду с относительно стабильными периодами, выделяются точки, когда спектр возможных решений существенно расширяется, а будущее отнюдь не выглядит очевидным. Мы обратимся к истории подготовки и ведения великой империалистической войны, выделив в самой конспективной форме лишь несколько таких «перекрестков истории», иногда называемых в современной литературе «точками бифуркации» – и, разумеется, обратив основное внимание на русско-германские отношения.
Разделение Европы на два противостоявших блока – "Центральных держав" (во главе с Германией и Австро-Венгрией), и членов Антанты (в первую очередь Франции и России, а также позднее присоединившейся ним Великобритании) – возводится историками, как мы помним, к концу девятнадцатого столетия. При всей агрессивности германской военщины, всемерно поддерживавшейся крупной немецкой буржуазией, которая опоздала к "разделу мира" и страстно желала пересмотреть его итоги, столкновение России с "немецким миром" вовсе не было неотвратимым.
Напротив, император Вильгельм II направил все силы своей дипломатии на то, чтобы связать Россию мирными договорами с Германией и отвлечь ее внимание от европейской политической сцены. В первом отношении, мы можем вспомнить о знаменитом "свидании в Бьерке", летом 1905 года, когда Николай II, на борту своей яхты "Полярная звезда", после задушевной беседы за завтраком с Вильгельмом, взял принесенный последним текст русско-германского союзного договора и смело поставил под ним свою подпись. Пером Николая управлял страх перед революцией и вполне справедливое убеждение, что справиться с ней было бы проще всего в союзе с близким по духу и родственным по крови германским императором. Соглашение было заключено тайно, и вскоре его, к огорчению берлинского двора, пришлось денонсировать. Были и другие попытки, также инициированные немцами – к примеру, во время потсдамских переговоров 1910 года.
Во втором отношении, мы можем напомнить об упорных попытках немецкой дипломатии направить силы России на освоение дальневосточных земель. Сюда относилось предпринятое великими державами в 1900 году совместное подавление "Боксерского восстания" в Китае, в конечном же счете – и русско-японская война (в той мере, в какой она была спровоцирована интригами немцев). "Можно с уверенностью сказать, что своевременный обмен телеграммами между обоими царственными кузенами в июле 1914 года предотвратил бы мировую войну, не будь у Вильгельма II на душе того запаса горечи, которая накопилась у него за эти девять лет"[367]367
Великий князь Александр Михайлович. Книга воспоминаний \ Николай II: Воспоминания. Дневники Вступительная статья, составление, примечания и подготовка текста Б.В.Ананьича, Р.Ш.Ганелина. СПб, 1994, с.312.
[Закрыть]. Говоря так, великий князь Александр Михайлович существенно упрощал ход событий, однако же в общем и целом он был прав: война с Россией не относилась к числу приоритетов для германских стратегов.
В случае открытия военных действий на европейском континенте, предпочтительным виделся конфликт с Францией, при котором Россия была бы тем или иным способом выведена из игры. Если это не удалось бы сделать, то в дело вступал знаменитый "план Шлиффена". Согласно нему, в течение относительно долгого промежутка времени, которое требовалось России для того, чтобы провести мобилизацию своей армии (около сорока дней), надобно было быстро обрушиться на Францию, растерзать ее, оборотиться, перегруппировать войска, перебросить их на восток (используя превосходную сеть немецких железных дорог) и нанести следующий сокрушительный удар – теперь уже по России. Вступление Германии в войну на два фронта – всемерно ускоренное, с тем, чтобы, как полагали в Берлине, предупредить нападение сил Антанты – завершило достаточно продолжительное замедление в первой «ситуации выбора» и направило события по пути, предусмотренному «планом Шлиффена».
Наступление русских войск в Восточной Пруссии и в Галиции сорвало выполнение этого авантюристического плана и заставило немцев вместо обещанной "войны четырех F" (по начальным буквам немецких слов "бодрая, благочестивая, веселая и без напряжения" – "frisch, fromm, fröhlich, frei"), вести изнурительную войну на два фронта. Восточный театр военных действий оттянул себя около половины всех боеспособных частей "Центральных держав". В свою очередь, русская армия потеряла свои лучшие части, вынуждена была в 1915 году оставить Царство Польское, Галицию и часть Прибалтийского края.
Внутреннее положение также внушало все большие опасения. В этих условиях и возникла вторая «ситуация выбора». Для русской стороны, он сводился к тому, чтобы заключить сепаратный мир с Германией, распустить вслед за тем Думу и придушить как либеральное так и революционное движение – либо же навязать царю отречение от престола, передать реальную власть буржуазному правительству и довести войну «до победного конца». За каждым из этих главных вариантов стояли влиятельные силы. Их противостояние было осмыслено в марксистской историографии как противостояние «заговора царизма» и «заговора буржуазии», что, в общем, вполне соответствовало фактам.
События, как мы знаем, пошли по последнему пути, что повлекло сначала практически мирный и неоспоримо законный переход власти к отечественной крупной буржуазии в лице Временного правительства, а осенью 1917 года – к его свержению, развалу фронта и большевистскому перевороту. В создавшейся таким образом, принципиально новой ситуации, немцы могли заключить сепаратный мир с новым правительством России и обратить все свои усилия на победу над западными державами – или же, пользуясь слабостью новой власти, захватить как можно больше земель на востоке, направив для их удержания массу солдат и полицейских. Именно этот, последний вариант представился германским стратегам наиболее благоприятным в условиях «ситуации выбора», третьей по нашему счету.
Захватив к лету 1918 года огромную территорию, включавшую прибалтийские, белорусские, украинские земли, а также и Закавказье, немцы приблизились к выполнению задачи "натиска на Восток" в полном ее объеме. Поддержание этих обширных завоеваний потребовало направления на восток не менее миллиона солдат и заставило военную промышленность работать на пределе ее сил – а ведь на осень было назначено генеральное наступление на западном фронте. Не выдержав напряжения, германское государство развалилось, погребая под своими обломками династию Гогенцоллернов с ее мечтами о величии. 9 ноября 1918 года, в Германии разразилась революция, а еще через два дня в Компьенском лесу было подписано перемирие, фактически означавшее капитуляцию Германии и ее союзников.
В условиях новой, четвертой «ситуации выбора», германские военные надеялись на то, что, опасаясь дальнейшего распространения большевизма, Антанта позволит им в той или иной форме контролировать ситуацию на востоке. Действительно, в тексте Компьенского перемирия содержался пункт, согласно которому германские войска должны были оставаться на занятых ими территориях бывшей Российской империи, вплоть до замены войсками Антанты. Это фактически означало, что немцы, пусть в минимальном размере, были допущены к послевоенному разделу мира. Этот план, как известно, был сорван советским правительством, поторопившимся отказаться от Брестского договора и приступить к изгнанию немецких войск в ходе предпринятого зимой 1918–1919 года так называемого «второго триумфального шествия советской власти».
Впрочем, в Прибалтике германским стратегам удалось до некоторой степени достичь своей цели. Речи об образовании "Балтийского герцогства", премственного по отношению к средневековому Орденскому государству, конечно, уже не шло[368]368
Документы об образовании герцогства были подготовлены к маю 1918 года. По замыслу оккупантов, оно должно было возглавляться остзейскими немцами и входить в состав Германии – возможно, на правах протектората.
[Закрыть]. Однако союзники нашли возможным привлечь сохранившие боеспособность германские оккупационные части к подавлению советской власти на прибалтийских землях летом 1919 года, и установлению там независимых буржуазно-националистических режимов.
В результате великой империалистической войны, к началу 1920-х годов в Европе возникла новая, относительно устойчивая ситуация, основанная на доминации богатых стран-победительниц, включавшая и существование двух «государств-парий» – «Веймарской республики» и Советской России – пришедших на смену, сответственно, империям берлинской и петербургской.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.