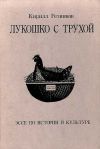Текст книги "Метафизика Петербурга. Немецкий дух"

Автор книги: Дмитрий Спивак
Жанр: Культурология, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 29 (всего у книги 45 страниц)
Немецкие образы в «Пиковой даме»
Петербургский немец стал героем другого сочинения Пушкина, важного для его творчества и центрального для «петербургского текста» в целом. Мы говорим, разумеется, о повести «Пиковая дама», написанной в 1833 году и о ее герое, молодом инженере по фамилии Германн.
Любопытно, что в первой половине повести немецкое происхождение героя поминается в каждой главе. Так, в самом начале повести, в знаменитой сцене у конногвардейца Нарумова, Германн замечает, что "не в состоянии жертвовать необходимым в надежде приобести излишнее". Это замечание вызывает улыбку товарищей, и один из них говорит прямо, что "Германн немец: он расчетлив, вот и все!". Во второй главе, мы узнаем из ремарки автора, что "Германн был сын обрусевшего немца, оставившего ему маленький капитал". В третьей главе, он пишет любовное письмо. "… Оно было нежно, почтительно и слово в слово взято из немецкого романа".
Со смертью старой графини в конце третьей главы, упоминания о немецком происхождении героя прекращаются. Зато в его облике проступают черты Наполеона. Первым о них говорит тот же Томский, который в самом начале повести напомнил о том, что Германн был немцем. Затем, в той же четвертой главе, автор говорит, уже от себя, об удивительном сходстве с Наполеоном. "Это сходство поразило даже Лизавету Ивановну", – особо подчеркнуто в тексте.
Как видим, немецкое происхождение Германна объясняло для людей, а может быть, и для него самого, присущее ему сочетание холодной расчетливости и умения решительно действовать – но только до смерти старухи. Сразу же вслед за этим в облике героя проявляются черты, присущие многим решительным и жестоким честолюбцам, а в известном смысле – и людям новой эпохи вообще ("мы все глядим в наполеоны", – заметил поэт в другом месте). Это неудивительно. Предмет интереса для Пушкина в данном случае составляла не этническая психология петербургских немцев, но духовный склад только еще появившегося у нас типа людей нового, буржуазного общества. Дальнейшая разработка этого типа, с течением времени вошедшего в силу, была продолжена, с одной стороны, Достоевским в образе еще одного молодого убийцы – Раскольникова, с другой – Гончаровым, в более положительном образе другого «русского немца», Штольца.
Впрочем, по мнению некоторых исследователей "Пиковой дамы", национальная принадлежность героя может рассматриваться не только как поверхностная, малозначительная характеристика. Так, Ю.М.Лотман обратил внимание на то, что "… Германн – человек двойной природы, русский немец, с холодным умом и пламенным воображением"[300]300
Лотман Ю.М. «Пиковая дама» и тема карт и карточной игры в русской литературе начала XIX века \ Idem. Избранные статьи в трех томах. Т.II. Таллинн, 1992, с.406 (авторская разрядка цитаты заменена нами курсивом).
[Закрыть]. Продолжая это наблюдение, мы можем заметить, что Петербург также был «городом двойной природы», сочетавшим немецкую регулярность и русский размах. В таком плане, личная участь Германна отразила будущую судьбу и того города, в котором он попытался помериться силами с судьбой – и потерпел неудачу.
Заметим, что в тексте пушкинской повести есть и прямые переклички с немецкой литературой, в первую очередь со знаменитой повестью классика немецкого романтизма Эрнста Теодора Амадея Гофмана "Счастье игрока" (она появилась в 1820 году, а уже через два года была переведена на русский язык и напечатана в "Вестнике Европы"). К примеру, в шестой главе "Пиковой дамы" Германн, узнавши секрет графини, думает о поездке в Париж, чтоб тамошних игорных домах "вынудить клад у очарованной фортуны". Герой Гофмана выигрывает свои первые большие деньги как раз в Париже. "На добытый игрою изрядный капитал заложил он свой собственный банк, а так как счастье его не прерывалось, то в короткое время банк его стал самым богатым в Париже"[301]301
Гофман Э.Т.А. Счастье игрока \ Idem. Избранные произведения в трех томах Пер. с нем. Т.II. М., 1962, с.86.
[Закрыть].
Отправляясь играть, он думает, что "… одна такая ночь вызволит меня из нужды, избавит от мучительной необходимости быть в тягость друзьям; таково веление судьбы, и мой долг ему следовать". Положительно, Германн понял бы этого человека с одного слова. Мы не будем лишать читателя удовольствия освежить в памяти обе повести, немецкую и русскую, и проследить другие переклички между ними, а они есть. Наш путь лежит к "Медному всаднику" – написанной в том же, 1833 году, поэме, составившей краеугольный камень "петербургского текста".
Немецкие образы и влияния в «Медном всаднике»
Нужно сказать, что прямых указаний, существенных для нашей темы, в коротком тексте пушкинской «петербургской поэмы» практически нет. «Приют убогого чухонца» и шведы, которым собрался грозить Петр I, встречаются уже во Вступлении – но немцам в нем, как и в дальнейшем тексте поэмы, места не нашлось.
Оговоримся, что в первой части царь Александр I посылает своих генералов "спасать и страхом обуялый И дома тонущий народ" (строки 218–219 канонического текста). В четвертом авторском примечании к поэме указано, что речь здесь идет о графе Милорадовиче и генерал-адъютанте Бенкендорфе. Последнее имя принадлежало известному петербургскому немцу.
Кроме того, в рукописи поэмы "Езерский", подготовительной к "Медному всаднику", Пушкин точнее определяет национальную принадлежность возлюбленной героя поэмы, несчастного Евгения: "… Влюблен Он был в Мещанской по соседству В одну Лифляндочку…"[302]302
Пушкин А.С. Езерский \ Idem. Медный всадник. Л., 1978, с.97.
[Закрыть]. Вот, пожалуй, и все.
О чем же это говорит? Разве о том, что среди приближенных русского царя были преданные ему остзейские дворяне, а среди подданных – остзейские мещанки, многие из коих были совсем небогаты. Мещанская улица в Коломне была одним из мест компактного проживания петербургских немцев умеренного достатка, улицей "табачных и мелочных лавок, немцев-ремесленников и чухонских нимф", как писал Гоголь в одной из своих "петербургских повестей", о которой нам предстоит еще говорить.
Немцы в поэме были бы, действительно, ни к чему. Достаточно и "окна в Европу", через которое они были видны и досягаемы не хуже других. Вместе с тем, немецкая литератера была к тому времени настолько богата, что скрытых перекличек с ней можно насчитать немало. Укажем лишь на одну. Оказывается, сведения о петербургском наводнении 1824 года, которое описано в "Медном всаднике", дошли до Гете – и, более того, произвели на него сильное впечатление. По мнению литературоведов, это известие "дало ему творческий импульс для завершения "Фауста" – подсказало мотив борьбы человека с морем"[303]303
Эпштейн М.Н. Парадоксы новизны: О литературном развитии XIX–XX веков. М., 1988, с.48 (цитированный автор ссылается на выводы появившегося в 1950 году, более раннего исследования Б.Геймана).
[Закрыть].
Первая часть "Фауста" появилась в печати в 1808 году, довольно скоро приобрела известность у нас и привлекла внимание молодого Пушкина. Известно, что в 1825 году русский поэт написал вариацию на ее темы, в первой публикации озаглавленную "Новая сцена между Фаустом и Мефистофелем". Вторую часть Гете опубликовал гораздо позже, лишь в 1831 году. Было бы вполне естественным, если бы эта литературная новинка, почти сразу дошедшая до Петербурга, привлекла внимание Пушкина и была принята им во внимание при работе над своей поэмой о наводнении. В любом случае, как верно заметил М.Н.Эпштейн в цитированной работе, "то, что Гете во второй части "Фауста" и Пушкин в "Медном всаднике" исходят из одного исторического явления, еще резче выявляет разницу их художественных концепций".
Нужно заметить и то, что "Медный всадник" вошел в коллективном сознании петербуржцев в круг издавна бытовавших на приневских и приладожских землях легенд и преданий о всаднике-первопредке и "жертве коня". Нам уже доводилось более подробно рассматривать эту тему в контексте финской метафизики Петербурга. Связь эта была не чуждой и творческому сознанию А.С.Пушкина. Не случайно в тексте "Медного всадника" прослеживаются некоторые схождения с глубинной структурой написанной за одиннадцать лет до него "Песни о вещем Олеге".
Между тем, среди прототипов последней, литературоведы усматривают и немецкий – а именно, балладу Фридриха Шиллера "Граф Габсбург". В этой балладе классик немецкой поэзии передал древнюю легенду об основателе династии императоров Священной Римской империи германской нации. Согласно легенде, юный Рудольф фон Габсбург уступил своего коня священнослужителю, спешившему со святыми дарами к умиравшему нищему, обретя в награду корону. Посредником в знакомстве Пушкина с немецкой балладой был, как обычно, Жуковский. В 1818 году он завершил русский перевод шиллеровой баллады и озаглавил его, соответственно, "Граф Гапсбургский".
"И пастырю витязь коня уступил
И подал ноге его стремя,
Чтоб он облегчить покаяньем спешил
Страдальцу греховное бремя".
Перевод, написанный монотонным, но звучным амфибрахием с чередованием четырех – и трехстопных стихов, привлек внимание молодого Пушкина. Прошло четыре года – и из-под его пера вышла написанная тем же размером баллада о древнем варяжском князе – фактическом основателе первой русской династии[304]304
Мы говорим так, поскольку Рюрик был в историческом отношении персонажем очень неопределенным, в известной мере фиктивным.
[Закрыть]. Сопоставление благочестивого немца с варягом-язычником было скорее полемичным. Однако, как отмечают комментаторы, переосмысление текста Жуковского входило в данном случае в задачу Пушкина[305]305
См.: Семенко И. Примечания \ Жуковский В.А. Избранные сочинения. М., 1982, с.429.
[Закрыть]. Ну, а затем в творческом сознании поэта стал вырисовываться и замысел «Медного всадника».
Как видим, детальный анализ текста этой поэмы и предыстории ее создания вполне позволяет установить некоторые схождения пушкинского замысла с образами таких классиков немецкой словесности, как Гете и Шиллер. Ну, а житель теперешнего Петербурга, прогуливаясь по Столярному переулку, принадлежавшему в старину к местам компактного проживания петербургских немцев, может заметить на уровне глаз скромную мраморную табличку с коротким текстом, составленным на немного уже устаревшем немецком языке, которая по сей день напоминает о наводнении, давшем первоначальный импульс к созданию «Медного всадника»[306]306
Памятная плакетка укреплена на стене углового «дома Раскольникова» (номер 5 по Столярному переулку). Ее полный текст гласит: «Gedenke des hohen Wassers am 7. November 1824».
[Закрыть].
Остзейский текст петербургской литературы
В первой половине XIX века в петербургской литературе появился ряд историко-авантюрных сочинений, написанных на остзейском средневековом материале. В романтической повести «Гуго фон Брахт», вышедшей из печати в 1823 году, Н.А.Бестужев поведал о благородном эстляндском рыцаре, ушедшем в крестовый поход. По возвращении «к туманным и диким берегам Эстонии», Гуго обнаружил, что вассалы его предали, а эстонские аборигены восстали. Обосновавшись на лесистом острове Эзель (теперешнем Сааремаа), рыцарь стал разбойником и отдался мести. В конце концов герой погибает. «Одни только развалины замка Зонденбурга, будто печать отвержения, посреди цветущей природы, вопиют гласом немолчным свою страшную повесть»[307]307
Бестужев Н.А. Гуго фон Брахт. Происшествие XIV столетия \ Русская историческая повесть. Т.I. М., 1988, с.145.
[Закрыть].
Младший брат писателя, Александр Бестужев, снискавший литературную известность под псевдонимом Марлинский, в 1825 году опубликовал повесть "Ревельский турнир". Текст ее был насыщен средневековыми эстляндскими реалиями. Автор с большим удовольствием и знанием дела описывал, как толпы рыцарей и мещан заполнили Lang – и Breitstrasse – центральные улицы старого Ревеля (Таллина), как влюбленный простолюдин Эдвин, переодевшись, принял участие в рыцарском турнире и одержал победу над всеми. Рыцари отказались признать его победителем: "разве в чем другом, а в тщеславии лифляндские рыцари не уступали никаким в свете и всегда – худо ли, хорошо ль – передразнивали этикет германский".
Однако же члены братства шварценгейптеров ("черноголовых") вступились за храброго юношу, избрали его командором, и даже пошли врукопашную. Ведь тогда уж "раздор царствовал повсюду; слабые подкапывали сильных, а богатые им завидовали… Час перелома близился: Ливония походила на пустыню" (рассказ приурочен к XVI столетию)[308]308
Бестужев-Марлинский А.А. Ревельский турнир \ Ibidem, с.156, 173.
[Закрыть]. Слава Богу, никто не был убит до смерти. Барону Бернгарду фон Буртнеку все же пришлось, скрепя сердце, отдать Эдвину руку своей прекрасной дочери Минны – королевы турнира.
В написанной в то же время, но фактически дошедшей до читателя в 1827 году повести "Замок Эйзен", Александр Бестужев-Марлинский рассказывал об эстляндском бароне Бруно фон Эйзене. Сходив в Палестину воевать гроб Господень, сведавшись с "египетскими чародеями" – они, по слухам, заговорили доспехи рыцаря – Бруно обосновался в замке Эйзен, близ северного эстонского побережья. Место было удобное: в тридцати верстах на восток – Нарва, "а за ней и русское поле… Как не взманит оно сердце молодецкое добычей? Ведь в чужих местах синица лучше фазана. Вот как наскучит сидеть сиднем за кружкою, так и кинется он к границам русским"[309]309
Бестужев-Марлинский А.А. Замок Эйзен \ Ibidem, с.196.
[Закрыть].
Можно было грабить и суда новгородские, шедшие с товарами Финским заливом в Ревель. До поры до времени удача сопутствовала рыцарю, но затем отвернулась. Зря не послушал он чухонскую колдунью, к которой наведался для гадания о будущем накануне одной вылазки. После всяческих романтических похождений, барон умирает, брат-близнец мстит за него, а потом приходят русские и равняют замок Эйзен с землей. В заключение автор подчеркивает, что вся эта мрачная история была извлечена им на свет Божий из хроник ливонских. Что же до камней замка барона фон Эйзена, то из них местные жители сложили церковь. Едучи ревельским трактом, ее можно видеть и по сию пору, напоминает читателю Марлинский: "Это ее глава мелькает между деревьями".
В 1828 году, Ф.В.Булгарин опубликовал свою повесть «Падение Вендена». Действие происходит во время ливонского похода царя Ивана IV, в основном под стенами Ведена (теперешнего Цесиса в северной Латвии). Только в самом конце сцена перемещается в древний Юрьев (сегодняшний Тарту). Там грозный царь решает судьбу короля Магнуса Ливонского предавшего его – и, к общему удивлению, милует знатного пленника. Нам уже доводилось коротко говорить в предыдущем изложении о чухонском вещуне Марко, тайно снующем между войсками. «…Мне известно, что он пользуется большим уважением в Эстляндии», – замечает один из героев повести, – «что не только поселяне, но даже рыцари и духовные прибегают к нему в трудных обстоятельствах жизни и что все его страшатся и почитают…»
Автор рассказывает также о стойкости немецких рыцарей, оборонявших город, и о коменданте крепости, Генрихе Бойсмане, умершем с именем Бога и Ливонии на устах[310]310
Булгарин Ф.В. Падение Вендена. Историческая повесть (Действие в XVI веке) \ Ibidem, с.227, 245.
[Закрыть]. Разумеется, что, в соответствии с законами романтического жанра, автор находит место и для описания любви знатного русского пленника и прекрасной лифляндки, жившей в детстве в московской Немецкой слободе и потому объяснявшейся на русском языке.
Мы не будем утомлять читателя пересказом сочинений других петербурских авторов, трактовавших остзейскую тему, поскольку общие их черты представляются ясными. Петербург был основан немногим более ста лет до их написания. Формально, в истории города не было ни рыцарских орденов, ни турниров, ни других средневековых реалий. Однако совсем недалеко, буквально рукой подать, за древней Нарвой начинались земли, с древних времен принадлежавшие к германскому миру, где это все было – от рыцарей, предки которых принимали участие в крестовых походах до купеческих гильдий.
По праву завоевателя, Петр I присоединил эти земли. Как следствие, рано или поздно должна была возникнуть литературная школа, которая рассматривала бы остзейские земли как историческое и географическое преддверие Петербурга – и, соответственно, разрабатывавшая остзейский текст в составе «петербургского текста». Любопытно, что А.С.Пушкин, в творчестве которого были разработаны магистральные образы и мотивы «петербургского текста», поначалу отнесся скептически к проекту такого расширения. В письме к Александру Бестужеву, написанном после прочтения повести «Ревельский турнир», он писал: "Твой «Турнир» напоминает W.Scott'a. Брось ты этих немцев и обратись к нам, православным"[311]311
Цит. по: Беляев Ю.А. Комментарии \ Ibidem, с.706 (курсив наш).
[Закрыть].
Нужно заметить, что, противопоставляя немцев и "нас, православных", поэт был несколько некорректен по отношению к своим собственным предкам. Мы ведь привыкли думать о них, как о русских столбовых дворянах – либо же поминать такого колоритного персонаж, как "арап Петра Великого". Между тем, любимец Петра I, Абрам Ганнибал, был многим обязан своему пребыванию в Эстляндии. В бытность свою в Ревеле он женился вторым браком на местной девице, по имени Христина Регина фон Шеберг. Отец Регины, Матвей, был капитаном армии Карла XII, и по национальности, видимо, шведом. По матери же Христина принадлежала к немецкому рыцарскому роду Альбедиль (Albedyl) – одному из старейших в Лифляндии. От этого брака в Эстляндии родились трое сыновей, одним из которых был дед поэта – Осип Абрамович Ганнибал[312]312
Подробнее см.: Леец Г. Абрам Петрович Ганнибал. Биографическое исследование. Таллин, 1984, с.93, 147.
[Закрыть].
Как следствие, наш великий поэт имел полное наследственное право предаваться фантазиям не только о "негрских князьках", к роду которых принадлежал Абрам Петрович Ганнибал, но и о бледнолицых ливонских рыцарях, к коим возводила свою родословную по матери Христина Регина фон Шеберг. Поэт знал о своей прабабушке, и даже передал в наброске автобиографии ее высказывание о муже, сохраненное семейным преданием: "Шорн шорт, говорила она, делает мне шорни ребят и дает им шертовск имя"[313]313
Пушкин А.С. Начало автобиографии \ Жизнь Пушкина: Переписка; Воспоминания; Дневники. Т.I. М., 1986, с.72 (курсив Пушкина).
[Закрыть]. Слова эти замечательны верно переданным немецким акцентом и тяжеловатым прибалтийским юмором. Однако история бедных и воинственных остзейских предков, несмотря на весь рыцарский антураж, в общем и целом не давала фантазии поэта такого простора, как биография абиссинского прадеда. «Дворян-то много, а негр – один», – резонно обмолвился в известном очерке о поэте А.Д.Синявский[314]314
Абрам Терц (Синявский А.Д.). Прогулки с Пушкиным. СПб, 1993, с.102 (перепечатка парижского издания 1989 года).
[Закрыть]
Впрочем, как это часто случалось с Пушкиным, повесть Марлинского задела некие струны в его творческом воображении и продолжала звучать в нем долгие годы. Лишь через десять лет после прочтения "Ревельского турнира", Пушкин вернулся к его сюжету и набросал отрывок исторической пьесы, известной нам как "Сцены из рыцарских времен". В ней мы встречаем и молодого честолюбивого простолюдина по имени Франц, который влюблен в прекрасную, но недосягаемую Клотильду, и рыцарей, едущих на турнир, и народное возмущение, во главе которого встал Франц.
Действие, правда, происходит не в Эстляндии, а в Германии, однако сходство обоих текстов настолько велико, что известный наш литературовед М.П.Алексеев нашел в свое время возможным говорить о наличии связи между исторической повестью Бестужева-Марлинского и неоконченной драмой Пушкина[315]315
См.: Беляев Ю.А. Комментарии \ Русская историческая повесть. Т.I. М., 1988, с.706.
[Закрыть]. Спору нет, набросок Пушкина повторял общие места романтической литературы в целом. Однако, на основании приведенных соображений, представляется возможным отнести его к кругу текстов, составивших то, что мы в первом приближении назвали остзейским текстом петербургской литературы.
Петербургские немцы у Гоголя
«В литературе 30–40 гг. XIX в. складывалась традиция жанра петербургской повести, на магистральной линии развития которой стоят произведения Пушкина, Гоголя, Достоевского. Между „Пиковой дамой“, Медным всадником» Пушкина и «Бедными людьми», «Двойником» Достоевского расположились пять знаменитых повестей Гоголя"[316]316
Дилакторская О.Г. Художественный мир петербургских повестей Н.В.Гоголя \ Гоголь Н.В. Петербургские повести. СПб, 1995, с.207.
[Закрыть]. В отличие от Пушкина и Достоевского, Гоголь, как мы знаем, не нашел целесообразным определить цикл своих повестей как петербургский. Тем не менее, метафизика Петербурга получила в них весьма яркое выражение.
"В "Невском проспекте" Гоголь полнее и глубже всего высказался о Петербурге", – заметил наш замечательный литературовед Н.П.Анциферов[317]317
Анциферов Н.П. Душа Петербурга. Л., 1990, с.51 (воспроизведение издания 1922 года).
[Закрыть]. Действительно, сам писатель, при составлении своего первого собрания сочинений, поместил эту повесть на первое место, непосредственно перед вторыми редакциями «Носа» и «Портрета». Тем любопытнее посмотреть, какое место было уделено в ней образам петербургских немцев.
После широкой экспозиции, выведшей на Невский проспект представителей всех, кажется, социально-психологических типов тогдашнего общества и воздания иронической хвалы значению этой центральной во всех отношениях улицы, Гоголь резко меняет направление своего взора, выхватывая из толпы двух ни в каком отношении не примечательных молодых людей.
" – Стой! – закричал в это время поручик Пирогов, дернув шедшего с ним молодого человека во фраке и плаще. – Видел?
– Видел, чудная, совершенно Перуджинова Бианка
– Да ты о ком говоришь?
– Об ней, о той, что с темными волосами. И какие глаза! Боже, какие глаза! Все положение, и контура, и оклад лица – чудеса!
– Я говорю тебе о блондинке, что прошла за ней в ту сторону…".
Что касалось дивной брюнетки, напомнившей романтическому юноше мадонну на фреске средневекового итальянского художника, то Гоголь сперва проследил путь этой дамы до ее грустного обиталища, привел туда и художника Пискарева, чтобы затем повести его к умопомешательству и гибели. Лишь после того, Гоголь возвращает внимание читателя к поручику Пирогову – и к той даме, блондинке, которая обратила на себя его внимание. В отличие от истории художника, тут уже нет ничего романтического.
Блондинка оказывается немкой, женой жестяных дел мастера, имеющего жительство в Мещанской улице. Муж, по фамилии Шиллер, пьян с утра, как поросенок, еле держится на ногах и порет чепуху. Компанию ему составляет не менее пьяный сапожник, по фамилии Гофман – не знаменитый писатель Гофман, как специально оговаривается Гоголь, но простой сапожник. Оба препираются на чистом немецком языке, Пирогову решительно незнакомом. Более того, Шиллер хамит поручику в глаза, говоря, что он, Шиллер, есть настоящий швабский немец, и у него в Германии есть свой король, который может его произвести в офицеры ну хоть сейчас. Вся эта пьяная сцена, следующая за трагической историей любви и смерти художника Пискарева, вызывает у читателя неприятное, даже брезгливое чувство.
Дальнейшее, впрочем, уже ни в какие рамки не вмещается. Как помнит читатель, поручик Пирогов продолжает захаживать к прекрасной немке и ухаживает за ней. Ухаживание заканчивается неожиданным возвращением мужа, тупого и наглого Шиллера, со товарищи – не писателя Шиллера, но "известного Шиллера", жестяных дел мастера, как издевательски подчеркивает автор (курсив наш). Более того, в тексте отмечено, что пришедшие представляли собой «петербургских немцев» во всей их красе и силе. Ну, а далее следует знаменитая сцена порки пьяными немецкими сапожниками добродушного русского офицера – порки, оставшейся совершенно безнаказанной.
После "секуции" поручик заходит в кондитерскую, съедает слоеный пирожок, за ним другой – и как-то забывает о неприятном происшествии, только что с ним случившемся… Автор же мысленно воспаряет над Городом, полнящимся иллюзий и обманов, превращает его "в гром и блеск", обрушивает с мостов "мириады карет" и видит демона, который "зажигает лампы для того только, чтобы показать все не в настоящем свете".
История поручика Пирогова почти неправдоподобна. В реальности немцы с большой вероятностью пошли бы в Сибирь по этапу – сам же поручик, скорее всего, пристрелил бы их на месте, или же застрелился сам. Большинству комментаторов до сих пор непонятно, при чем здесь и игра фамилиями знаменитых немецких писателей. Не возлагать же на Шиллера и Гофмана, которым поэтика Гоголя, кстати, была многим обязана, ответственность за безобразия "буйных тевтонов" с Мещанской улицы. Вообще немецкие литературоведы поминают гоголевское описание художеств "петербургского Шиллера" с некоторым недоумением, и даже неудовольствием[318]318
Ср.: Дальман Д. Петербургские немцы в XVIII столетии: крестьяне, ремесленники, предприниматели" \ Немцы в России: Петербургские немцы. СПб, 1999, с.156.
[Закрыть].
Все это так. Однако нельзя не заметить, что первое появление "глупенькой немки" на Невском проспекте тщательно подготовлено. В абзаце, предшествующем цитированному нами восклицанию поручика Пирогова, немецкая тема звучит дважды. Сначала замечено, что по Невскому имеют обыкновение часто прогуливаться всяческие коллежские регистраторы, в то время как титулярные или надворные советники сидят дома, ибо у них есть либо жены, либо "кухарки-немки". Затем сказано о русских артельщиках и купцах, тоже любящих пройтись по Невскому проспекту, "всегда в немецких сюртуках" и почему-то целой толпой. Между тем, до этого немцы в тексте не упоминаются (курсив в обоих случаях наш).
С образом Шиллера дело обстоит тоже не так просто. Как отмечают комментаторы Гоголя, сей классик немецкой литературы был по рождению швабский немец и подданный Вюртембергского короля, в войсках которого довелось послужить его отцу, военному лекарю, и именно в офицерском чине[319]319
Дилакторская О.Г. Цит. соч., с.266.
[Закрыть]. Положим, что вюртембергские уроженцы были известны в Петербурге и помимо Шиллера, как следствие того известного обстоятельства, что они составили значительную часть потока переселенцев, прибывших к нам из Германии по приглашению Екатерины II. Как нам уже доводилось говорить выше, немало швабских семей обосновалось в ближайшей к Санкт-Петербургу, Ново-Саратовской колонии. Не было бы удивительным, если бы кто-то из них к николаевским временам перебрался в город и занялся ремесленным делом. Впрочем, историки немецкой литературы помнят, что молодой Фридрих Шиллер отличался известной агрессивностью, и даже был задержан в военной академии сверх положенного срока «для обуздания буйного нрава»[320]320
Гуляев Н.А., Шибанов И.П., Буняев В.С., Лопырев Н.Т., Мандель Е.М. История немецкой литературы. М., 1975, с.165.
[Закрыть].
Нежнейший Теодор Амадей Гофман отличался совсем не драчливостью, но скорее слезливостью. Однако программная для его творчества новелла "Кавалер Глюк" открывалась картиной гуляния берлинцев по проспекту Унтер-ден-Линден и наблюдавшего за их пестрым потоком автора, предававшегося своим мечтам. Здесь можно видеть экспозицию, обратившую на себя внимание молодого Гоголя и нашедшую отражение во вступительном разделе его "Невского проспекта". Заметим, что эта повесть первоначально была включена Гоголем в состав сборника "Арабески", название и некоторые аспекты поэтики которого прямо соотносились с гофмановскими "Фантазиями в манере Калло", открывавшимися упомянутой выше новеллой "Кавалер Глюк".
Если рассказ о судьбе художника Пискарева еще может быть истолкован в романтическом духе, как столкновение чистого духа с жестокой реальностью, то приключение поручика Пирогова вводит нас в совершенно иной мир. Здесь сталкиваются два «новых человека», два «грядущих хама» – один «из благородных», скорей даже из «среднего класса общества», как поручика аттестовал сам Гоголь, второй же – из городского простонародья.
Как известно, Ф.М.Достоевский увидел в первом "страшное пророчество гения", первый набросок психологического типа, необычайно распространившегося с тех пор по просторам Руси. Что же касалось второго, то время его пришло позже, хотя тот же Достоевский рассмотрел и обрисовал некоторые из его характерных черт уже в "Бесах". Тип этот принадлежал не столько мирку "петербургских немцев", сколько "петербургской эпохе" в целом, уже начинавшей клониться к закату.
Немец же Гоголю понадобился, скорее всего, просто затем, чтобы сделать историю сечения поручика Пирогова чуть более правдоподобной. Русский ремесленник, недавний выходец из деревни, в которой господствовало еще крепостное право, с детства согнутый в три дуги и привыкший получать от господ по морде, если и решился бы на насилие по отношению к офицеру, то не в своей квартире, не в центре Петербурга, и, разумеется, не по причине обиды за то, что тот поцеловал его жену – а если уж взялся бы, то не за прутья, а за топор.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.