Текст книги "Форсирование романа-реки"
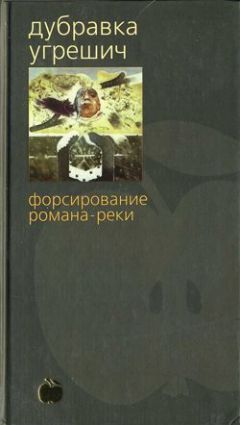
Автор книги: Дубравка Угрешич
Жанр: Современная проза
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 16 страниц)
MERCREDI, le 7 mai
1
Министр поэтов презирал. Они его уважали. Покупались на его искреннее равнодушие к ним. Поэты похожи на детей. Они не выносят только одного. Равнодушия. Пршу он выделял из всех. Конечно, Прша был гадом и подхалимом, но он, по крайней мере, умел ловко торговать своим «товаром» – даже на фабриках. Министр презирал поэтов еще и потому, что основы его «поэтического» образования сформировались в ранней молодости и дремали в нем до сих пор, как долгоживущий вирус. Что за шлягеры звучали тогда! Что это были за слова! Но сейчас лишь Ванда стонала от восторга и повизгивала, будто ее щекочут, когда он напевал ей «Я люблю», «Твоя маленькая ручка», «Любят лишь раз», «Мучо-мучо», «Домино» и другие вещи… А эти нынешние под видом стихов пытаются навязать черте что. Спасибо. У него есть своя поэзия. Правда, когда Министр учился в педагогическом, он кое-что прочитал. А потом спокойно все забыл. Значит, того оно и стоило. Честно говоря, литературное ремесло он считал чем-то несерьезным. За исключением Андрича. Это другое дело. Его, кстати, и весь мир признал. При этом, правда, Министр любил иногда нокаутировать поэтов «по-поэтически». Их же оружием. Как-то пришел к нему один такой, и ныл, и ныл: и квартиры, мол, нет, и жена, мол, и дети, и гонорары, мол, маленькие, и все в таком роде. А Министр тут глянул на это несчастное «поэтическое создание» и тихо так резюмировал: «Что делать, все мы пешки на шахматном поле жизни!» У того просто челюсть отвисла…
А тут еще этот чех! Ни дня без нервотрепки.
– Представляешь, киска, – сказал Министр, – закрылся в номере и не отзывается. А вчера угрожал Прше самоубийством.
– Зачем кончать с собой какому-то чеху? – спросила Ванда.
– Откуда я знаю. – Министр махнул рукой. – Эти писатели просто как дети, ей-богу.
– С другой стороны, наверное, есть какая-то причина, котик, – сказала Ванда сочувственно, обняла Министра и чмокнула его в плечо. Она собралась было перечислить причины, из-за которых покончили с собой некоторые известные люди, правда не чехи, но Министр рассеянно отстранился и почесал то место, в которое она его только что чмокнула.
– Говорит, что у него украли роман, шедевр! Очередной псих! А наши даже не задумываются, кого приглашают!
– Котик, это вполне понятная причина! – сказала Ванда и лизнула Министра в ухо.
– Только бы не вляпаться с ним в какие-нибудь неприятности, – сказал Министр и поежился.
– А когда ты все узнаешь, котик?
– Подожду, Прша должен позвонить из «Интерконта». Он там сейчас барабанит в дверь…
Ванда уже представила себе, как толстый чех (в ее воображении все чехи обязательно были толстыми) берет галстук (синий с красными полосками), делает удавку, перебрасывает свободный конец через люстру в гостиничном номере, проверяет, прочно ли, затем…
– Котик, – шепнула Ванда и зажмурилась от ужаса. Рука ее скользнула вниз в поисках министерского жезла. Однако нашла усталую, обмякшую висюльку.
Жалко. Ванда любила это дело. Оно с грубой головокружительной скоростью выбрасывало ее из серой повседневности на веселую, волшебную орбиту. Мужчины, как по знаку фокусника, преображались в совершенно другие существа, гораздо больше соответствовавшие ее внутреннему… кредо. Ванда все это дело воспринимала как какой-то эротический Диснейленд. Ее возбуждали сказочные метаморфозы. Мужские члены, превращавшиеся из бесполезных мясистых мешочков в гладкие, блестящие, розовые жезлы; груди, надувавшиеся, как воздушные шарики; соски, выскакивавшие, как на пружинке; упругие женские бедра, тут же расслаблявшиеся, как от прикосновения волшебной палочки. Это были единственные игрушки, оставшиеся у взрослых, думала Ванда. Но и они, похоже, все чаще и чаще ломались в ее руках.
Отвернувшись к стене, Ванда покусывала свой большой палец и с грустью думала о том дне, когда игрушки придется забросить в дальний угол.
– Да ничего с ним не случится, котик… – сказала она тихо.
Вид грустной, сникшей Вандиной попки сделал свое дело. Министр со спины обнял Ванду, и началась медленная, сладкая тряска. Казалось, они едут в старом маленьком поезде, прижавшись друг к другу, и пар отовсюду валит, чух-чух, дым труба извергает, чух-чух, в котле вода так кипит, чух-чух, как кровь молодая играет, чух-чух, ох, кочегар, заварил ты кашу, чух-чух, в маленьком поезде нашем…
– Ох-ах-ох-ах, – ритмично пыхтела Ванда, как старая добрая паровая машина. – Чух-чух… – поддавал пару Министр, и поезд потихоньку взбирался в гору. Ох-ах-ххххххх… – зашипела Ванда как раз в тот момент, когда зазвонил телефон, объявивший остановку. Окутанная теплым паром Ванда потихоньку замедляла ход и сосала свой большой палец, как будто собирая с него последние капельки удовольствия…
– Жив, киска, – подал голос Министр из коридора и опустил трубку. В тот же момент безнадежно опустился и его темно-розовый жезл.
– Надо же… – пробормотал Министр, правда осталось неясным, к чему это относилось.
2
– Эна, Эна… – шептал Ян в затылок Эне. – Kde jste?
Эна чувствовала его теплое дыхание. В этот миг она была где-то далеко, она думала о том, какой ограниченной стала почему-то жизнь. Всего стало как-то меньше. Может быть, это начало старости. Первые признаки она заметила на своем теле. Сначала одна морщина, затем две… Мускулы лица чуть ослабли, губы немного поджались, как от чего-то горького, и от них протянулись две морщинки, лицо навсегда потеряло готовность к мгновенной улыбке. Она все замечала, однако не бунтовала и не страдала. Она смотрела на это как бы со стороны, откуда-то изнутри, где существовала другая Эна. Она страстно жаждала только нежности. А ее больше не было. Не было прикосновения чужой руки, которая бы сама собой, сыто и бесцельно, блуждала по ее телу. Нежность теперь продолжалась недолго, ровно столько же, сколько и химия возбуждения. Она боялась, что жажда нежности превратится для нее в наказание. Отец ее дочери однажды сказал ей: «Подумай о шлафроке, в который ты завернешься, когда тебе однажды станет холодно…» Именно так он и сказал, употребив это безобразное слово «шлафрок». Десятилетняя дочь – это не шлафрок, да она и не может им быть. А ей уже сейчас, в ее тридцать шесть (всего лишь!), все чаще бывает холодно.
– Эна, где ты? – шептал Ян.
– Я здесь… – сказала тихо Эна и повернулась к Яну.
– Эна, Эна… – шептал Ян, целуя ее пальцы.
Теплыми губами он скользил поцелуями по ее руке вверх, добрался до плеча и остановился, глубоко вдыхая ее запах.
– Ježiš Marijá, vy jeste tak strašne penkná… Nadherná… Vla na… Ena, miláčku… Jest tak hedvábná, vy muj vodni kvetina, muj leknin, zeiená tropická liano, ja vas miluju…
Эна слушала, как шуршат его слова, и улыбалась. Ян был ее долгожданной второй половинкой. Близнецом. Все было так, как и должно быть, все совершенно совпало, все линии. Близнецы сразу узнают друг друга, по взгляду, голосу, жестам. Она узнала его в тот же миг, когда случайно (случайно ли?) оказалась с ним рядом. В тот же миг, когда он первый раз посмотрел на нее, она потянула его, смешного и смущенного, за рукав, чтобы он сел.
– A cto já? – спросил Ян, садясь. – Já jsem jako knedlik, ne?
– Как что?! – улыбнулась Эна.
– Jako knedlik, – повторил Ян.
– Как кнедлик?
– Ano, – серьезно подтвердил Ян.
Эна рассмеялась, вместе с ней и Ян. Он смеялся мелким смехом, вполголоса и, размахивая руками, пытался пересказать Эне, как ехал в поезде с какой-то пожилой женщиной, которая, услышав, что он чех, с важностью человека компетентного в географии сказала: «О, знаю – кнедлики!»
Ян смеялся, пытаясь представить Зденку, себя и четырех их девочек как бледную, сделанную из теста семью. А потом ему пришло в голову, что это дурацкое сравнение вовсе не так уж бессмысленно, потому что именно с «теста» все и началось! Зденке было пять лет, а ему четыре, когда они играли в «куличики». Крышечкой от зубной пасты (паста называлась «Perlicka»!) он аккуратно делал «куличики» на Зденкиной голой попе. Он прижимал к ней пластмассовую крышечку так, что появлялись красные кружочки, а нежная кожа внутри них вспухала. Ян и Зденка занимались «куличиками» до тех пор, пока об этом не узнали родители, и их обоих здорово выдрали. А потом Зденкина семья переехала из Колина в Прагу, и он ее забыл…
Эна, свернувшись на постели, улыбаясь, слушала Яна. Она понимала общий смысл, и ей не хотелось прерывать его ради отдельных слов. Он сидел, поджав ноги, и оживленно рассказывал…
Они снова встретились весной шестьдесят восьмого, он был смущенным провинциалом, студентом первого курса, а она пражанкой, воспитательницей в детском садике. Зденка тогда с игривой двусмысленностью в голосе сказала: «Ну что, Янек, опять будем делать „куличики"?» И наделали. Четырех девочек. Как будто бы инстинкт подсказал Зденке, что придут русские и поэтому чехов должно быть как можно больше.
Ян теперь говорил все более возбужденно, как будто ему впервые за долгое время дали возможность выговориться и он боится ее потерять. Эна слушала его, напрягая все внимание, пытаясь понять, а потом, потрясенная силой этой неожиданной исповеди, уже не стремилась понять, а просто неподвижно и тихо наблюдала за Яном, держа его за руку.
Они быстро поженились, потому что Зденка сразу же оказалась беременной. Воспитательница и поэт. У него уже тогда вышел сборник стихов, правда в Колине, но все-таки это был сборник. И почему он сейчас так иронически подчеркивает – «воспитательница»? Или это было не так? Он был робким, неловким, да и стихи не бог весть какими. Зденка же выглядела интересной, привлекательной, она импонировала. И была гораздо опытнее его. Он в этих делах недалеко ушел от опытов с крышечкой «Perli ka». Ян перешел на заочное, устроился работать в издательство. Появился второй сборник, потом третий, он стал вполне признанным поэтом. Зденке это нравилось. А может быть, она просто так говорила. Во всяком случае, ему нравилось, когда она так говорила. До тех пор пока он не понял, что запутался, что вокруг него произошли, давно уже начали происходить очень важные вещи. И тогда он попытался ускользнуть. Зденка своим острым нюхом почувствовала это. И наказала его. Второй беременностью, потом третьей, потом четвертой. Как она старалась создать семейную идиллию, семейные обычаи и ритуалы, что она придумывала, о боже, чего она только не придумывала! Походы по магазинам, посещение всей семьей химчистки, консервирование овощей и фруктов, пикники, поездки за грибами, дни рождения, визиты к родственникам… Она придавала поистине драматическое значение любому событию семейной жизни, каждому детскому поносу, всем их ветрянкам и ангинам, она всегда требовала его полного участия во всем этом. Она была проницательна, она ловила каждый миг, когда на его лице появлялось отсутствующее выражение, и возвращала его к себе таким способом, что ее ни в чем нельзя было упрекнуть. Он соглашался на эту игру, потому что все больше и больше чувствовал себя виноватым. И прав был не он, а она. Ее законы были законами жизни. А его грехом была его рукопись, его роман. Сначала ему снились страницы этого романа, он просыпался ночью как в бреду, повторял слова, собирал их в главы, выуживал из сонного забытья целые страницы, бесшумно, в мыслях, печатал их на машинке, в полусне исписывал и исписывал воображаемые листы бумаги… А потом начал писать, тайно, у себя на работе, по ночам в туалете, испытывая страх и перед Зденкой, чей жизненный инстинкт оккупировал все уголки дома, и перед другими, даже перед самим собой. Он чувствовал себя подпольщиком, который годами тайно делает бомбу, заранее зная, что в этом нет никакого смысла, потому что он никогда не сможет ее использовать. Но он должен был делать это, в этом была для него возможность искупления, это была его месть и его достоинство. Боже мой, ведь пока другие сидели в тюрьмах, он регулярно навещал родильный дом на Подоле, пока другие бастовали, он покупал квашеную капусту на Хавелском рынке, пока его знакомые исчезали после вызова на Бартоломеевскую, он с Зденкой и детьми гулял по Гребовке и Шарке, когда русские оккупировали Прагу, он именно эту августовскую неделю провел со Зденкой в Варне, на Черном море, это было их свадебное путешествие, кстати, за Зденкин счет, пока в Праге к Первому Мая писали лозунги и сжигали флаги, он красил забор на даче у Зденкиных родителей… В то время когда других заглатывал мрак, он – пек куличики! Первая дочь, Яна, родилась 21 мая 1969 года. В тот день сжег себя Ян Палах. Самая младшая, Люция – 7 января 1977 года. В тот день шли повальные аресты из-за Хартии 77. В его дверь никто не позвонил, его досье было чистым как слеза. Кто был прав: Зденка с ее обостренным инстинктом выживания или он со своей постоянной коварной тягой к самосожжению? Она сделала из него человека, образцового отца четырех детей, и теперь он ненавидел ее за это. Преступление, к которому не подкопаешься. Он никогда ничего не узнает, никогда ничего не докажет. Может быть, она все-таки намеренно уничтожила рукопись, зная, что та несет беду.
Ян задыхался от собственных слов, его трясло как в лихорадке, он бормотал что-то себе под нос, всхлипывал. Эна прижалась к нему, утешая его, как ребенка. Время от времени Ян пытался ей что-то сказать, но Эна останавливала его слова поцелуями. Ян благодарно отвечал на них, а потом, прижавшись лицом к ее телу, шептал свою молитву:
– Bože! At mi ho vráti moje dilo, moje životni dilo…
Эна успокаивала Яна своим телом, каждой своей жилкой, дыханием, вздохами, стуком сердца. Она верила этой невероятной истории об украденном романе, о Зденке, стиральной машине и детях, которые рождаются в дни важных политических событий…
– Эна, ты где? – шептал Ян, целуя Энин живот.
– Я здесь…
Ян сел выпрямившись, взял Энины ладони и прижал их к своим щекам. Он долгим взглядом смотрел на Эну, целовал кончики ее пальцев, прижимал ее ладони к своему лицу…
– Chtel jsem se zabit… Vy jste mi pomohla, – прошептал он.
– Вы этим хотели себя убить? – сочувственно усмехнулась Эна, бросив взгляд на пустые коробочки от таблеток, валявшиеся на столике возле кровати.
Ян, поколебавшись, вынул из выдвинутого ящика столика белую таблетку в целлофановой упаковке.
– Что это?! – спросила Эна, взяв таблетку.
– Nevem. V era jsem našel na podlaze tu oblátku. Nekdo ji str il pod dvere…
– Вы говорите, что кто-то подсунул вам эту таблетку под дверь?!
– Ano…
– И это случилось перед моим приходом?
– Ano.
– И вы думаете, что это яд?
– Ano. Cijankalij… – сказал Ян серьезно.
– Но кто же хочет вас устранить?! И почему?
– Nevim…
Эна некоторое время ошеломленно смотрела на Яна, затем встала и пошла в ванную. В унитазе зашумела вода.
– Я ее выбросила! – сказала Эна и вернулась в постель. Она молча смотрела на Яна и думала, что вся его история теперь выглядит еще более неправдоподобной. Всему этому могло быть лишь два объяснения: или Ян действительно сумасшедший, во что она не верила, или над ним кто-то жестоко шутит, что было столь же невероятно…
– Pripadá mi to jako sen, jako kdyby se to ne-delo mne, – задумчиво бормотал Ян. – Co mám delat, reknate mi со mám delat?
В любом случае, думала Эна, для Яна лучше всего было бы вернуться домой.
– Возвращайтесь домой, Ян, – спокойно сказала она. – Давайте теперь оденемся и пойдем в милицию, заявим об исчезновении рукописи.
– Ano… – беспомощно кивнул Ян.
– До отъезда вы должны еще что-то купить жене и девочкам, правда?
– Ano… – сказал Ян и побледнел.
– Зденка не виновата, Ян. И вы не виноваты. Иногда быть трусом труднее, чем героем, – сказала Эна просто.
– Ano… – кивнул Ян. Он долго молча смотрел на Эну, а потом сказал хриплым голосом: – Kalhotky. Nesmim zapomenout na kalhotky. Te maly bikini…
Его взгляд был смирившимся и поэтому страшным. Ян нежно дотронулся до Эниной щеки, провел пальцами по ее лицу, как слепой, который хочет запомнить каждую линию, а потом осторожно привлек ее к себе. Эна почувствовала испуганные удары его сердца, прижалась к нему, словно хотела на нем отпечататься, слиться с его добрым и теплым теплом.
3
Пипо и Марк сидели в холле отеля «Интерконтиненталь», развалившись в удобных креслах. Был полдень, и Пипо пил свой первый утренний кофе. Через стеклянную дверь холла им были видны стоявший перед входом автобус и группа писателей, которые не спеша занимали в нем места.
– Ну просто кино, ты только посмотри, – саркастически вздохнул Пипо. В автобус входили поэт Ранко Леш и венгерка Илона Ковач, которая сначала кокетливо протянула Лешу большой пластиковый пакет, а затем кокетливо поднялась по ступенькам.
– Едут на фабрику, рабочим мозги пудрить, – пробурчал Пипо. – И все только из-за того, что какой-то кретин вбил себе в голову, что именно он должен быть тем винтом, который соединяет культуру и производственный процесс.
– Вентилем, – спокойно поправил его Марк.
В автобус поднялся Сильвио Бенусси, поглаживая свою бороду, за ним ирландец Томас Килли, который на ступеньках автобуса обернулся, сверкнул стеклами тонких круглых очков и поднял худые плечи, точно так, как его великий учитель Джеймс Джойс, которого он внимательно изучил по фотографиям.
– Хорошо бы эти рабочие их там пристукнули, а потом смололи в своих мясорубках… – бормотал Пипо.
В автобус забирался известный прозаик Мраз, его живот выпирал вперед так внушительно, что было страшно, как бы его мощное тело не завалило автобус набок. Но все обошлось.
– А вместо того, чтобы их всех там пустить на мясопереработку, вся смена будет только рада, что можно часок побалдеть, да к тому же еще некоторым достанется в подарок Пршина книга, а писатели получат в награду за труды по пакету с сосисками, сардельками и просроченными паштетами.
Марк молча потягивал апельсиновый сок и наблюдал за тем, как в автобус заходит смущенный русский Сапожников, вооруженный фотоаппаратом.
– Не могу больше на это смотреть! Крлежа – это просто Мато Ловрак по сравнению с тем, что происходит вокруг нас! – громко выразил свой протест Пипо, хотя его могли услышать только в холле, но уж никак не в автобусе, и продолжал: – В нашей литературе все превратились в Мато Ловрака! Действительность вышла из берегов и поглотила всех, кто держит в руке перо. И ведь никто из них не осознает, что здесь происходит. Марают бумагу, чтобы заработать себе на кусок колбасы… – бубнил Пипо, продираясь через похмелье.
– Кто такие Крлежа и Мато Ловрак? – спросил Марк, следя взглядом за пожилой полячкой Малгожатой Ушко, которая заходила в автобус.
– Крлежа – это как… Нет, у вас нет ничего похожего… А Мато Ловрак – это детский писатель, вроде Марка Твена, только гораздо хуже.
– Я бы с удовольствием был Марком Твеном или даже Мато Ловраком, – спокойно сказал Марк, наблюдая, как в автобус входят два худых, сутулых, темноглазых молодых человека.
– Я бы уж лучше тогда стал Эрикой Джонг, – выпалил Пипо.
– Почему именно Эрикой? – рассеянно спросил Марк, следивший в это время за Пршей, который наблюдал за писателями, садящимися в автобус.
– Ну, чтобы писать о том, как и кто на протяжении моей жизни искал у меня эрогенные зоны, как и кто с моей помощью достигал эрекции и эякуляции и как и с чьей помощью я достигала оргазма. И потом из витрин книжных магазинов всего мира с обложек своих толстых и прекрасно изданных книг тоскующим и страстным взглядом смотреть на своих читателей, мужчин и женщин… знаешь, так вот, из-под полуопущенных ресниц, с полураскрытыми губами, рукой как бы невзначай касаясь какого-нибудь фаллосоподобного предмета… колонны, телефонной трубки, карандаша диаметром пять сантиметров или чего-нибудь в этом же роде.
В автобус поднимался француз Жан-Поль Флогю, сопровождаемый незнакомым им темноволосым гибким молодым человеком.
– Короче говоря, я хотел бы быть богатым, избалованным и знаменитым! – мрачно пробубнил Пипо.
Последним в автобус вошел Прша, с озабоченным лицом, приподняв брови, огляделся, удостоверился, что все сидят на местах, никто из опоздавших не выбегает из холла, потом махнул рукой, явно приглашая кого-то войти в автобус. Пипо показалось, что это был взмах в его направлении, и он инстинктивно вжался в кресло и спрятался за листом пальмы. В автобус вскочил поэт-игрушка. Прша похлопал его по плечу, словно был тренером, приободряющим легкоатлета, затем вторично изобразил на лице озабоченность, которая теперь была адресована воображаемым камерам, скрытым в листве реальных пальм перед входом в отель, и дал знак шоферу. Автобус тронулся!
– И чтобы меня любили и как писателя, и как человека, и чтобы мне завидовали! А здесь у меня нет никакой обратной связи – ни эмоциональной, ни материальной, ни моральной. Здесь я просто ноль! – с чувством воскликнул Пипо.
– Не перди, ноль! – спокойно сказал Марк и встал. – Слушай, подожди меня здесь, я сейчас вернусь. Может, ты пока узнаешь у портье насчет Здржазила.
И Марк торопливо направился к лифту. И что он нашел в этом чехе? – злобно подумал Пипо, оскорбленный поведением Марка. «Сам узнавай!» – пробормотал он угрюмо, но тем не менее встал и побрел в сторону портье.
– Господин Здржазил, кажется, уехал, – сказал портье.
– «Кажется, уехал» или действительно уехал? – раздраженно спросил Пипо.
– Он сдал ключ от номера и вышел с вещами.
– Хм, – сказал Пипо.
– Хм, – сказал портье.
Пипо заглянул в бар «Диана», увидел за одним из столиков голубоглазую датчанку и критика Ивана Люштину, почему-то кивнул им, а затем вернулся в холл и развалился в кресле. Он заказал себе еще один кофе и закурил.
Через стеклянную стену он блуждал взглядом по хилым кустикам, посаженным перед отелем. Маленькие ленивые кустики. Все здесь как на маленьком экране. Вся жизнь здесь проходит в портативном масштабе. Весь центр города можно обойти за десять минут, на самую высокую гору в окрестностях подняться за полтора часа. Всех, с кем познакомился за всю свою жизнь, встретить в течение одного утра, если займешь правильную позицию в «Звечке» или в «Мокко»… Вот если бы можно было этот экран хоть немного расширить. Немного блеска, немного красок, немного неожиданности! Если бы та хорошенькая «штучка», которая в этот момент высаживается из такси, направилась не к портье, а прямо к нему, Пипо, и альтом Lauren Bacall сказала: «У вас не найдется спичек?» Но «штучка» направилась к портье. Пипо проводил ее взглядом, а потом снова уставился на кусты. Пипо Финк курил сигарету и рассматривал маленькие ленивые кустики…
Пип Финк курил сигарету и рассматривал роскошные огни Манхэттена.
– Ну u нa что все это было похоже? – спросила она капризно.
– Я смылся. Толкучка. Да ты сама знаешь… – беспечно ответил Пип, всматриваясь в городские огни.
– A Jessika? – спросила она.
Пип почувствовал легкий призвук ревности в ее голосе и усмехнулся. Она не могла видеть его усмешки, он стоял спиной к ней.
– Почему тебя это интересует? – спросил Пип, не отводя взгляда от стеклянной стены.
– Сегодня вечером благодаря тебе она стала еще более знаменитой…
– Я всего лишь обычный сценарист, – ответил он спокойно.
– Почему же ты для меня не напишешь что-нибудь такое, чтобы у людей остановилось дыхание?
– Потому что у всех и так останавливается дыхание, стоит тебя увидеть, – сказал Пип низким голосом, все еще глядя на огни Манхэттена.
– Иди ко мне, дорогой… – сказала она зовущим, бархатным голосом.
Пип спокойно погасил сигарету и медленно обернулся. Из полумрака, как две искры, сверкнули ее блестящие глаза. Холодным взглядом он скользнул по ее гладким, стройным бедрам, подтянутому животу, небольшой округлой груди, длинной шее и тяжелому пучку блестящих волос…
Пип медленно подошел к ней, сел и коснулся губами ее розового колена…
– Do it to те, baby, – прошелестел, как шелк, умоляющий голос Brooke Shields.
– Так что ты узнал насчет Здржазила?
Пипо ошалело уставился на Марка. Марк выглядел серьезным, казалось, он спешит, в руке у него была спортивная сумка.
– Он уехал… кажется.
– Хреново! – процедил сквозь зубы Марк. – Слушай, давай свалим отсюда, а?
– Давай, – согласился Пипо и встал. Марк быстрыми шагами направился к выходу, Пипо покорно последовал за ним. Марк сел в стоявшее перед отелем такси.
– Эй, а куда поедем? – встрепенулся Пипо.
– Мне бы тоже хотелось узнать, – сказал таксист.
– Не знаю… В какое-нибудь другое место, – растерялся Марк.
– Поехали ко мне, посмотришь, где я живу, – сказал Пипо. – Отвезите нас на Амрушеву, – сказал он таксисту.
– Ну вы, ребята, даете, могли бы и пешком пройти, – проворчал таксист.
Всю дорогу Пипо мучился вопросом, действительно ли мама поехала сегодня к тетке в Крапину, как собиралась, или опять передумала.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































