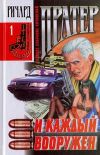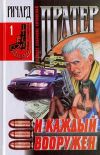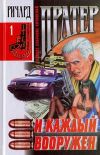Текст книги "Против ветра"
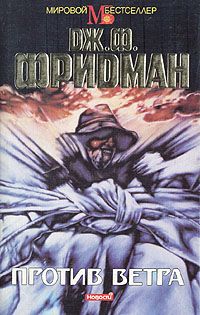
Автор книги: Дж. Фридман
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 8 (всего у книги 37 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
24
Сидя в кабинке у дальней стены темного бара, я пью «будвайзер» из бутылки с длинным горлышком, которую только что достали из ледника. Пиво всегда вкуснее, когда пьешь его из бутылок с длинным горлышком, и холоднее, если подержать их под глыбами льда, погрузив в темно-зеленую воду.
Напротив меня за столом сидит рокер из Альбукерке. Его зовут Джин. В Альбукерке он президент филиала «скорпионов» – той же общенациональной организации, в которой состоят и мои подзащитные. Ростом он шести футов шести дюймов, вылитый Арнольд Шварценеггер, только одетый под рокера, который не в ладах с законом. С Одиноким Волком они закадычные друзья еще с тех пор, как подростками познакомились в одной из школ для трудновоспитуемых в Питтсбурге, в штате Пенсильвания.
– Вот Одинокий Волк, – задумчиво говорю я. – Как он мог распустить нюни? Странно, парень, с которым шутки плохи, ни с того ни с сего ударился в романтику.
– Ты хочешь сказать – сдрейфил?
Я еле заметно пожимаю плечами – можно и так сказать, мне все равно.
– Какая-нибудь цыпочка задурила ему голову. Наверное, начиталась романов о любви.
– Его никогда не подначивали на этот счет?
– Пытался один, черт бы его побрал! Пока он как-то раз не разобрал этому ублюдку руку на запчасти. Потом странным это уже никому больше не казалось.
Он прикладывается к бутылке с пивом, изучающе смотрит на меня.
– Пораскинь мозгами! – растягивая слова, говорит он. – Каким же идиотом надо быть, чтобы, имея за плечами две судимости и только что освободившись из тюрьмы условно, пойти на убийство да еще оставить труп и свидетеля в придачу, чтобы тот обо всем рассказал?
– А таким идиотом, который считает, что на закон можно наплевать! Который, подцепив пьяную в дымину девку на глазах у двух сотен свидетелей, потом трахает ее по очереди с дружками. Вот каким!
– Им хотят пришить изнасилование?
– Ты же знаешь, что нет! – огрызаюсь я.
– Тогда они последние идиоты, потому что с обвинением промашка вышла. Все же знают, что она – шлюха, ей к этому не привыкать, она готова трахнуться с любым сифилитиком. Да я могу назвать тебе восемь десятков мужиков, которые трахнули ее, причем остались живы!
– Они все из «скорпионов»?
– В основном. Еще несколько человек из «ангелов ада» и «bandidos»[5]5
Бандиты (исп.).
[Закрыть].
– И все могут дать показания в их защиту?
– Если до этого дойдет. – Он наклоняется вперед, нежно поглаживая пивную бутылку, которая почти не видна в его ручищах. – А ты как считаешь? – спрашивает он, вдруг переходя на серьезный тон.
– В смысле?
– Чего ждать-то?
– Приговора.
– А-а. – Залпом допив пиво, он подходит к холодильнику, достает еще четыре бутылки и, держа их в руке, возвращается к столику. Откупоривает две из них и ставит одну передо мной.
Я пью длинными глотками, чувствуя, как по спине ползут мурашки. Бывают минуты, когда кажется, что надо завязывать, сам себе потом спасибо скажешь. Но сейчас я так не думаю.
– Борьба предстоит тяжелая, – честно говорю я. – Я даже не знаю всех свидетелей со стороны обвинения, но голову даю на отсечение, что рот у них на замке. Если я буду лезть из кожи вон, да еще подфартит, то наверняка нащупаю в ком-нибудь слабину, поднажму и заставлю-таки расколоться.
– А как насчет свидетелей с твоей стороны?
– Этим я сейчас и занимаюсь. Потому и пришел.
– Выходит, одно честное слово против другого.
– Как правило, так и бывает. Уверен, тебе это в диковинку.
– Не совсем так. К тому же я знаю, что такие, как мы, чаще всего остаются с носом.
Такие, как мы. Всю свою адвокатскую практику я только и слышу эти слова, повторяемые на разный лад. Это что, какой-то неведомый слой общества, который социологи так и не сумели распознать? Я не говорю о тех категориях населения, на долю которых приходится большая часть преступлений, связанных с применением насилия: о семьях, оставшихся без отцов, о затюканных национальных меньшинствах (как правило, это черные или испаноговорящие американцы), о вконец опустившемся сброде, живущем в центральных районах городов, о жителях захудалой сельской глубинки, об алкоголиках, наркоманах, душевнобольных. Общее у них одно – бедность. Но я даже не об этом.
Речь о другом – возникает ощущение, что вот есть общество и есть ты, но обществу до тебя дела нет. Я сам вырос в относительной бедности, но мне повезло: я не пережил подобного ощущения. И в радости, и в горе я был не один, и мне знакомо то, что называют сопричастностью. Но ведь миллионы людей осознают, что они не являются частью общества, даже те, кто достиг уровня среднего благосостояния, – они все равно чужие, не часть целого. А если ты не причисляешь себя к этому целому, то с какой стати соблюдать его законы? Мне кажется, у большинства таких людей никогда не было выбора, они – как те семьи, четвертое поколение которых живет на пособие по безработице, – ничего другого они не знают. Но вот те же рокеры предпочитают держаться особняком, стоять в стороне.
Почему? Над этим вопросом я ломаю голову последние несколько дней, после того как им предъявили обвинение.
– А почему так? – спрашиваю я у Джина.
– Да потому, что в нашем обществе кому-то надо быть побежденным. Я имею в виду идейку насчет победителей, которая выдержана в типично американском духе: нужно уметь побеждать и так далее. А если нужны победители, победители для того, чтобы вся система срабатывала, значит, должны быть и побежденные. А для олуха, получающего заем под закладную, которому всю жизнь только и твердили, что, если будешь делать то-то и то-то, как пить дать станешь победителем, такие, как мы, считающие, что все это – чушь собачья, и без обиняков говорящие об этом, черт возьми, – побежденные, так? Вот и выходит, что победители оказываются на коне, а мы, которым заранее уготована участь побежденных, остаемся с носом.
– Значит, ты согласен, что все вы – побежденные.
– Черт бы тебя побрал, приятель! – Он допивает первую бутылку из тех, что только что принес, и, откупорив вторую, одним махом опустошает ее наполовину. – Это ты согласен с тем, что мы – побежденные! Что до нас самих, то больших победителей, чем мы, никогда не было. Взять хотя бы жюри присяжных, где должны сидеть люди равного с нами положения! Да в этом чертовом жюри не найдется ни одного человека, которого я бы считал за равного! Сначала, приятель, ты мне дай жюри такого состава, чтобы я считал их за равных, а потом я буду иметь с ними дело!
Это что-то новое. Нужно запомнить, может, на суде пригодится. Интересно, как в адвокатских кругах отнеслись бы к такому начинанию?
– Вряд ли у меня пройдет такой номер, – отвечаю я и принимаюсь за новую бутылку. Здесь уютно. Жара не чувствуется. Сижу, пью за чужой счет «будвайзер» в холодных бутылках с длинным горлышком и веду задушевную беседу с человеком если и не блестящего, то, во всяком случае, развитого ума.
– Ты читал когда-нибудь Карла Маркса? – равнодушно спрашиваю я.
– Прочел от корки до корки, – отвечает он, слегка улыбаясь. – А заодно Веблена[6]6
Веблен Торстейн (1857-1929), американский экономист и социолог, под влиянием Карла Маркса считал основой жизни общества материальное производство, но сводил общественное производство к технологии, уделял недостаточное внимание формам собственности.
[Закрыть], Хоффера[7]7
Хоффер Эрик (1902-1983) – американский писатель-самоучка. Ослепнув в семилетнем возрасте, вновь стал видеть в 15 лет. Сменил массу профессий, свыше двадцати лет проработал докером в Сан-Франциско. Его перу принадлежат около десятка книг по вопросам массовых движений, отличался емкой, афористичной манерой изложения.
[Закрыть], Франца Фанона[8]8
Франц Фанон (1925-1961) – политолог. Активный деятель Национально-освободительного движения 50-х годов в Алжире.
[Закрыть], не считая других. Милтона Фридмэна[9]9
Фридмэн Милтон (род. в 1912) – американский экономист. Сторонник частного предпринимательства и рыночных форм хозяйствования. Выступает против широкого государственного вмешательства в экономику.
[Закрыть] тоже читал, хотя, мне кажется, сейчас он уже здорово дискредитирован. И Рейгана, черт бы его побрал, – презрительно ворчит он, – на фоне этого ублюдка президент Никсон только выиграл!
О Боже! Так я пью пиво в компании рокера, который не в ладах с законом, придерживается радикально-социалистических воззрений в экономике и политике, а в своей повседневной речи употребляет словечки типа «подспудно».
– Расскажи мне об Одиноком Волке и об остальных.
– А что тебя интересует?
– Все, что я могу использовать для их защиты.
Неторопливым шагом он снова идет к холодильнику и возвращается, прихватив еще дюжину охлажденных бутылок. Сегодня я уже точно ни с кем больше не побеседую. Подняв руки с бутылками, мы салютуем ими друг другу. Он откидывается на спинку кресла, соображая, что нужно рассказать такого, что спасет жизнь друзьям.
– Он много чего натворил в жизни, но убийцей никогда не был. Одинокий Волк, одно слово. Да и остальные, насколько я знаю, тоже никогда никого не убивали.
– Ну и что из того?
– А ты что, хочешь знать, был он бойскаутом или нет? Не вытаскивал ли старушку из горящего дома, это тебе надо, что ли?
– Пригодится.
– Он воевал во Вьетнаме. Валялся в полевом госпитале в Дананге. Две медали за ранения в ходе боевых действий. Медаль за отвагу.
Это уже кое-что. Я делаю пометку в блокноте, позже надо будет проверить. Мне нравится парень, сидящий напротив, но, может, он просто хочет меня разжалобить.
– Конечно, под конец войны во Вьетнаме медали раздавали одну за другой, что плитки питания, – говорит он. – Надо же было сделать хорошую мину при плохой игре, понятно?
– Все равно это здорово! Жюри присяжных обожают героев войны. Что еще?
– У него был брат-гомосексуалист.
– Был?
– Он умер. По крайней мере, Одинокий Волк так говорит. Деталей я не знаю. Сам он об этом помалкивает, а набраться наглости и спросить никто не решается.
Мой ум работает с лихорадочной быстротой. Чего еще ждать после подобного вступления? А ведь это только один из четырех подзащитных.
– Об этом мало кто знает, – добавляет Джин. – Ты лучше спроси у него, хочет ли он, чтобы об этом стало известно. Вряд ли его обрадует то, что я рассказал тебе об этом.
– Не волнуйся, спрошу, – отвечаю я и, помедлив, продолжаю: – Ты – его друг, знаешь, что он за человек. А этот факт не сделал его терпимее?
– Как раз наоборот. Он ненавидит педиков лютой ненавистью. Мы все их не очень-то жалуем, – качает он головой, – но Одинокий Волк при виде гомиков просто звереет. Однажды чуть не замочил одного, решив, что тот к нему пристает. За что и схлопотал девяносто суток тюрьмы.
Никогда еще за всю свою практику я не был в большем затруднении. Поначалу я возликовал, день ото дня убеждаясь, что мои подзащитные невиновны, и проникаясь все большей злобой к тем слоям общества, которые взялись их судить. А теперь передо мной улика, вынуждающая признать, что допустимо и обратное: если убийство и не было открыто направлено против гомосексуалистов, у него достаточно яркая гомосексуальная окраска. А в довершение всего я узнаю, что мой подзащитный ненавидит педерастов животной ненавистью. Если Робертсон раскопает со своими ребятами этот лакомый кусочек, на пути у меня возникнет еще одно труднопреодолимое препятствие.
– Это хреновая новость! – откровенно говорю я. – Если она выплывет, и Одинокому Волку, и всем остальным могут дать вышку.
Он кивает.
– Пойми меня правильно, я рад, что ты сказал мне об этом, и мы с ним поговорим... но мне нужно сделать так, чтобы все было шито-крыто.
– То есть, если кто-то еще спросит меня об этом, я знать ничего не знаю, да?
Я делаю еще глоток пива.
– Подумай, может, тебе стоит поступить на юридический факультет? – шутливо предлагаю я. – Из тебя вышел бы неплохой адвокат.
– Пробовал.
– Ты поступал на юридический?
– Да, в Кейс-Уэстерн-Резерв. В Кливленде. Проучился в университете целый семестр. Понял, что это не для меня. Последняя моя тщетная попытка жить, как все.
Я смотрю на него во все глаза. Может, дает о себе знать выпитое пиво, трудно сказать, но я должен спросить его об этом.
– Ты умный человек, – искренне говорю я. – Зачем ты выбрал себе такую жизнь?
– Ну и вопросик, черт бы тебя побрал! – Он откупоривает новую бутылку.
– Ответь, сделай одолжение.
– Не каждый может жить так, как вы того хотите, – без обиняков отвечает он. – Или так, как следует. Так или иначе, на самом деле ответ тебе ни к чему.
– Но я же только что спросил тебя об этом!
– Слушай, приятель! Давай со мной без выкрутасов, ладно? Я знаю, почем фунт лиха. В результате такие, как я, превращаются в романтиков. Да, это опасно, потому что мы сами опасны. В общем, знаешь что... Я не такой плохой, как иной раз обо мне думают, но я и не кумир, по которому вся Америка сходит с ума. Иными словами, я не такой, как Питер Фонда в его «Беспечном ездоке», понял? Я бывал в каталажке. Знаешь, поделом ребятам, которые туда попадают! Они что-нибудь да натворили, может, связанное и с насилием. О нем они только и думают. Такое впечатление, что, когда их мысли не заняты тем, чтобы трахнуть телку, они ни о чем другом не помышляют, кроме как задать трепку какому-нибудь обывателю, честное слово! А клоню я, приятель, к тому, что не надо искать в этом романтику. А не то здорово разочаруешься.
– Даже и не думал! – Этот мужик за словом в карман не лезет. – Но все-таки хочу понять... какой вас черт дернул выбрать жизнь, при которой вы так и будете козлами отпущения?
– Может, это она нас выбрала.
– По тебе не скажешь, что ты безропотно смиряешься с судьбой. Да и по Одинокому Волку тоже.
Он буравит меня взглядом.
– Хочу рассказать тебе маленькую историю. В прошлом году поехал я в Новую Англию[10]10
Район на северо-востоке США, куда входят штаты Мэн, Нью-Хэмпшир, Вермонт, Массачусетс, Коннектикут, Род-Айленд.
[Закрыть] – первая поездка на восток за последние пятнадцать лет. Дело было осенью, листья на деревьях начали уже желтеть, ну, сам знаешь... Я да моя подружка, с виду – обычные туристы. Не взял ни мотоцикла, ни цветастой рубахи. Инкогнито, одним словом.
Он опустошает еще бутылку. Я жду. Похоже, он не очень-то торопится продолжать.
– И что дальше? – наконец спрашиваю я.
– Чувствовал я себя, правда, не в своей тарелке. Но не в этом дело. Были мы в Нью-Хэмпшире... черт побери, ну и красотища! Ты бывал там? Осенью, когда опадают листья, ну и все такое прочее, черт побери!
– Был как-то. – Однажды, еще в колледже, я ездил туда на зимний карнавал. Тогда мало что запомнилось, большей частью я был пьян, как, впрочем, и не только я.
– Нет, в самом деле красиво! Моя девчонка чуть нюни не распустила, стала болтать, что вот, мол, неплохо бы сюда переехать, и так далее в том же духе! Я ей говорю, надо обождать месячишко, пока снега не навалит до самой задницы, вот тогда и заводи разговор о переезде! Но, знаешь, на номерных знаках машин в Нью-Хэмпшире я заметил наклейку с надписью. Меня она задела за живое. Знаешь, что там было написано? Я качаю головой.
– Жить Свободным или Умереть! Это обо мне, приятель! Об Одиноком Волке, других ребятах! За это мы и боремся! – Он испытующе смотрит на меня через стол. – Я съел бы тонну дерьма за унцию свободы! – говорит он. – А ты?
25
Я должен знать правду об этом педике, который доводился братом Одинокому Волку. К нему я и иду.
– Не буду говорить об этом дерьме! – грубо отвечает он.
– Будешь, дружок! У этого убийства гомосексуальный запашок. Если ты припас для меня сюрпризы, я должен к ним приготовиться.
Он обхватывает голову руками. Одинокий Волк во власти неподдельных человеческих чувств – я впервые вижу его таким.
– Он умер. – Подняв голову, он смотрит на меня. – Он давно умер.
– При каких обстоятельствах это произошло?
– Это было давно, – качает он головой. – И давай закончим на этом, о'кей?
– А что стало с другими членами твоей семьи?
– «Других» нет. Одинокий Волк, приятель, так меня зовут. Это я и есть.
26
Клаудия спит. Я держу ее на руках, дожидаясь, когда Патриция откроет мне дверь. Как было бы хорошо, чтобы Патриция не услышала моего нарочито тихого стука, чтобы болтала себе по междугородному телефону с матерью в глубине квартиры, чтобы орал телевизор. Мне хочется простоять так всю ночь, до самого рассвета. Жарко даже в столь поздний час, ни намека на дождь, все лето солнце жарит напропалую. Тучи мотыльков, привлеченные ароматом жасмина и жимолости, вьются в душном, неподвижном воздухе, образуя живой нимб над головой моей девочки.
Патриция открывает дверь бесшумно, сказывается материнское чутье.
– Почему так поздно? – шепчет она, но так, чтобы я непременно уловил сварливые интонации в ее голосе. Пусть я считаю себя человеком, которому все нипочем (это она так думает), но наша дочь живет вместе с ней, и она не хочет, чтобы я об этом забывал. – Завтра в восемь утра у нее занятия по плаванию.
– Мы веселились от души, – огрызаюсь я, – и она ни в какую не хотела уходить, пришлось подождать, пока она уснет.
– О'кей. – Она все понимает. Она может быть великодушной, ей это больше свойственно.
Я несу Клаудию через маленькую квартирку в ее спальню, кладу на кровать, осторожно снимаю туфли, носки, шорты. Спать она может в майке и трусиках. Я накрываю ее простыней, стараясь не столько укрыть, сколько защитить, а от чего – сам не знаю. Нет, вру, знаю, причем лучше, чем все остальное. Мне нужно защитить ее, ощутить, что я – ее защитник, что иначе просто быть не может. Перевернувшись на бок, она сворачивается калачиком, слегка приоткрыв рот.
– Может, выпьешь чаю перед уходом? – Патриция в шортах и майке сидит за угловым кухонным столиком и делает пометки на кратком изложении какого-то дела. У нее вошло в привычку надевать при чтении очки с половинчатыми стеклами, что придает ей сходство с черепахой. От этого она почему-то делается еще более соблазнительной; впечатление такое, будто разглядываешь рекламный плакат, где изображена женщина в нижнем белье и очках – этакое сочетание секса и интеллекта. Интересно, мелькает мысль, сколько воды утекло с тех пор, как я не представлял себе секс без интеллекта!
– А пиво у тебя есть? – небрежно спрашиваю я. На улице все-таки душно, так что я спокойно могу попросить пива, не рискуя выглядеть нахалом.
– Дома я больше не пью, – качает она головой и закатывает глаза. – Из-за Клаудии. Не хочу, чтобы она плохо обо мне думала.
Интересно, говорила ли ей Клаудия о том, что я пью? Она видит, как я балуюсь спиртным, но молчит по этому поводу. Мысленно я спрашиваю себя, как часто пью в ее присутствии? Если не считать пива, то почти не пью: может, бокал-другой висни, когда готовлю ужин. Не люблю пить один, если напиваюсь, то, как правило, в больших компаниях, с незнакомыми людьми.
– Ну, тогда чай. Не беспокойся, – говорю я, видя, что она порывается встать. – Я знаю, где он лежит.
– Ничего. Давай лучше я.
Я сажусь за стол, пока она наливает воду в чайник. На столе разложены бумаги – краткое изложение дела и блокноты линованной бумаги с ее пометками. Я мельком бросаю взгляд: дело, связанное с коммунальными службами, оно уже четвертый год на рассмотрении в апелляционном суде. Терпеть их не могу, скучища смертная. Понятно, почему она хочет уйти. Я бы тоже ушел, если бы каждый день только этим и занимался. Она права: слишком мало платят за работу, когда без конца приходится читать этот мусор. Если и терять зрение, то по крайней мере хоть на чем-то стоящем.
– Тебе какой чай, обычный или с травами? У меня есть «Слипи-Тайм», «Пепперминт», «Эрл Грей». – Снимая с полки коробки с чаем, она показывает их мне.
– Все равно.
– Тогда «Эрл Грей». Ты ведь все равно будешь спать как убитый.
Она ставит передо мной чашку, не вынимая из нее пакетик с чаем, себе тоже заваривает. Она пьет чай с травами, помню, что она всегда с трудом засыпала, кофеин ей противопоказан.
– Интересно? – киваю я на бумаги.
– Нет. – Карандаш рисует на полях знак вопроса. – Знаешь, сколько выпускников юридических факультетов не умеют писать? Я говорю о самых простых предложениях. Просто ужас! А изложения дел написаны так, что дальше ехать некуда. И попадают ко мне на стол.
– Скоро тебя это перестанет волновать.
– Не так уж и скоро.
Я подстроил ей ловушку, надеясь услышать, что она передумала и отказалась от работы в Сиэтле. Проглотив наживку, она преспокойно выплюнула крючок.
– Как твоя подготовка к делу об убийстве? – вскользь спрашивает она.
– Ничего, все в порядке.
– Неужели? – Она поднимает голову.
– Да, все даже лучше, чем я думал, во всяком случае, пока. Я подыскал неплохих адвокатов для остальных троих подзащитных, на следующей неделе мы соберемся вместе, как и полагается, чтобы выработать план действий. Но лучше всего то, что мало-помалу я нахожу в их построениях такие прорехи, сквозь которые танк может проехать. И прежде всего время никак не сходится, что бы ни твердил Робертсон. Вот смотри! Послушай и скажи, спятил я или нет.
Она смотрит на меня так, словно я и вправду спятил. А по фигу!
– Они уехали из бара в два, что могут подтвердить десятки свидетелей. Затем отвезли ее в горы. На это ушло добрых сорок пять минут, сама знаешь, ты же бывала в тех местах. Всем скопом они трахают... вступают с ней в половые сношения. Каждый по два раза. Ты следишь за тем, что я говорю?
Она кивает. Мало-помалу ее лицо обретает заинтересованное выражение.
– О'кей, – продолжаю я. – Скажем, каждый – минут по десять. Затем ее отвозят обратно. Значит, полтора часа на дорогу и еще столько же, чтобы поиграть с ней в кошки-мышки. Вот уже пять утра. Да, я совсем забыл, в мотеле они еще пару раз ее трахнули, это еще пятнадцать минут, может, им много времени и не нужно. Выходит, уже четверть шестого. Без пяти шесть они приезжают в Серильос, у меня есть квитанция и свидетель, а еще через час – в Мадрид, этому тоже есть свидетель. А теперь ответь: когда у них было время отвезти этого парня в горы, Бог знает сколько раз пырнуть его ножом, выстрелить в голову, кастрировать и отвезти ее обратно в мотель? Не сходится, Пэт. Это просто уму непостижимо.
Сияя улыбкой, я смотрю на нее. Боже, как легко на душе! А когда выскажешь все вслух, становится еще легче.
– Если только мне не подложат свинью, у меня, черт побери, все шансы добиться, чтобы эту четверку оправдали! Я знаю, что говорю.
Она пристально глядит на меня. Такое впечатление, будто я сделал что-то не так, а не приводил доказательства своей правоты, причем так, что они не оставляли ни малейших сомнений.
– Что случилось? – Я отхлебываю чай, конечно, ничего, хотя лучше бы пивка сейчас.
– Ничего.
– Что случилось? Рассказывай.
Она отодвигает бумаги, снимает очки. Классическое движение, хотя она, разумеется, не отдает себе в этом отчета, но исполнение – высший класс! Она ни разу в жизни не вела дело в суде, но готов побиться об заклад, что смотрелась бы там очень даже неплохо.
– Не надо обманывать себя.
Всякий раз, когда кто-нибудь говорит так, я знаю, что из чувства противоречия поступлю наоборот.
– Что?
– Я решилась сказать тебе об этом лишь потому, что думаю, тебе стоит это знать.
– Что именно? – Терпеть не могу, когда начинают тянуть резину, я сам достаточно часто прибегаю к этой уловке, поэтому меня просто бесит, когда кто-нибудь действует в том же духе.
– Я тебя выслушала, звучит все очень складно, Уилл. Но по городу ходят слухи, что дело безнадежное. Что ты сражаешься с ветряными мельницами.
Терпение у меня лопается.
– Это штучки Робертсона, черт бы его побрал? – спрашиваю я, переходя на повышенный тон. Немудрено, я вне себя от злости. – Этот ублюдок, – бушую я, – хочет обтяпать дельце на свой манер, черт побери! Вот видишь, – говорю я, назидательно подняв указательный палец, – это доказывает, что он нервничает! Видит, что от проблем никуда не денешься, вот и пытается их решить, не доводя дело до суда. Ты сама только что все слышала и видишь, что у меня все сходится как в аптеке.
– Не кричи на меня, пожалуйста, – тихо говорит она. – Я же ни в чем тебя не обвиняю.
– Извини, крошка, извини! Просто терпеть не могу, когда люди себя так ведут! Типичные прокурорские уловки, но я до сих пор не слышал, чтобы Джон прибегал к ним.
– Он не хочет уступать.
– Конечно, не хочет! Я тоже не хочу, но я же не действую исподтишка, стараясь решить дело в свою пользу, не доводя его до суда!
– А он не хочет уступать именно в этом деле! Ведь в прокуратуре только о нем и говорят! У него нет ни малейших сомнений в том, что они виновны, он и мысли не допускает, что этим четырем гнусным ублюдкам – это его слова, не мои – все сойдет с рук только потому, что их взялся защищать адвокат, толком не знающий, что к чему. Это опять его слова, не мои, – быстро оговаривается она.
– Так же нельзя! Ты сама это знаешь: профессионалы так не поступают.
Она накрывает мою руку своей. От ее прикосновения у меня мурашки по коже. Я пристально гляжу на наши руки.
– Уилл... Я просто хочу предупредить тебя. По крайней мере послушай, что я тебе говорю.
– Эти люди – мои клиенты! – убежденно отвечаю я. – Они вправе рассчитывать на самого лучшего адвоката. Особенно если я убежден: они не убивали этого парня.
– О'кей. Я все сказала. Закончим на этом.
– Спасибо. – Я тронут. – Я тебе благодарен. Правда.
На самом деле я здорово встревожен, слишком уж она хочет, чтобы я отказался от дела. Все этого хотят. Все хотят, чтобы мои подзащитные оказались побежденными, боятся, что я, пытаясь этого не допустить, буду гореть синим пламенем.
– Ты же отец моего ребенка! – напоминает она. – Я не хочу, чтобы ты кончил жизнь в какой-нибудь дыре.
– Попробую сделать так, чтобы до этого не дошло. Я покажу все, на что способен.
– Как всегда. Поэтому тебя и считают лучшим из лучших.
Ничего не скажешь, приятно, когда тебя хвалят, но одна мысль не дает мне покоя.
– Ты разговаривала с Энди или Фредом?
– А о чем мне с ними разговаривать?
– Ни о чем. Я просто так спросил.
– Они что, тоже занимаются этим делом?
– Да нет. Они занимаются мной в целом, – вставляю я, надеясь, что больше вопросов не последует.
– Я знаю.
– В самом деле?
– В городе только об этом и говорят.
Я плюхаюсь в кресло.
– А о чем именно «говорят в городе», как ты выразилась?
– О том, что ты, возможно, уйдешь из фирмы. – На секунду она отводит взгляд.
– Ты шутишь!
– Нет, не шучу.
– Чушь собачья! Глупые слухи, только и всего. Что касается моего отпуска, то это простое совпадение.
Она снова кивает.
– Я и понятия не имею, откуда возникли такие слухи, – продолжаю я. – За ними ничего нет.
– Хорошо. Иначе дела были бы хуже некуда. Духота невыносимая. Пора уходить. Но беда в том, что уходить мне не хочется. Хочется остаться в этой квартирке, с которой связано столько воспоминаний, где в соседней комнате спит мой ребенок, а рядом сидит ее мать и держит мою руку в своей.
– Уже поздно. Я, пожалуй, пойду.
Хоть бы она меня остановила. Нет ничего проще.
– Я страшно устала. Завтра тяжелый день.
– У меня тоже. – Я с усилием поднимаюсь.
Она провожает меня до двери.
– Спокойной ночи.
– Спокойной ночи.
Подавшись вперед, она слегка целует меня в губы. По-моему, я придаю этому больше значения, чем она.
– Удачи, Уилл.
– Спасибо. Все в порядке.
– Прошу, не слишком увлекайся. Нельзя же только и делать, что выигрывать.
– Я знаю, – Боже, как хорошо я это знаю! То, что я стою с ней здесь, на крыльце, – нагляднейшее доказательство того, как хорошо я это знаю.