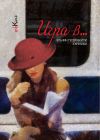Текст книги "Игра для героев"

Автор книги: Джек Хиггинс
Жанр: Зарубежные детективы, Зарубежная литература
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 6 (всего у книги 12 страниц)
Некоторое время нам удавалось превращать все в шутку, поскольку в тот жаркий летний день вода была достаточно теплой. Но вот начался отлив; вода вокруг нас стала покрываться рябью и понеслась, как река в половодье. Нас подхватило течением скоростью в десять узлов и не выпускало из своей безжалостной хватки.
Именно отлив спас нас, что странно. Отлив и спасательные жилеты. Мы находились в трех милях от Шарлоттстауна, вблизи Остроконечных скал; течение обогнуло северное побережье и повернуло в направлении юго-восточной окраины острова Сен-Пьер, а затем – в сторону Бретани.
Я связал наши спасательные жилеты вместе, и следующие полчаса мы держались на воде, несясь сквозь серую завесу тумана. Потом внезапно послышался грохот прибоя, показались белые от пены волны, разбивающиеся об огромные черные скалы.
Слева от меня сквозь серую мглу проступили очертания утеса, белого от птичьего помета, и стали слышны резкие крики чаек, переговаривающихся друг с другом. Появился буревестник, за ним еще шесть, а потом нас подхватила волна в сокрушающем вихре белой вспененной воды и опустила на отлогий пляж залива Ла-Гранд.
Помню, как, поддерживая Симону одной рукой, я побрел вперед, еле волоча ноги, как накатила с грохотом новая волна; а затем мы уже были в безопасности, и она лежала лицом вниз, откашливаясь.
Я освободился от спасательного жилета и мокрой рубашки и перевернул Симону навзничь. Было не более трех часов пополудни; солнце, пробиваясь сквозь туман, жарило, как хорошая печь, и все равно Симону била дрожь, потому что там, в море, ее укачало.
Я развязал ее спасательный жилет. На ней были шорты и старый отцовский рыбацкий свитер размера на три больше, чем надо, отяжелевший от воды. Я стянул его через голову. Руки и ноги у Симоны настолько ослабли, что почти одеревенели и были совершенно безжизненными.
Я снял с нее всю одежду, как мог бережно, и стал массировать ее холодные конечности. Она вся дрожала; я обнял ее и прижал к себе. Помню, что целовал ее в лоб, помню, что она прижалась ко мне обнаженной грудью, помню, как говорил ей снова и снова, что все хорошо, что все кончилось.
То, что произошло потом, было вполне естественным. Я помню, как она стала целовать меня, обняв мою голову, помню соленый привкус ее губ и кожи и солнце, греющее мне спину.
– Люби меня, Оуэн, люби меня.
И я любил ее тогда, люблю сейчас и буду любить всегда. Плоть от плоти моей? Нет, гораздо больше. Она часть меня в полном смысле слова.
Она натянула на себя старый домашний халат, а Штейнер стал застегивать китель. Медали – мое увлечение, то, в чем я профессионально разбираюсь. Они многое говорят о людях: где они побывали – а это всегда интересно, и что совершили или намеревались совершить.
Немцы носят свои медали за ранения на груди, как орденскую звезду. У Штейнера медаль была серебряная; это значило, что он имел три или четыре ранения. Я не удивился, увидев его ленту за кампанию на восточном фронте 1941 – 1942 годов. Кроме Железного креста второй степени и прочих рядовых наград у него был Железный крест первой степени, с которым немцы не имели привычки расставаться. У Штейнера было много общего с Фитцджеральдом. Галстук у него на шее был завязан небрежно. Лишь некоторое время спустя я обнаружил, что под ним скрывался Рыцарский крест, который, как выяснилось потом, он получил за подвиги в войсках Дунайской группировки.
Они пошли к двери, а я стоял в тени и наблюдал. Дверь открылась, показался свет, послышался веселый смех.
– Завтра давай пораньше. Поедем покатаемся, ладно?
Его английский был блестящим, но мне хотелось услышать ее голос. Она ответила – голос у нее был тот же, что прежде. Странно, но есть вещи, которые мы не можем забыть.
– Завтра. Буду ждать с нетерпением.
Я выглянул из-за угла, когда он наклонился, чтобы поцеловать ее. Никаких чувств я не испытывал: ни ревности, ни гнева – что толку ревновать и злиться? И все же во рту пересохло, а сердце гулко забилось.
Несколько шагов она прошла рядом с ним, а он, еще раз поцеловав ее, вернулся во двор один, напевая на ходу странную, печальную походную песню, хорошо знакомую каждому, кто служил на русском фронте в ту ужасную зиму 1942 года.
Что мы здесь делаем? Что все это значит? Все сдвинулось. Все сошло с ума. Все летит к чертям.
...Я проскользнул в дом за ее спиной. Кухонная дверь была приоткрыта, я вошел туда и стал ждать. Заработал мотор «фольксвагена», потом звук стал удаляться по дороге и пропал в ночи. Послышались шаги, звякнула щеколда. Я сделал глубокий вдох и вошел в комнату.
Она стояла у камина и расчесывала волосы, глядя в зеркало. Она сразу увидела меня. И затем произошло самое удивительное.
– Оуэн? – сказала она. – Оуэн?
Она узнала меня тотчас же, несмотря на черную повязку на глазу и изуродованное шрамом лицо, несмотря на пять суровых лет, обернулась и упала в мои объятия.
Глава 7ALLES IST VERRUCKT[1]1
Все сдвинулось (нем.).
[Закрыть]
Она покормила меня на кухне. У нее был хлеб с добавками, поскольку чистая мука была редкостью, бекон домашнего приготовления и пиво, чтобы смыть все это дело внутрь. Я отпил немного и с усмешкой сказал:
– Значит, Эзра в свободное время варит пиво?
– Чем еще заняться... Ты что, узнал вкус?!
– Разок попробуешь – не забудешь.
Сидя напротив за обшарпанным кухонным столом, она потянулась ко мне и накрыла мою ладонь своей.
– Так много времени прошло, Оуэн. Так много...
– Да.
Я взял ее руку, поднес к губам и нежно поцеловал. Затем приложил ладонь к шее. У нее навернулись слезы.
– Ах, Оуэн, какое у тебя стало лицо! Что они с тобой сделали?
– Это первое, о чем спросил Эзра.
– Так ты видел его?
– Мельком. Искал тебя в доме Сеньора.
Я рассказал ей про Джо Сент-Мартина, и, пока рассказывал, ее лицо становилось сосредоточенным и злым.
– Он всегда был мерзким типом. Я могла бы порассказать, Оуэн, что он здесь вытворял во время оккупации.
– Например?
– Доносил на людей, нарушавших немецкие распоряжения. Например, в начале оккупации немцы требовали сдать все радиоприемники. А многие их утаивали, чтобы слушать Би-би-си. В доме Эзры приемник был всю войну. Тех, кто попадался, сурово наказывали. Отправляли на каторгу, в трудовые лагеря на континенте. С полдюжины жителей острова попали туда по милости Сент-Мартина.
– Он был доносчиком?
Она кивнула:
– Даже хуже. Но этого не докажешь.
Мы встали из-за стола и прошли в гостиную. Она подбросила дров в огонь. Я достал сигареты и предложил ей.
Она глубоко затянулась и со вздохом сказала:
– "Плейерз"... Я уж и вкус их забыла.
– Их и на том берегу пролива трудно достать. – Я закурил и спросил: – Трудно жилось?
– Почти как всегда, – пожала она плечами, – не легче прежнего. Последний год в особенности. Еды не хватало, и вообще... Грузовоз не заходил сюда уже с месяц.
– А как с тобой обращались?
– Вполне сносно. В последний год стало хуже. У нас появился новый губернатор, генерал Мюллер, как раз перед тем как папа погиб. Мне он никогда не нравился. Он – эсэсовец, и в его штабе появилось много других эсэсовцев. Не люблю эсэсовцев, никогда они мне не нравились.
– И все же этот Мюллер позволил тебе остаться, когда почти всех остальных эвакуировали еще три месяца назад, так?
– Но я теперь – Сеньор, Оуэн. Им нужен кто-то, кто бы представлял закон и власть. Немцы удивительно щепетильны в таких делах. И я им нужна, понимаешь? Знаешь, я три года училась в медицинском училище. Я помогаю Падди в госпитале. Мы им действительно нужны.
– Значит, у тебя нет к ним особой ненависти?
– Мой отец погиб под обстрелом английских крейсеров. Что ж, мне и британцев за это ненавидеть? А как ты, Оуэн? Глаз потерял. В бою, наверное?
– Вроде того.
– Ты их ненавидишь? За то, что остался без глаза?
– Уже второй раз сегодня мне задают этот вопрос. – Я отрицательно покачал головой. – Нет, у меня к ним нет ненависти. Сейчас они находятся по другую сторону в игре, в которую мы играем, и это значит, что мы изо всех сил стараемся уничтожить друг друга, таковы обстоятельства. Я нарвался на часовых сегодня на утесе, возле «Чертовой лестницы», где высадился.
Она нахмурилась:
– И что?
– Они пытались захватить меня в плен. Как ты думаешь, что я сделал?
– Ты их убил? Обоих?
На ее лице отразился настоящий ужас. Лишь позже я сумел уяснить суть происходящего и понять ее. Для нее это были люди, которых она встречала каждый день на протяжении многих лет. Вполне могло быть, что тех двоих, которых я прикончил в бункере, она знала. Как ни верти, а я здесь был пришелец, самозванец. Пять лет – срок большой. Пять лет, за которые весь остальной мир отдалился и почти исчез.
– Еще два имени в списке покойников, Симона, – сказал я. – Так и будет, пока я на войне.
Она смотрела на меня, побледнев; по глазам было видно, как ей тяжело. Я знал, что она хочет сказать: я стал другим человеком. Тот Оуэн Морган, которого она знала и любила сто или двести лет назад, умер, став еще одной жертвой войны. Но она ничего не сказала, вместо этого сделала над собой усилие, улыбнулась и взяла у меня стакан.
– Принесу тебе еще пива.
На стене висели три работы моего отца, выполненные акварелью, которые он на протяжении ряда лет дарил старому Сеньору. Был здесь и вид на залив Ла-Гранд с вершины утеса в летний день.
Мольберт Штейнера стоял, задвинутый в дальний конец комнаты, и я подошел посмотреть. Странно, но ни один из нас не упомянул его имени, даже мимоходом, на протяжении последнего получаса, и все же он стоял между нами как живой.
Портрет был близок к завершению и выполнен настолько хорошо, что у меня перехватило дыхание. Даже в незаконченном виде эту работу сочли бы подлинным произведением искусства где угодно. Совершенной была не только техника исполнения, но и стиль, уверенность движений кисти, чувство формы и красоты.
Она подошла ко мне сбоку, держа стакан с пивом, а я сказал:
– Мой отец как-то говорил, что масляные краски под силу и дураку, а вот писать акварелью может только художник. У Штейнера славно получается.
– Он был бы счастлив услышать это от тебя.
– Ты его любишь?
Она смотрела на меня, и глаза на ее бледном лице казались глубокими темными впадинами. Я подошел к двери в спальню, открыл ее и включил свет. Кровать была застелена, но я сразу понял все, о чем хотел знать. На прикроватном столике – пара казенных солдатских расчесок с крестом дивизии «Бранденбург», выгравированным на ручке, рядом с умывальником – бритва, помазок и мыло.
Я обернулся, и она сказала, стоя у двери гостиной:
– Пять лет, Оуэн, пять лет, а он – человек хороший. Лучший из всех, кого я знала.
– Ты его любишь? – спросил я беззвучно.
– О, мужчины! – сказала она безнадежно. – Я говорю об одиночестве, о покое и уюте, а ты? Для тебя все просто, доступно и правильно.
– Ты его любишь? – повторил я.
– Могла ли я? – сказала она. – Мое сердце отдано другому, или ты забыл? Мне было четырнадцать, когда я влюбилась в тебя впервые, в твой день рождения, когда тебе исполнилось двенадцать, насколько мне помнится.
– Мне ты всегда казалась слишком старой.
Она коснулась рукой моего лица.
– Вот так лучше, вот это – мой Оуэн. В этой улыбке ты весь. Крошка Морган, мой маленький Оуэн.
Я обнял ее за талию и прижал к себе.
– Веди себя приличней, подружка, для тебя я – полковник Морган, не забывай этого.
Она вскинула брови и добавила:
– Долго же мы шли от дома пятнадцать по Нью-стрит...
– Это в прошлом, – парировал я. – Пять лет – это же чертовски долгое время, как подумаешь.
Несколько месяцев я был лишен утех плоти и мог бы прямо об этом сказать, но я так стосковался по Симоне, что мне было не до слов. Мы упали поперек кровати, губы наши крепко сомкнулись, – и вдруг в отдалении послышались частые выстрелы.
Я бегом пролетел через гостиную, распахнул дверь и выскочил наружу. Тотчас же снова услышал стрельбу в стороне Шарлоттстауна и зловещий рокот пулемета. Чуть погодя заработали дизельные моторы.
Симона вышла и встала рядом со мной. Я быстро спросил:
– Что за суда сейчас в бухте?
– Крупных нет, – сказала она. – В основном рыбацкие лодки, оставленные местными жителями. О, я забыла, вчера торпедный катер зашел. Погоди, у меня где-то есть бинокль.
Торпедный катер? Вот так удача. Теперь мне явственно был слышен шум двигателя. Опять послышалась стрельба; Симона вернулась с биноклем в кожаном чехле.
То был цейсовский, самый лучший бинокль ночного видения, который можно было достать; спрашивать, откуда он у нее появился, мне было недосуг. Наверное, от Штейнера. От Ла-Фолез Старая бухта была не видна, но виден был изгиб адмиралтейского волнолома и вход в ту часть бухты, которую жители называли Новой бухтой.
Я выбрал фокус бинокля как раз в тот момент, когда подводная лодка выходила в море, и тут Симона потянула меня за рукав:
– Что это, Оуэн? Что это значит?
– Это значит, что все пошло к чертям, – ответил я ей. – Прямо как в песне, которую напевал Штейнер.
* * *
Лишь много позже я сумел выведать у знающих людей и собрать воедино сведения, позволившие составить полную картину происшедшего в ту ночь.
Виноват был Фитцджеральд – он открыто нарушил приказ. В Новой бухте его люди заминировали несколько рыбацких судов, а более ничего достойного там не обнаружили.
Странно, что они не добрались до Старой бухты, ибо там стоял торпедный катер, пришвартованный к пирсу на ночь, то есть цель, ради которой стоило рисковать.
Двигаясь в сторону берега, Фитцджеральд случайно заметил охрану у старого склада и решил, что это как-то связано с проектом «Черномазый». Вдвоем с Грантом они высадились, попытались разведать обстановку и тотчас же были учуяны двумя сторожевыми овчарками, которых не заметили. Часовой открыл огонь – с этого все и началось.
Командир торпедного катера, конечно, действовал без колебаний. Услышав крик: «Диверсанты!» – он сразу понял, что противник высадился где-то рядом, и знал, какими судами обычно пользуются английские коммандос для морских операций.
Немцы были на высоте – охоту на диверсантов они развернули мгновенно. Забыв обо всем, я шарил биноклем по темному пространству за волноломом; как там Добсон и его ребята, думал я, ведь торпедному катеру с его скоростью ничего не стоит догнать... В предрассветных сумерках ночное небо разрезал другой трассирующий снаряд, вспыхнула осветительная ракета, и все пошло вразнос.
Я навел бинокль на резкость; в поле зрения попал наш моторный катер. При вспышках орудийных выстрелов я отлично видел все; видел даже фигуры людей на борту. Снаряд угодил в корму катера, взорвался, и сразу же полыхнуло пламя пожара.
Симона прижалась ко мне, обняв за пояс. Я перевел бинокль и выхватил из темноты торпедный катер, делавший круг для захода на цель; он вел огонь из всех бортовых орудий, а торпеда в пусковом лотке на носу напоминала сигару в зубах бандита.
Наш катер сильно пострадал: с кормы взвивались в ночное небо языки пламени, палубу разворотило, пушки и пулеметы молчали. Но у него еще был запас хода, и командир – хочу думать, это был Добсон, – воспользовался им как последним средством.
Торпедный катер развернулся, готовясь нанести смертельный удар почти в упор, но на этот раз его командир просчитался и подошел слишком близко к цели. Добсон, заложив крутой крен, развернулся почти на месте и ринулся на врага. Мгновение – и катера столкнулись. Удар был сокрушительным. Последовал взрыв, разорвавший темноту, огромный гриб огня и дыма взвился вверх, когда стали рваться топливные баки.
Мне было видно, как люди прыгают в море, превратившееся в огненное озеро. Я опустил бинокль. Симона плакала, уткнувшись мне в плечо. Я обнял ее и осторожно повел в дом.
Теперь мне ничего не светило и не улыбалось. Несомненно, немцы вывернут остров наизнанку, чтобы переловить всех, а в такой тесноте надежда ускользнуть от них весьма мала.
Был и еще один, ненадежный способ – уйти в море на надувной лодке, которую я оставил у подножия «Чертовой лестницы», и попытаться достичь французского побережья. Выбора не было, и я постарался объяснить это Симоне, которая думала иначе. Мы заспорили; наш спор был похож на замкнутый круг; она приводила свои доводы с таким жаром, что я чуть было не проморгал машину, подъехавшую к дому.
Судя по звуку, это был вездеход «фольксваген»; стало быть, явился Штейнер, и неспроста. Он наверняка приехал объяснить ей причину тревоги и предложить остаться на ночь у него.
Он уже подходил к крыльцу – слышно было, как хрустит гравий под сапогами. Она направилась к двери, с отчаянием взглянув через плечо на меня. Я ободряюще махнул рукой, вышел наружу через кухню и притаился в тишине ночи, а она открыла дверь и встретила его. Свою роль она играла хорошо.
– Что случилось, Манфред?
– Английские коммандос прорвались в бухту. Их, кажется, уже поймали, но не всех. Я думаю, тебе лучше на ночь переехать в Шарлоттстаун.
– Да нет, пожалуй, не стоит. – Ей удалось сказать это с легким смехом. – Что им до меня... А что произошло на море?
– Скверная штука. Торпедный катер вышел на поиски судна, которое доставило их.
– И нашел его?
– Вот именно – нашел. Они слились в объятиях. Оба пошли ко дну.
– Кто-нибудь уцелел?
– Радль распорядился, чтобы ни одно судно не выходило в море, если ты это имеешь в виду. – Он горько усмехнулся. – Ты знаешь, он действует строго по уставу, не более того. Действия на море – дело моряков; торпедный катер был последней морской единицей в Шарлоттстауне. Армия не имеет права соваться за пределы волнолома.
– Но ведь там погибают люди, которых можно было бы спасти, – сказала она.
– Совершенно верно, но для господина полковника Отто Радля правила есть правила, порядок есть порядок.
Наступила небольшая пауза, потом он спросил озадаченно:
– Это еще что такое?
Именно тут я сообразил, что на мне нет вязаной шапочки. Я глянул в щель и увидел, что он стоит у камина и держит в руке мою шапочку. Одет он был так же, как и прежде, только теперь на поясе у него в кожаной кобуре висел «люгер».
Странно, но вражды к этому человеку у меня не было. Я много уже знал о нем. Мне нравилось то, что я знал и видел, когда наблюдал за ним и Симоной: она вряд ли уж так безнадежно ошиблась в оценке этого человека. По той же причине не мог ошибаться и Эзра Скалли. Он и в самом деле рисует как Бог.
– Кто здесь был, Симона? Скажи мне, я требую.
Тон его голоса был на этот раз более суровым, и совершенно неожиданно его осенило возможное объяснение. Он начал поворачиваться, и я вошел, держа маузер наготове.
– Эти штуковины придумало гестапо, чтобы убивать бесшумно. Они действуют безотказно. Поэтому делай что тебе говорят. Забери у него оружие, Симона.
Она была бледна, как призрак, глядела затравленно. Он стоял словно изваяние, глядя, как она двинулась в его сторону. Она закрыла глаза, задрожала и отступила.
– Нет... нет, Оуэн, я не могу... не смогу... я...
Ее слова на миг отвлекли меня. Я глянул в ее сторону, и тут Штейнер, крутанувшись на одной ноге, швырнул мне в лицо фуражку, ухватил за левое запястье, выбил маузер из руки и, припав на колено, провел такой бросок, что я кувырком перелетел через ковер, лежавший посреди комнаты.
Я выставил плечо, вскочил на ноги, держа наготове финку в правой руке, и отвел руку назад, чтобы метнуть ее с разворота. Его реакция была фантастической: в долю секунды он успел выхватить пистолет, и мы оказались на миг друг против друга, готовые к смертельному бою, как вдруг между нами оказалась Симона, неумело сжимая в руке мой маузер.
– Прекратите! – крикнула она. – Прекратите это глупое, бессмысленное убийство!
Я ждал согнувшись, а Штейнер все еще стоял на колене и держал наготове пистолет.
– Это – Оуэн Морган, Манфред! – закричала она. – Ты что, не понимаешь? Это же Оуэн Морган!
Он бросил быстрый взгляд на нее, потом на меня, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на удивление.
– Это правда? Вы – Оуэн Морган?
– Да, это так.
Он неожиданно улыбнулся, причем вполне добродушно, поднялся и сунул пистолет в кобуру. Потом обнял Симону за плечи и сказал:
– Все в порядке, Симона. Теперь все будет хорошо.
Он попытался взять из ее руки маузер, но она отпрянула:
– Нет, пусть он пока будет у меня. Чтобы на равных, понятно? Я не хочу, чтобы кто-то из вас пострадал. Я этого не перенесу.
Она стояла и смотрела на нас горящими глазами, потом повернулась и бросилась в спальню. Дверь хлопнула, и Штейнер, покачав головой, сказал:
– Бедная Симона. Война есть война, то легче, то тяжелее, но когда не знаешь, за кого ты... – Он протянул мне руку. – Манфред Штейнер. Я уже давно хотел с вами познакомиться. Знаменитый Оуэн Морган!..
– Я не знал, что так знаменит.
– Ну как же, у Симоны вы на языке с утра до вечера. Только и разговору, что об Оуэне Моргане. Каждая скала на берегу – обязательно памятник чему-то, что вы вместе делали, какому-то сказочному подвигу из бесконечного лета.
Я угостил его сигаретой, и он стал задумчиво разглядывать меня.
– Вы прибыли вместе с коммандос?
Причин отрицать это я не видел.
– Я командовал операцией.
– Но вы не в военной форме.
– В форме или не в форме, – пожал я плечами, – какое это имеет значение с точки зрения приказа немецкого командования?
– Здесь этот приказ выполняется, предупреждаю вас, – сказал он. – Нынешний губернатор, полковник Радль, – суровый человек. Он всегда выполняет приказ, как бы это ни было неприятно. Согласно действующему приказу военнослужащие вражеских спецподразделений при взятии в плен подлежат казни незамедлительно. Ответственность за буквальное выполнение этого приказа лежит лично на командире каждого укрепленного района.
– Со стороны Радля это большая глупость, честно говоря, – сказал я. – Война не продлится больше месяца, это – крайний срок. Британские войска вот-вот пересекут Эльбу, а русские уже сражаются на подступах к Берлину.
– Знаю, – сказал он. – Я слушаю радио Би-би-си, вероятно, чаще вас, но Радль – человек особенный. В молодости он начинал вместе с Гитлером, еще в двадцатых годах, до прихода НСДПГ к власти. Ему это заменяет религию. И верит он полностью и без остатка. Он бы и своей собственной казни смотрел прямо в лицо, умер бы за свою веру так же спокойно, как древний христианин, преданный мучительной смерти в Риме. Ничто не могло бы убедить его изменить долгу.
– Сколько человек из группы вторжения осталось в живых?
– Не знаю. Несомненно, есть пленные. Двое, по крайней мере. Так мне сказал унтер из саперов, который шел докладывать в комендатуру.
Он покачал головой и спросил:
– Какова была цель рейда?
– Мы шли, чтобы узнать о вас и вашем проекте «Черномазый», – признался я, присаживаясь на край стола. – Руководство полагало, что вы могли бы представлять угрозу, если ваши люди решат сопротивляться до конца на этих островах.
– "Черномазый"? – На его лице выразилось неподдельное удивление, а затем он разразился хохотом. – «Черномазый» – угроза? Это самое смешное из всего, что мне пришлось слышать за несколько лет. Никакого проекта «Черномазый» нет. Уже что-то около двух месяцев. И в помине нет с тех пор, как мы израсходовали последние торпеды! – Он опять засмеялся и покачал головой. – Для нас война окончена – или была окончена до этого небольшого ночного эпизода. Когда закончится война в Германии, здесь она тоже закончится, обещаю вам.
– Но Радль – здесь, эсэсовские парашютисты – здесь, мы тоже здесь, и положение не изменилось, – сказала Симона, стоя в дверях спальни. – Что будет, если Оуэна схватят?
Ответ на этот вопрос был известен.
– Нескладно выходит, что вас некому подобрать, – проговорил Штейнер. – Есть еще какой-нибудь вариант ухода?
– У меня осталась резиновая лодка там, где я высадился. Можно попытаться добраться до Франции.
– Опасная затея.
– Лучше, чем остаться здесь. Могу я рассчитывать, что вы не будете мешать?
– У меня нет выбора, не так ли? – кивнул он в сторону Симоны. – Скажем так: вас здесь не было. Представляете себе, как поступят с ней эсэсовцы, если заподозрят, что у вас была какая-то связь?
– Представляю, – ответил я. – Даже лучше, чем вы, но это – другая история.
Я взглянул на часы. Выходное отверстие у подножия «Чертовой лестницы» пока еще скрыто пятью футами воды, но уровень резко снизится в течение следующего часа. Оставаться было бессмысленно.
Я поднял шапочку, натянул на голову и подошел к мольберту.
– Мне нравится ваша работа. Ничего нет лучше умело выполненного акварельного наброска.
– Кроме акварели, у меня ничего нет.
– Вы бы хорошо поладили с моим отцом. Вам одинаково удается прием смешения цветов на смоченной бумаге – прием сложный. Я никогда и ни у кого не замечал такого умения, только у отца.
– А, так вы говорите о живописце с острова? – сказал он. – О гении! Когда я учился в Слейде, он для нас был легендой. Рыбак-художник, одинокий самоучка. Его мелкие работы переходили из рук в руки по пятьсот гиней за штуку, и это в тридцать пятом году! А то, как он погиб... Незабываемо! Немногие становятся легендой за такой короткий срок.
Наступило неловкое молчание. Так мы и стояли друг против друга: он в военной форме, при всех регалиях, и я, одетый как боцман с финского парусника. Он стал мне симпатичен больше, чем кто-либо, кого я знал за долгие годы после гибели отца. Нравился он мне подсознательно, говорю это искренне.
Симона подалась вперед и сунула мне в руку маузер:
– Давай, Оуэн, исчезай, беги! Ищи смерти, если хочешь. Стоите тут и смотрите друг на друга – сказать-то нечего. Слов нет, до чего глупо, просто не верится!
Она разрыдалась и упала на кушетку. Штейнер поднял руку:
– Прощайте, Оуэн Морган. Хотелось бы узнать вас получше, но война имеет привычку во все вмешиваться.
Я слегка кивнул и на прощанье сказал:
– Присматривайте за ней, ладно?
Он кивнул; я повернулся и вышел.
* * *
Не более получаса прошло, когда я добрался до дороги, ведущей к бункеру над «Чертовой лестницей». Еще находясь футах в трехстах от нее, я услышал голоса и отскочил на обочину. Тотчас же из темноты со стороны форта Мари-Луиза с ревом выскочил полугусеничный бронетранспортер.
Вокруг бункера суетились люди; через некоторое время прибыла еще одна машина, и я услышал злобное фырканье собак. Это было последней каплей. Я бегом рванул через поля, держа направление на Гранвиль. Двигался я медленно, поскольку временами натыкался на колючую проволоку оборонительных сооружений, а возможность нарваться на мину бросала меня в дрожь.
Во всем этом была некая неизбежность. Не то чтобы я попал в беду, нет – дело было серьезнее. Я попал в клубок событий, в котором мне еще предстояло сыграть свою роль. Я хорошо понял это.
Я не мог достичь Гранвиля до рассвета; даже если бы это удалось, куда бы я пошел? Нет, нужно такое место, которое ни у кого не вызовет подозрений, и я вспомнил об утесах над заливом, где мы с Симоной в детстве играли, – укромное местечко на полпути к вершинам скал, кажущихся снизу неприступными.
В темноте я еле нашел его и наконец расположился, сидя на корточках, весь исцарапанный и в ушибах, под выступом скалы, на небольшом пятачке, окруженном кустами можжевельника. Если бы мне удалось спрятаться на все светлое время дня, это был бы хоть какой-то шанс – маленький-маленький; немцы могли прекратить поиски, посчитав, что нашли всех.
Так и сидел я там, согнувшись, и ждал, а тем временем на горизонте свет начал постепенно пробиваться сквозь темноту. А там, внизу, прилив начал выбрасывать трупы на берег сразу после того, как рассвело. Футах в ста ниже моего укрытия в полосе прибоя громоздились сплетенные человеческие тела.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.