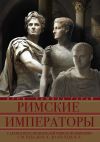Текст книги "Бесславие: Преступный Древний Рим"

Автор книги: Джерри Тонер
Жанр: История, Наука и Образование
Возрастные ограничения: +18
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 5 (всего у книги 25 страниц) [доступный отрывок для чтения: 8 страниц]
Вернемся к сообщениям о ночных разбойных нападениях Нерона на прохожих. Что мы можем здесь сказать? Мы не знаем (и вряд ли когда-нибудь узнаем), что именно происходило в то время и происходило ли вообще, но едва ли мы сильно ошибемся, если предположим, что кому-то было очень выгодно сделать эти истории достоянием общественности, поскольку они прицельно бьют по самым чувствительным точкам римской элиты. Ведь перед нами император, опустившийся до сближения с людьми из самых низов. Не надо забывать, что, рассорившись с сенатом, Нерон стал искать популярности и поддержки у простонародья с целью легитимизации своего правления. Так разве найдется лучший способ показать всю глубину падения Нерона и вместе с тем всю степень его сближения с плебсом, чем изобразить императора, ведущего себя как последний плебей? Приписываемые ему деяния имели место под покровом ночи в таких глухих закоулках города, куда благоразумные римляне опасались и заглядывать. То были городские кварталы, буквально олицетворявшие всё самое дурное и порочное, что только имелось в ту пору: мир, преисполненный насилия и населенный вышедшими из-под контроля людьми; мир, где от традиционных добродетелей, позволивших Риму завоевать и построить свою империю, давно не осталось и следа… Но, вероятно, прежде и превыше всего образ распоясавшегося императора являлся метафорой правителя, утратившего всякую легитимность, а потому заслуживающего и суда наравне с обычными уголовниками, и физического наказания за свои злодеяния.
Приписываемые Нерону нападения на случайных богатых прохожих служили также метафорой склонности Нерона к насилию над аристократией как таковой, а жестокость, с которой он якобы расправлялся со своими жертвами, – метафорой его режима. А главное, сам факт попрания закона главой судебно-правовой системы символизировал злонамеренность действий Нерона, использовавшего пребывание на высшем государственном посту не на благо общества, а для сокрушения установленного социального порядка. Нам вся эта история может показаться довольно глупой, вот только жизнь при Нероне для многих представителей римского высшего класса в самом деле превратилась в сущий ад. Образ Нерона в ипостаси ночного грабителя донельзя точно выражал подобные страхи в форме простой и доходчивой истории. Автор этих строк понятия не имеет, совершал Нерон приписываемые ему разбойные вылазки в действительности или нет. Да это в каком-то смысле и не важно. Кто-то очень хотел представить аристократической публике портрет императора, ведущего себя как уличная шпана, дабы пробудить в них праведное возмущение самим фактом пребывания у власти столь вульгарного человека. Ведь, по сути, именно поведение, недостойное члена правящей элиты, и вменялось в вину Нерону прежде всего; именно оно казалось основной проблемой.
Замечательные тексты, иллюстрирующие восприятие Нерона простонародьем, – описания Великого пожара 64 года, в разжигании которого многие подозревали и обвиняли государя. Сохранившиеся источники передают невероятный панический ужас, которым были охвачены римляне. А виноват во всем Нерон, поскольку лично он якобы «тайно разослал каких-то людей, которые под видом пьяных дебоширов сначала подожгли в разных частях где-то одно, где-то два или же несколько зданий, так что жители оказались в совершенной растерянности», и вскоре «такое страшное смятение овладело повсюду всеми людьми, что они метались из одной стороны в другую, как безумные», а в разгар бедствия «многие, обезумев от несчастья, даже бросались в огонь» (Кассий Дион, Римская история, LXII.16–18)[18]18
Фрагменты книги LXII даны в переводе Е. Молева и Н. Сивкиной.
[Закрыть].
Также и Тацит особое внимание уделяет участи толпы. Всеобщее смятение, по его словам, охватило людей, и великое множество народа сгорело, задохнулось и было затоптано, «не зная, откуда нужно бежать, куда направляться», поскольку стремительному распространению пламени способствовал «сам город с кривыми, изгибавшимися то сюда, то туда узкими улицами и тесной застройкой, каким был прежний Рим» (Тацит, Анналы, XV.38). Но вправду ли волновала Тацита судьба простых горожан, о которых он столько написал? До какой-то степени, может быть, и волновала, но весьма похоже, что историк умело использовал описание пожара в качестве лишнего повода подчеркнуть масштаб страданий римлян под гнетом власти Нерона, императора чрезвычайно скверного. Нам предлагают исключительно злодейский образ Нерона – разбойника и поджигателя. Следует отметить, что Тацит создавал свои «Анналы» для элиты, а не широкой читающей публики. Простой народ в его изложении играет роль сугубо иллюстративную и вводится в повествование лишь для того, чтобы пролить свет на беззакония, творящиеся в высокой политике. И мы невольно оказываемся втянутыми в литературные игры римской элиты.
Прямой противоположностью Нерону предстает в источниках Октавиан Август – император, сумевший восстановить законность, обеспечить безопасность и навести порядок. После беззаконий, творившихся на фоне гражданских войн на закате республики, повсеместно расплодились банды, состоявшие, вероятно, по преимуществу из солдат разгромленных армий. Согласно Светонию, Август положил конец этим разбоям, расставив караулы и распустив новоявленные коллегии, служившие ширмой для организованной преступности. Затем он провел судебную реформу, позволившую прекратить бесконечно затягивать дела, которые прежде рассматривались только ради сведения личных счетов с обвиняемыми (Божественный Август, 32). Опять же, многое здесь вполне может соответствовать действительности. Однако Светоний счел важным перечислить эти заслуги Августа для того, чтобы тем самым зафиксировать в истории портрет лидера, восстанавливающего общественный порядок, и одновременно описать судебно-правовую систему, призванную поддерживать установленный порядок и отражающую саму его суть.
Итак, можем ли мы реконструировать хоть что-то из реалий насильственной преступности в Римской империи? Тексты жалоб в суды полезны тем, что позволяют услышать голос простых людей, стоявших на низких ступенях социальной лестницы, но к этим документам ни в коей мере нельзя относиться как к некоему древнему подобию современных исковых заявлений или показаний потерпевших. Складывается совершенно определенное впечатление всеобщей жесткой конкуренции в борьбе за продвижение вверх по ступеням социальной иерархии, – в борьбе, которая часто оборачивалась кровопролитием. Это сегодня мы склонны изыскивать бескровные пути разрешения споров и считать вспышки насилия срывом процессов мирного урегулирования конфликтной ситуации, а в Риме, похоже, силовое решение считалось естественным и даже надлежащим способом положить конец любым разногласиям. В таких случаях насилие часто облекалось в ритуальные формы и даже служило мощным источником чувства общности. Сплачивая людей в борьбе за общее дело, насилие, можно сказать, играло даже в чем-то позитивную социальную роль.
Большинство римлян обитали в страшном мире, где насилие дома и на улицах было такой же неотъемлемой частью повседневной жизни, как вино и оливковое масло. Охрана общественного порядка сводилась к минимуму. К тому же властям и в голову не приходило озаботиться дополнительными мерами по защите подданных от преступного насилия: ведь преступность как таковая заботила чиновников лишь в тех редких случаях, когда ее масштабы начинали ставить под угрозу само общественное устройство. Вот римляне и вынуждены были обходиться без помощи сил охраны порядка, обращаясь за защитой от жестоких посягательств со стороны преступников к собственной семье; людям, реально пострадавшим от насилия, зачастую оставалось лишь терпеть, стиснув зубы. Да и неудивительно, в конце-то концов, что общество, снискавшее себе славу в бесчисленных войнах, гордое своим бойцовским духом и выставлявшее его по праздникам напоказ в жестоких игрищах на аренах цирков, не видело ничего предосудительного в ежедневной дозированной подпитке будничным насилием.
Глава 2
От мелких краж до хищений в особо крупных размерах

ЕСЛИ МЫ ОСВЕДОМИМСЯ о самом распространенном преступлении в античном Риме, то получим однозначный ответ: воровство. Сатирик Ювенал зло высмеивает Рим, описывая его как город, кишащий домушниками, карманниками и прочими представителями воровского сообщества. Вопреки нашим сомнениям в правдивости его свидетельств, имеется немало других показаний о том, что нарисованная Ювеналом картина недалека от истины: в Риме довольно сложно было остаться не ограбленным. На самом деле воровство, похоже, процветало не только в Риме, но и по всей империи. В одном египетском папирусе описано, как кладовую в доме потерпевшего обворовали, проломив крышу и потолок. Жилые и хозяйственные постройки в египетской провинции были в основном деревянные и глинобитные, так что ни стены, ни потолочные перекрытия не представляли серьезной преграды для взломщиков. Другой случай: кто-то сделал подкоп под стену овчарни со стороны улицы и похитил ягнят. В третьем заявлении потерпевший жалуется, что воры под покровом ночи «повыдергивали гвозди из дверных досок и вынесли из дома всё подчистую, воспользовавшись моей отлучкой на похороны зятя» (P. Tebt. 2.332).
Вышеприведенные примеры ярко иллюстрируют характер воровства, преобладавшего в деревнях и малых городах Римской империи. Далеко не везде и не всегда дело ограничивалось хищением личного и домашнего имущества. Правивший во II веке император Коммод (тот самый, что показан в фильме «Гладиатор») якобы казнил богатых сенаторов по обвинению в государственной измене исключительно с целью конфискации их имущества в императорскую казну. Полулегальный отъём чужого имущества подобными методами легче легкого давался верховным римским правителям, ни в грош не ставившим законы, гарантами соблюдения которых они же сами и являлись, – и это немало способствовало «пополнению казны», а проще говоря, личному обогащению.
Мелкое воровство, впрочем, не было уделом одной лишь бедноты; знатные и богатые римляне также отнюдь не упускали случая прибрать к рукам всё, что плохо лежит. Потомственный преторианец Тит Виний, прежде чем дослужиться до звания командира легиона, успел запятнать свое имя «проступком, достойным раба», по презрительной характеристике Тацита, а именно кражей золотого кубка с пира у императора Клавдия. В ответ Клавдий преподал Винию образцово-показательный урок и на следующий день приказал слугам подать ему – единственному из гостей – глиняный кубок (Тацит, История, I.48).
Значительная доля краж, похоже, совершалась людьми, хорошо известными жертвам: например, соседями и даже ближайшими родственниками. Ограбленные нередко оказывались поблизости от места событий и пытались противостоять ворам или, узнав или заподозрив, кто именно похитил их имущество, предпринимали попытки защитить его, и зачастую это приводило к кровавым развязкам.
Примеры подобного рода хищений имущества у ближних встречаются повсеместно и во множестве. В папирусе 144 года н. э. описано, как у женщины в ее отсутствие украли из дома драгоценности, и она указывает на конкретного соседа как на единственного подозреваемого (P. Oxy. 10.1272). Живший в I веке н. э. астролог Дорофей Сидонский дает детальные словесные портреты воров из числа «домочадцев или частых гостей» (Dorotheas Sidonius, Carmen Astrologicum, V.XXXV.76–78). Затем он, ссылаясь на звездные карты, даже разъясняет, что взломщик «может использовать знание дома изнутри для незаметного снятия слепков с дверных ключей», и всё это бесчинство творится им, невзирая на «дружбу с обитателями дома и их доверие к нему» (V.XXXV.137).
Имущество могло пропадать из дома и вследствие распада брака. Один брошенный муж жалуется, что «жена разочаровалась в браке с ним» и ушла, забрав не только ребенка, но и немало личных вещей истца, включая мантию, подушку, массу мелких предметов одежды заодно с комодом, в котором они хранились, две туники, всяческую кухонную утварь и иной сельхозинвентарь. Далее покинутый отец жалуется, что, хотя он исправно посылает своей бывшей средства на пропитание ребенка, та отказывается возвращать его вещи. А тут еще ему рассказали, что жена не просто ушла, а сбежала к некоему Нилу, за которого вышла замуж и которому досталось всё украденное добро. Засим его терпение лопнуло, и он подает настоящий иск (P. Heid. 13). Однако большинство краж, особенно в крупных городах, в отличие от вышеописанного случая ничего личного под собой не имели. О самом Риме и говорить нечего: огромный город открывал перед среднестатистическим злоумышленником несоизмеримо больше возможностей, чем какая-нибудь захудалая египетская деревушка, и покушаться на имущество ближайших соседей римским ворам было без надобности.
Древнеримское право в части классификации посягательств на чужую собственность сильно отличалось от современного. В частности, римляне не проводили границ между различными видами краж (воровство, хищение, кража со взломом и т. п.), описывая любое присвоение чужого имущества термином, который первоначально означал ночное проникновение в чужое жилище. Однако ночная кража из дома каралась строже дневной. Главное же различие римляне проводили между «явной» и «неявной» кражей. К случаям «явной кражи» (furtum manifestum) относились эпизоды, когда вор бывал пойман с поличным. Вот только и понятие «с поличным» трактовалось неоднозначно, и степень близости места поимки от места совершения кражи, позволяющая квалифицировать ее как «явную», служила предметом нескончаемых дискуссий между юристами. В целом, поймав вора с краденым горшком прямо на выходе из дома, можно было рассчитывать на то, что ему вменят в вину явную кражу; если же вы настигли его уже поодаль, то вам еще приходилось доказывать, что горшок действительно ваш. В этом смысле трактовка понятия «быть застигнутым на месте преступления» у римлян ничем не отличалась от современной. Однозначное «да», если я поймал вора за руку с вытащенным из моего кармана кошельком; есть шанс, если я застал его расплачивающимся за кофе деньгами из своего кошелька; и однозначное «нет», если вор успел вернуться домой и спрятать деньги, скинув кошелек. Еще сложнее было доказать, что подозреваемый «пойман с поличным», поскольку в данном случае в определении присутствует еще и фактор времени. В наши дни не важно, схвачен вор за руку или пойман через неделю и за тысячу миль от места совершения кражи, – приговор ему будет вынесен одинаковый при условии наличия у обвинения «неопровержимых» или «не вызывающих обоснованных сомнений» доказательств. В Древнем Риме, однако, за явную кражу полагалось более суровое наказание, чем за неявную, хотя и доказанную, – по той простой причине, что после того, как субъект скрылся из виду, снижалась вероятность безошибочного вменения кражи в вину задержанному, а римляне не считали возможным строго наказывать человека, который мог оказаться невиновным.
Римскими законами была также предусмотрена довольно странная процедура розыска краденого. Она напоминала некий ритуальный обряд и называлась «обыск в полотняной повязке с чашей в руках». Обворованного запускали во владения подозреваемого в одной набедренной повязке и с руками, занятыми удержанием чаши, чтобы потерпевший не имел возможности прикасаться там ни к каким предметам, которые могут понадобиться в качестве вещественных доказательств, и тем более подкинуть обвиняемому улики. Также этот ритуал мог символизировать и подношение богам – хранителям домашнего очага (пенатам и ларам), чтобы те помогли раскрыть, где спрятаны краденые вещи. Теоретически жертве полагалось усмотреть в хозяйстве предполагаемого вора свою пропавшую собственность и тем самым доказать обоснованность подозрений. На практике же подобная процедура помогала обнаружить из краденого разве что крупные узнаваемые предметы, скот или рабов, но никак не монеты или мелкие ценности, которые проще спрятать и практически невозможно идентифицировать. Вероятность вернуть пропажу такими методами была крайне невысокой. Об этом косвенно свидетельствуют и предлагаемые в «Оракулах Астрампсиха» варианты ответа на вопрос «найду ли я утерянное?». Семь из десяти ответов надежды на возвращение пропажи не оставляют, а из трех утвердительных ответов один предрекает благополучную находку лишь в отдаленном будущем. Такое распределение вероятностей, надо полагать, соответствовало жизненному опыту составителей древних оракулов. Ни к чему было понапрасну обнадеживать суеверных современников, поскольку возвращение похищенного считалось редкой удачей. Потерпевшие могли надеяться, как пишет Дорофей Сидонский, на то, что добро похитил кто-то из домочадцев, близких знакомых или рабов; вероятность этого была высока. В таких случаях выявить и уличить вора и вернуть краденое оказывалось значительно проще.
Некоторые виды воровства, однако, считались более серьезным преступлением, чем все прочие, а в имперский период даже стали караться наравне с тяжкими преступлениями. Грабителей, например, могли приговорить к каторжным работам, в том числе пожизненным. Но и тут действовала характерная для римской юстиции избирательность правоприменения: приговор корректировался сообразно социальному положению обвиняемого. Грабителей из числа «почтенных» граждан вместо драконовского наказания каторгой, положенной плебеям, приговаривали, опять же, к пожизненному или временному исключению из сословия или изгнанию (Дигесты, XLVII.XVIII.1.1). Может показаться странным, что кто-то из римской элиты не брезговал заниматься уголовщиной, однако это имело место. Вот прецедент: один римский всадник, совершивший кражу денег со взломом, сделав отверстие в стене, был приговорен к изгнанию из провинции Африка и из Италии сроком на пять лет (Дигесты, XLVII.XVIII.1.2).
Итак, ночная кража со взломом считалась в римском праве более тяжким преступлением, чем дневная. Другим отягчающим обстоятельством, влекущим за собой ужесточение наказания, являлось наличие при воре на месте преступления мешка или сумы, поскольку, надо полагать, это расценивалось как прямое указание на намерение вынести побольше хозяйского добра, а не просто поживиться чем боги пошлют. Отдельной статьей проходила кража скота, которая наказывалась с особой строгостью в тех случаях, когда скотокрадов уличали в целой серии преступных эпизодов. Кража крупного рогатого скота и конокрадство считались более тяжкими преступлениями, чем угон свиней, овец или коз. Судя по всему, скотокрадство являло собой реальную повсеместную проблему на горных и равнинных пастбищах империи: преступники организовывали шайки и легко справлялись с пастухами-одиночками. Болезненное отношение к скотокрадству можно объяснить еще и тем, что большинство римских юристов были людьми состоятельными, владели обширными землями и тучными стадами, а значит, и сами регулярно несли досадные убытки из-за набегов скотокрадов. Запрещалось даже размахивать красной тканью, так как это пугало скот и животные пускались в бегство (Дигесты, XLVII.II.50.4).
Пособники, подстрекатели и укрыватели по закону также считались соучастниками кражи. Считалось, что даже человек, который сознательно дает в ссуду железные орудия для взлома двери или шкафа либо лестницу, тоже должен отвечать за соучастие в краже (Дигесты, XLVII.II.55.4). Также наравне с разбойниками или ворами карались их укрыватели, те, «кто мог бы задержать разбойников, но отпустил их, приняв деньги или часть награбленного» (Дигесты, XLVII.XLVI.1). Некоторое снисхождение допускалась лишь в отношении укрывателей из числа кровных родственников преступника: это принималось во внимание как неизбежное зло.
Закон также пытался пресечь мародерство, предписывая взыскивать с тех, кто мог украсть что-то в результате кораблекрушения (Дигесты, XLVII.IX.1). Вот только простые люди в подобной поживе ничего безнравственного и предосудительного не усматривали или, как минимум, относились к мародерам с молчаливым пониманием. Император Адриан постановил, что за сохранность имущества с потерпевших крушение или вынужденно приставших к берегу кораблей отвечают приморские землевладельцы. Однако вполне очевидно, что это была скорее полумера, поскольку и на борту попавшего в беду судна всегда найдутся любители прибрать к рукам что-нибудь из перевозимых ценностей или товаров. А если так, то не послужило ли узаконенное Адрианом правило лишь усугублению риска, что корабль будет попросту разграблен экипажем и намеренно брошен у берега? Тем более что расхитителям имущества невозможно было инкриминировать что-то кроме мародерства, поскольку вынос вещей с выброшенного на берег корабля приравнивался к выносу вещей с пепелища или из руин дома. Неудивительно, что некоторые законотворцы, будучи по совместительству судовладельцами или купцами, доставлявшими товары по морю, настаивали на ужесточении наказаний. Но судовые команды и прибрежные жители во все времена почитали кораблекрушение за удачную возможность легко и безнаказанно поживиться на чужом несчастье. В конечном счете морская торговля всегда считалась предприятием крайне рискованным, и тем, кто инвестировал в эту сферу, приходилось закладывать в маркетинговый план неизбежные убытки – оборотную сторону богатого куша, который они должны сорвать в результате каждого благополучно завершившегося рейса. Кстати, на побережьях Римской империи зафиксированы и случаи кораблекрушений в результате действий на грани пиратства, когда неизвестные (предположительно, жители рыбацких деревень) зажигали на берегу ложные сигнальные огни и заманивали суда на рифы.
Правообладателям!
Данное произведение размещено по согласованию с ООО "ЛитРес" (20% исходного текста). Если размещение книги нарушает чьи-либо права, то сообщите об этом.Читателям!
Оплатили, но не знаете что делать дальше?