Текст книги "Палач, или Аббатство виноградарей"
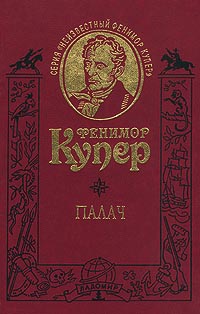
Автор книги: Джеймс Купер
Жанр: Литература 19 века, Классика
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 18 (всего у книги 32 страниц)
– Ты ошибаешься, почтенная госпожа; за службу ваша семья имеет наследственные привилегии, которые, не сомневаюсь, всегда считались вашим семейством выгодными.
– Я не знаю, как было в те мрачные и давние века, когда лучший из варваров был свирепей нынешних разбойников; возможно, тогда люди соглашались нести службу палача по доброй воле. Но согласно ли с волей Господа, волею которого существует мир доныне, а в будущем всякое зло будет осуждено, – что сын должен наследовать злые деяния отца?
– Как! Ты подвергаешь сомнению законность унаследования? Наверное, ты готова оспорить даже права бюргерства!
– Мне не известно ничего о твоих гражданских правах, и я не могу ни одобрять, ни порицать их. Но вся жизнь моя, протекшая в унижении, могла бы быть светлой и радостной; думаю, привилегии, честно заслуженные, хотя и с ними могут быть сопряжены довольно трудные обязанности, совсем не то, что ответственность детей за преступления отцов. Это противоречит воле неба, и настанут времена, когда за обиды невинных придется платить.
– Обида за свою милую дочь, добрая Маргерит, принуждает тебя говорить столь сурово.
– Разве дочь палача и жены палача не столь же дорога своим родителям, как эта прекрасная девица, сидящая рядом со своим благородным отцом? Разве меньше я буду любить свою дочь оттого, что ее презирают жестокие люди? Не так же ли я страдала, рожая ее, радовалась детскому смеху, надеялась, что она будет счастлива? Разве меньше трепетала бы я, соглашаясь отдать ее жениху, будь она более удачливой, но не такой красивой? Или Господь создал две природы – и матери тоскуют по-разному, по-разному томятся о детях – о богатых и счастливых не так, как о бедных и всеми презираемых?
– Продолжай, добрая Маргерит; ты необычно судишь о деле. Так, значит, наши уважаемые обычаи и продуманные указы, распоряжения правительства, городские правила – ничто в сравнении с естественными законами, честными и действенными?
– Думаю, они выше, чем выдуманное людьми право, и действуют, когда слезы обиженных выплаканы и судьбы их позабыты!
– Твоя дочь красива и скромна, – сказал синьор Гримальди, – и еще найдется юноша, который вознаградит ее за нынешнее бесчестье. Тот, который отказался от нее, не достоин ее доверия.
Маргерит с очевидной нежностью взглянула на свою бледную и все еще неподвижную дочь. Взгляд ее смягчился, и она прижала Кристину к груди, как голубка, прикрывающая птенца. Все ее чувства, казалось, растворились в этом порыве любви.
– Моя девочка не только красива, – заговорила Маргерит вновь, и никто не пытался ее перебить, – она – что гораздо ценней – добродетельна! Кристина нежна и послушна, и не для грубости мира создана ее душа. Мы безропотны, бейлиф, но и у нас есть свои желания, надежды, воспоминания и стремления, которые вознаграждаются у других; и когда я тщетно пытаюсь понять, отчего судьба так несправедлива к нашему роду и горечь переполняет мое сердце настолько, что я готова проклясть Провидение и умереть, – только моя нежная, любящая девочка способна угасить снедающее меня пламя и привязать к жизни; только ее любовь и невинность могут заставить жить даже под более тяжким бременем, чем то, что я несу. Ты происходишь из почитаемого всеми рода, бейлиф, и не можешь вполне понять наши страдания; но ты человек и должен знать, что значит болеть за другого, особенно если это – твоя плоть и кровь.
– Ты говоришь сильно, Маргерит, – вновь перебил ее бейлиф, который чувствовал затруднение и поскорей желал от него избавиться. – О небо! О ком же нам еще печься, как не о своих детях! Но ты все же не должна забывать, что я холостяк, а холостяки в первую очередь заботятся о себе. Отойди же и позволь всем пройти, чтобы мы наконец приступили к долгожданному праздничному ужину. Если Жак Коли не желает взять в жены твою дочь, я не могу его принудить. Удвой приданое, добрая женщина, и у вас не будет отбоя от женихов, несмотря на топор и меч, изображенные на вашем гербе. Стражники! Очистить путь для семейства вершителя закона, семейства почтенного и нуждающегося в защите.
Толпа с готовностью повиновалась, отступая под натиском стражников, и через несколько минут деревенская свадьба и процессия Гименея, чувствительные к смешному, которое вдвойне свойственно глупости, не предвидящей последствий собственных выходок, рассеялись.
ГЛАВА XIX
Рыданий женских – горьких, злых —
Ты никогда не знал,
И ран твоих бальзамом слез
Никто не орошал.
Берне
Многие любопытствующие покинули площадь вслед за актерами и зрителями, тогда как прочие заторопились подкрепиться в закусочных, что составляло важную часть праздника. На возвышении почти никого не осталось; через несколько минут живой ковер из голов перед бейлифом тоже уменьшился: лишь у сотни-другой из собравшихся лучшие чувства возобладали над привычкой угождать своим природным желаниям. По-видимому, примерно в таком соотношении толпа обычно распределяется в тех случаях, когда себялюбие влечет в одну сторону, а сочувствие к несправедливо обиженным – в другую: подобное происходит при всяком большом скоплении зевак, присутствующих при событии, где выказываются интересы, которые никак не соотносятся с интересами каждого наблюдателя в отдельности.
В число оставшихся входили бейлиф со своим ближайшим окружением, узники, семейство палача и куча стражников. Взбудораженному Петерхену, ввиду сложностей возникшего вопроса, уже не столь желалось поскорее занять место за пиршественным столом; он не сомневался, что ни к чему существенному, в смысле гастрономическом, без него не притронутся. Мы были бы несправедливы, заключая о качествах его души, если бы умолчали об угрызениях совести, мучившей Петерхена, которая теперь подсказывала ему, что с семьей Бальтазара обошлись жестоко. Предстояло также решить и участь Мазо – непредвзято, но твердо, как и подобает облеченному властью чиновному лицу. Когда толпа растаяла, бейлиф и сидевшие рядом с ним поднялись со своих мест и присоединились к тем, кто, вместе со стражниками, находился на площадке перед возвышением.
Бальтазар по-прежнему неподвижно стоял, будто прикованный, у стола нотариуса, стараясь оградить себя – в присутствии жены и дочери – от оскорблений, которым он, разоблаченный, неминуемо подвергся бы теперь в толпе; он ожидал только благоприятного момента, чтобы незаметно исчезнуть. Маргерит все еще крепко прижимала Кристину к груди, словно ревниво оберегала любимицу от новой обиды. Струхнувший жених при первой же возможности скрылся: на протяжении всего праздника в Веве его больше не видели.
Едва ступив на землю, Петерхен торопливо оглядел эту группу; далее он повернулся к тем, кто задержал беглецов, и жестом велел им приблизиться вместе со своими пленниками.
– Негодяй, твое злоязычие помешало одному из увлекательнейших обрядов празднества. – С начальственной укоризной в голосе бейлиф обратился к Пиппо. – Стоит отослать тебя в Берн, чтобы в наказанье за свое карканье ты целый месяц подметал бы там улицы. Скажи, заклинаю тебя именем всех твоих римских идолов и святых, чем не угодно тебе счастье этих честных людей, раз уж ты столь неподобающим образом вздумал его возмутить?
– Только любовь к истине, Eccellenzanote 129Note129
Ваше превосходительство (ит.).
[Закрыть], и непреодолимый ужас перед убийцей заставили меня решиться на это.
– Понятно, что ты и тебе подобные должны испытывать ужас перед блюстителями справедливости; весьма возможно, твоя неприязнь распространяется и на меня, ибо я намерен вынести суровый приговор тебе и твоим дружкам за то, что вы нарушили гармонию празднества и в особенности за вашу чудовищную провинность – оскорбление исполнителей закона.
– Не могли бы вы уделить мне минуту внимания? – шепнул на ухо Петерхену генуэзец.
– Хоть целый час, благородный Гаэтано, если вам будет угодно.
Оба отошли в сторону посовещаться. Во время короткого диалога синьор Гримальди изредка взглядывал на молчаливого Мазо, стоявшего с сокрушенным видом, и простирал руки к озеру, как будто желая дать наблюдателям понять, о чем идет речь. Выражение непререкаемой строгости на лице господина Хофмейстера по мере того, как он вслушивался, сменилось почтительной озабоченностью – и вскоре черты его лица совершенно разгладились, свидетельствуя о готовности прощать всех и вся. Едва только синьор Гримальди умолк, бейлиф незамедлительно отвесил поклон в знак полного одобрения услышанного и тотчас же вернулся к пленникам.
– Как я уже объявил, – вновь заговорил он, – мой долг – вынести окончательное суждение по поводу совершенного этими людьми промаха. Во-первых, они чужеземцы и не ведают наших законов, а потому их право – ввериться нашему гостеприимству; далее, они уже достаточно наказаны за свой проступок тем, что отлучены от празднества; что касается оскорбления властей в лице наших посланцев, эту вину легко отпустить, поскольку умение прощать – признак великодушия, форма отеческого правления. Итак, во имя Господа, можете удалиться – все до единого, и соблюдайте впредь большую осмотрительность. Синьор, и вы, господин барон, не пора ли нам на банкет?
Однако оба старых друга уже двинулись вперед, оживленно беседуя, и бейлифу пришлось искать себе других компаньонов. Рядом никого не оказалось, кроме Сигизмунда, который, сойдя с возвышения, стоял беспомощно, в совершенной растерянности, несмотря на свою недюжинную физическую силу и всегдашнюю готовность действовать. Взяв молодого воина под руку без лишних церемоний, предполагающих снисходительность, бейлиф увлек Сигизмунда с собой против его воли: Петерхен не замечал даже, что почти все вокруг разошлись, ибо мало кто умеет долго расточать сочувствие вне общества знатных и титулованных особ, и что Адельгейда осталась с семейством Бальтазара совершенно одна.
– Должность палача, господин Сигизмунд, – продолжал ненаблюдательный Петерхен, целиком поглощенный собственными рассуждениями и настолько уверенный в своем праве излагать их в присутствии подчиненного, младшего по возрасту, что совершенно не обращал внимания на беспокойство юноши, – должность палача в лучшем случае отвратительна, хотя положение и вверенная нам власть принуждают нас, в наших же интересах, придерживаться – в глазах публики – иного мнения. Тебе не однажды случалось замечать, в ходе военных учений, что для твоих соратников многое подчас следует изображать в ложном свете, дабы те, в ком столь остро нуждается государство, не вообразили, будто государство без них не обойдется. Что ты думаешь, капитан Сигизмунд, ибо ты еще питаешь надежды по отношению к прекрасному полу, о поступке Жака Коли? Следует одобрить – или осудить его поведение?
– Я считаю его бессердечным, корыстолюбивым негодяем!
Скрытая энергия, с которой были произнесены эти неожиданные слова, заставила бейлифа остановиться и вглядеться в лицо спутника – в попытке доискаться, чем они вызваны. Однако к Сигизмунду уже вернулось спокойствие: юноша издавна приучил себя придавать лицу нужное выражение, едва только разговор касался болезненного вопроса о его происхождении, что случалось не так уж редко, и не позволял минутной слабости одерживать над собой верх.
– Что ж, в тебе говорят твои лета, – возразил Петерхен. – Ты сейчас в той жизненной поре, когда смазливая внешность кажется нам дороже всякого золота. Однако после тридцати лет мы смотрим через другие очки, выискивая свой собственный интерес, и редко восторгаемся тем, что достойно восхищения, но в то же время не сулит нам большой прибыли. Возьмем дочь Мельхиора де Вилладинга: это женщина, способная воодушевить целый город – у нее и ум, и поместья, и красота, да еще голубая кровь; что ты, к примеру, думаешь о ее достоинствах?
– Думаю, она заслуживает всего того счастья, каким только способно одарить ее человеческое совершенство!
– Гм, ты ближе подобрался к тридцати, нежели мне казалось, герр Сигизмунд! Но что касается Бальтазара, тебе не следует полагать на основании немногих вырвавшихся у меня сгоряча благосклонных слов, будто моя неприязнь к этому выродку меньше твоей и меньше той, какую испытывает к нему любой честный человек, однако для бейлифа было бы неприлично и неблагоразумно порицать обязанности прямого исполнителя закона перед публикой. Есть чувства и переживания, естественно присущие нам всем, и среди таковых – почтительное уважение к лицам благородного происхождения (разговор велся по-немецки); а также ненависть и презрение к тем, кто носит на себе печать проклятия. Эти чувства свойственны нам от природы – и Боже сохрани, чтобы я, давно уже переживший романтический возраст, на деле разделял убеждения, человеческой природе чуждые.
– Разве не относятся они скорее к злоупотреблениям, к нашим предрассудкам?
– С практической точки зрения, юноша, разница не столь существенна. То, что привносится в ум воспитанием и привычкой, становится сильнее инстинкта, сильнее даже любого чувства. Неприглядное зрелище или дурной запах заставят тебя отвернуться или зажать нос, но мне ни разу не удавалось найти средство обуздать предрассудок, уже прочно укоренившийся. Гляди куда угодно, всеми способами отгоняй от себя воображаемое зловоние, но если человек осужден во мнении ближних, лучше ему взывать к Богу о справедливости, нежели к милости окружающих. К таким выводам привел меня опыт служения обществу.
– Надеюсь, законодательные уложения нашего старинного кантона далеки от них, – заметил юноша, стараясь побороть свои чувства, хотя это и стоило ему немалого труда.
– Так далеки, как Базель от Кураnote 130Note130
Так далеки, как Базель от Кура. – Кур – швейцарский город, центр кантона Граубюнден на востоке страны. Город Базель расположен на севере Швейцарии. Употребленное Купером выражение можно передать как «очень далеки». Фактическое расстояние между Базелем и Куром составляет около 165 км.
[Закрыть]. Мы не придерживаемся постыдных доктрин. Я готов бросить вызов всему миру: пусть мне укажут государство, которое следовало бы более благородным принципам, чем наши: мы даже стремимся согласовать наши действия с нашими взглядами, если это достаточно безопасно. Нет, что касается подобных частностей, Берн – это образец общественного устройства: здесь так же редко говорят одно, а делают другое, как и при любом другом правительстве. Мои слова, юноша, сказаны мной в непринужденной обстановке празднества, где, как тебе известно, безрассудные поступки побудили к откровенности и развязали языки. Мы открыто и во всеуслышание провозглашаем первенство истины и равенство перед законом, оберегая городские права; мы избираем священную, небесную, чистейшую справедливость нашей водительницей в любом отвлеченном вопросе. Himmel!note 131Note131
О небо! (нем).
[Закрыть] Если тебе захочется решить дело, исходя из честного принципа, предстань перед членами муниципального совета или перед судьями кантона, и ты встретишься с такой мудростью, с таким тонким пониманием права, что это сделало бы честь самому Соломону!
– И тем не менее предрассудки всюду берут верх.
– А может ли быть иначе? Человек разве не есть человек? Не гнется ли он туда, куда его клонят? И разве дерево не послушно изгибу ствола? Да, хотя я и преклоняюсь перед справедливостью, герр Сигизмунд, как и подобает бейлифу, но должен признаться, что если призадуматься, то не чужд ни предрассудкам, ни пристрастиям. Вот эта девушка, прелестная Кристина, не могла не утратить для меня части своего очарования, как несомненно она утратила его и в твоих глазах, едва только стало известно, что она приходится дочерью Бальтазару. Она красива, скромна и по-своему привлекательна, однако есть в ней нечто такое – не могу выразить точно – определенно есть какой-то… э-э… оттенок… налет… привкус, который сразу обозначил ее происхождение, стоило мне только услышать, кто ее родитель. Не то же ли самое произошло и с тобой?
– Не ранее того, как были предъявлены доказательства ее родства.
– Конечно же не иначе. Дело становится яснее, как только вглядишься попристальней, хотя первое впечатление может оказаться обманчивым, если безобразие прячется за покровами лжи. Внимание к тонкостям – необходимое условие философского подхода. Невежество – это маска, которая утаивает подробности, необходимые для полного знания. Под маской и мавр вполне сойдет за христианина, но сорвите с него личину – и вы увидите истинный цвет его кожи. Разве ты сам не замечал, к примеру, во всем, что касается женского очарования и женского совершенства, очевиднейшей разницы между дочерью Мельхиора де Вилладинга и дочерью Бальтазара?
– Разница в том, что одна девушка принадлежит к чтимому и обласканному судьбой роду, а другая заклеймена позором от рождения!
– Нет, мадемуазель де Вилладинг прекраснее.
– Природа и в самом деле проявила большую щедрость к наследнице дома Вилладингов, господин бейлиф, и ничуть не лишила ее женского обаяния, наделив вместе с тем счастливой судьбой.
– Я знал, что ты, втайне, не можешь придерживаться иного мнения, нежели все остальные! – воскликнул Петерхен с торжеством, поскольку принял воодушевление спутника за неохотно высказанное согласие с его собственными рассуждениями. На этом разговор прекратился: совещание между Мельхиором и синьором Гримальди подошло к концу – и бейлиф поспешил присоединиться к своим более важным гостям, а Сигизмунд наконец-то избавился от допроса, мучительно терзавшего его душу, хотя он и с презрением отнесся к чрезмерной словоохотливости собеседника, длившего над ним эту пытку.
То, что Адельгейда должна была покинуть отца, предполагалось и ранее: мужчин в этот час ожидали на торжественном обеде. Итак, Адельгейда оставалась возле Кристины и ее матери, не привлекая к себе особого внимания – даже со стороны тех, кого она сейчас участливо опекала с горячностью, естественной для ее пола и возраста. Близ Адельгейды находился и сопровождающий, облаченный в ливрею отчего дома: он должен был не только обеспечивать ей безопасность на людных улицах города, но и добиваться знаков почтения, приличествующих ее положению, со стороны тех, кого чрезмерно увлекали праздничные излишества. Именно при таких обстоятельствах более чтимая и, в глазах несведущих, счастливейшая из девушек приблизилась к другой, когда любопытство толпы было уже настолько удовлетворено, что семья Бальтазара осталась посреди площади почти что в одиночестве.
– Нет ли поблизости какого-либо дружественного крова, куда вы могли бы удалиться? – первым делом осведомилась наследница Вилладингов у матери бледной, полубесчувственной Кристины. – Главное сейчас – найти надежный приют для вашего невинного, исстрадавшегося ребенка. Если кто-то из моих слуг может быть вам полезен – прошу вас, распоряжайтесь ими, как если бы они были вашими собственными.
Маргерит еще ни разу не доводилось вести беседу с дамой, занимающей в свете высокое положение. Немалые средства, какими располагали семейства ее отца и ее мужа, предоставили ей все необходимое для умственного развития; возможно, она даже выиграла в умении держаться благодаря тому, что предрассудки заставляли женщин ее круга избегать ее общества. Как нередко свойственно тем, чьи мысли далеки от условностей, принятых в привилегированных слоях, Маргерит была отчасти присуща некоторая излишняя эмоциональность, хотя в то же время у нее совершенно отсутствовали грубость и вульгарность. Заслышав нежный голос Адельгейды, она безмолвно устремила на прекрасную утешительницу долгий пристальный взгляд.
– Кто ты и что ты, если ты способна полагать, будто дитя палача может подвергнуться незаслуженной обиде? И ты предлагаешь услуги своих челядинцев, словно сами твои вассалы не ослушаются твоих приказаний и не откажут нам в помощи?
– Я Адельгейда де Вилладинг, дочь барона, носящего это имя, и всячески намерена смягчить жестокий удар, нанесенный чувствам бедной Кристины. Позволь же моим слугам найти возможность препроводить твою дочь куда-нибудь в другое место!
Маргерит еще крепче прижала дочь к груди и провела рукой по лицу, словно желая что-то припомнить.
– Я слышала о тебе, госпожа. Говорят, что ты добра к пострадавшим несправедливо и благосклонна к несчастливцам; говорят, что замок твоего отца – почитаемое всеми гостеприимное прибежище, которое редко кто покидает с охотой. Но хорошо ли ты взвесила последствия своей щедрости к породе людей, из поколения в поколение отмеченной клеймом отверженности – от того, кто первым предложил свои кровавые услуги из жестокосердия и жадного корыстолюбия, до того, кто едва находит в себе силы исполнять омерзительную повинность? Хорошо ли ты все обдумала – или же безрассудно уступила внезапному девическому порыву?
– Я все обдумала, – с горячностью отозвалась Адельгейда. – Если вы испытали на себе несправедливость, от меня вам незачем ее опасаться.
Маргерит, поручив обессилено поникшую дочь попечению отца, подошла ближе, устремив полный глубокой симпатии взгляд на вспыхнувшую, но сохранявшую спокойствие Адельгейду. Она взяла Адельгейду за руку и с прочувствованным видом медленно проговорила, словно размышляя вслух:
– Всему находится объяснение: на свете еще существуют благодарность и отзывчивость. Мне понятно, почему мы не отвергаем это прекрасное создание: чувство справедливости возобладало в ее душе над предрассудками. Мы сослужили ей службу – и она не стыдится источника, откуда почерпнула помощь!
Сердце Адельгейды бурно забилось: ей показалось даже, что она неспособна совладать со своими чувствами. Однако отрадное убеждение, что Сигизмунд держался с честью и проявил деликатность даже при наиболее священных и конфиденциальных сношениях с матерью, принесло ей облегчение и наполнило счастьем: для чистой души нет мучительнее предположения, что любимые вели себя недостойно; и более всего вознаграждает уверенность, что они оказываются на уровне тех добродетелей, коими мы их щедро и с полным доверием наделили.
– Вы просто отдаете мне долг вежливости, – возразила Адельгейда, польщенная этими словно бы невольно вырвавшимися словами. – Мы в самом деле исполнены благодарности, но даже если бы не существовало священных обязательств признательности, я думаю, мы все равно могли бы придерживаться справедливости. Теперь вы согласитесь принять нашу помощь?
– В этом нет необходимости, госпожа. Отошлите сопровождающих: их присутствие только привлечет к нам ненужное внимание и вызовет малоприятные для нас выкрики. Горожане заняты сейчас праздником; мы по слепоте своей не осознали необходимости скрываться, как должно всем гонимым и преследуемым, но теперь воспользуемся возможностью удалиться незаметно. Что же до вас…
– Я не покину невинную страдалицу в столь трудную минуту, – твердо заявила Адельгейда, и в голосе ее прозвучало нескрываемое сочувствие, редко когда не встречающее отклика.
– Да благословит тебя Бог! Да будет с тобой милость неба, милая девушка! И небо тебя благословит, ибо зло в этой жизни не остается без отмщения, а добро вознаграждается. Отошли прочь своих слуг, но если тебе по привычке требуется их присутствие, пусть они спрячутся где-то поблизости, пока ты будешь за нами наблюдать, а когда все обратятся к собственным удовольствиям, ты можешь последовать за нами. Да пребудет с тобою милость неба – а пребудет она непременно!
Маргерит, в сопровождении безмолвного Бальтазара, повела дочь к наименее людной улице. Один из слуг Адельгейды отправился вслед за ними. После их благополучного водворения на место слуга вернулся к хозяйке, внимание которой было, казалось, развлечено множеством пустейших ухищрений, изобретенных на потеху толпе. Отпустив прислужников с наказом пребывать невдалеке, наследница Вилладингов вскоре сумела добраться до скромного жилища, где нашла приют гонимая семья. Ее незамедлительно провели в комнату, где расположились Кристина и ее мать.
Участие юной и заботливой Адельгейды было бесценным для девушки с такой душой, как у Кристины. Они плакали вместе: женская слабость возобладала над гордой выдержкой Адельгейды, когда она почувствовала себя освобожденной от глаз света и дала волю бурному излиянию чувств, прорвавшихся наружу, несмотря на все попытки сдержать их. Одна лишь Маргерит была свидетельницей безмолвного, но красноречивого единения двух юных и чистых сердец – и сама она до глубины души была тронута выражением сострадания со стороны той, что, осыпанная почестями, слыла такой счастливицей.
– Тебе хорошо понятны наши беды, – проговорила Маргерит, когда первое волнение немного схлынуло. – Теперь ты веришь, что дочь палача – такое же дитя человеческое, как и все прочие, и что нельзя его травить, как травят волчье отродье.
– Матушка, это наследная дочь барона де Вилладинга, – произнесла Кристина. – Разве она не пришла сюда, не проявила к нам жалость?
– Да, это так, но мне тяжко, даже когда меня жалеют! Сигизмунд говорил нам о ее доброте, и дочь барона воистину умеет сочувствовать несчастным.
Упоминание имени Сигизмунда заставило щеки Адельгейды пылать огнем, хотя сердце ее стиснул едва ли не смертный холод. Смущение вызвала внезапная встревоженность девических чувств; потрясение было неотделимо от слишком явственно и ощутимо представшей перед ней родственной связи Сигизмунда с семейством палача. Ей легче было бы перенести это, если бы Маргерит заговорила о сыне менее фамильярно – или же тоном напускного неведения, каковое, как Адельгейда, почти не задумываясь над действительным положением вещей, привыкла считать, существует между юношей и его родными.
– Матушка! – укоризненно воскликнула Кристина, выражая удивление, словно невзначай, бездумно, была допущена большая неосторожность.
– Не важно, дитя, не важно. По тому, как вспыхнул сегодня взгляд Сигизмунда, я поняла, что наша тайна скоро будет раскрыта. Благородный юноша должен проявить больше энергии, чем его предшественники; он должен навсегда покинуть страну, в которой был осужден еще до своего рождения.
– Не стану отрицать, что о вашем родстве с господином Сигизмундом мне известно, – заметила Адельгейда, собрав всю свою решимость для заявления, которое сразу снискало ей доверие со стороны семьи Бальтазара. – Вам ведома та огромная благодарность, которой мы обязаны вашему сыну, и это объясняет мою обеспокоенность вашим нелегким положением.
Маргерит испытующе взглянула в зардевшееся лицо Адельгейды. Вовсе не ощущая торжества, почти забыв о благоразумии, мать юноши тревожно вглядывалась в черты Адельгейды, будто страшилась собственной догадки; потом отвела глаза и погрузилась в сосредоточенную задумчивость. За этим выразительным обменом взглядами последовало глубокое и неловкое молчание, которое каждая охотно готова бы была прервать, если бы этому не препятствовал напряженный и стремительный бег мыслей.
– Мы знаем, что Сигизмунд оказал тебе услугу, – заговорила Маргерит. Она постоянно обращалась к юной посетительнице с непринужденностью, какая подобает старшему по возрасту, тогда как Адельгейда привыкла к почтительному отношению к ней лиц, стоящих ниже ее на общественной лестнице. – Храбрый мальчик не умолчал об этом, хотя и не погрешил против скромности.
– Сигизмунд имел полное право воздать себе должное в разговоре с родными. Если бы не его вмешательство, мой отец оказался бы бездетным, а дочь без его отваги лишилась бы отца. Он дважды вставал между нами и гибелью.
– Я слышала об этом, – отозвалась Маргерит, вновь пристально всматриваясь в выразительное лицо Адельгейды, которое вспыхивало всякий раз, как только речь заходила о смелости и самоотверженности того, кого она любила втайне. – Что до твоих слов о близости нашего бедного мальчика с семьей, то между нами и нашими желаниями стоят непреодолимые преграды. Если Сигизмунд сообщил тебе о своем происхождении, то он, скорее всего, рассказал также, что предстает перед окружающими его совсем не тем, кем является на деле.
– Полагаю, он ничего не утаил из того, о чем следовало бы меня оповестить, – сказала Адельгейда, опуская глаза под зорким, выжидающим взглядом Маргерит. – Он говорил свободно и…
– … И?
– Достойно, как подобает солдату, – уверенно закончила фразу Адельгейда.
– Он поступил хорошо! От этого у меня легче сделалось на душе. Нет! Бог обрек нас на эту участь, и меня опечалило бы, если бы мой сын изменил принципам там, где верность требовалась более всего. Вы как будто удивлены, госпожа?
– Подобные чувства, испытываемые в столь тяжелом положении, как ваше, меня и удивляют, и восхищают! Если можно найти какое-то оправдание шаткости отношения к обычным тяготам жизни, то оно конечно же заключается в том, что мы видим себя, помимо собственной воли, мишенью для мирского презрения и несправедливости; и однако, здесь, где есть все основания ожидать недовольства судьбой, я встречаю чувства, которые сделали бы честь порфироносцам!
– Ты привыкла рассматривать ближних через призму устоявшихся представлений, а не через призму действительности. Такой картина рисуется юному, невинному, неискушенному взору, но она далека от действительности. Не преуспеяние, а невзгоды помогают нам быстрее увериться в нашей непригодности для истинного счастья и заставить полагаться на силу, могуществом превосходящую все земное. Счастье толкает нас к падению, бедствия возвышают. Если ты по неопытности полагаешь, будто благородные и справедливые чувства – привилегия счастливцев, то тобой руководит заблуждение. Да, есть горести, непереносимые для плоти , но, не испытывая всепобеждающей нужды, мы укрепляемся в праведности именно тогда, когда нас менее соблазняют амбиции и тщеславие. Голодные нищие чаще воздерживаются от кражи корки хлеба, нежели пресыщенные богачи отказывают себе в роскоши, которая их губит. Живущие под розгой в страхе видят руку, которая ее держит; те, кто купается в мирских благах, начинает в конце концов думать, что по праву заслуживает преходящие почести, которыми наслаждается. Низринутому в пучину несчастья страшиться нечего, кроме гнева Господня! Именно тот, кто стоит над другими, должен дрожать больше других за свою безопасность.
– – Свет рассуждает иначе.
– В свете главенствуют те, в чьих интересах извращать истину в собственных целях, а не те, чей долг идет рука об руку с правдой. Но не будем больше говорить об этом, госпожа; рядом с нами та, у кого слишком тяжело на душе и кто не готов открыто обсуждать истину.
– Ты лучше себя чувствуешь и можешь выслушать своих друзей, дорогая Кристина? – спросила Адельгейда, взяв отвергнутую и покинутую девушку за руку с нежностью любящей сестры.
До сих пор страдалица вымолвила лишь несколько слов, мягко укоряя мать в безрассудстве. Слова эти слетели с пересохших губ и были произнесены сдавленным голосом; лицо девушки покрывала мертвенная бледность, и весь вид ее выражал жгучую внутреннюю муку. Участие, проявленное к ней ее ровесницей, о совершенствах которой она была много наслышана от восторженного Сигизмунда и в чьей искренности не позволяло усомниться подспудное чутье, сближающее юные чистые души, быстро и едва ли не до основания переродило ее. Подавляемая тоска нашла теперь выход в горьких безудержных рыданиях, которыми Кристина разразилась, бросившись на грудь новообретенной подруги. У много испытавшей Маргерит порыв Кристины вызвал хотя и удовлетворенную, но скупую, еле заметную улыбку: вынужденная всю жизнь отражать враждебные удары, она приучилась сдерживать свои чувства. Чуть помедлив, она вышла из комнаты, полагая, что общение двух неискушенных, неопытных в жизни особ окажется более благодатным, если они останутся одни, не стесненные ее присутствием.
Правообладателям!
Это произведение, предположительно, находится в статусе 'public domain'. Если это не так и размещение материала нарушает чьи-либо права, то сообщите нам об этом.








































