Текст книги "Похождения Хаджи–Бабы из Исфагана"
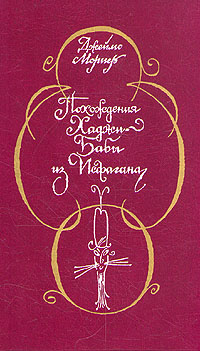
Автор книги: Джеймс Мориер
Жанр: Зарубежные приключения, Приключения
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 15 (всего у книги 32 страниц)
Часть вторая
Глава I
Сражение персов с русскими. Персидская храбрость. Восточная тактика
Отобрав от меня и Юсуфа нужные сведения о русских, начальники наши решили сделать нападение на Хамамлу. Армия двинулась: артиллерия тащилась через горы тяжело и медленно; пехота пробиралась, как могла, своим путём; конница рассеянными толпами следовала по ровным местам. Мы расположились лагерем между Гевмишлю и Абераном.
Юсуф перед выступлением в поход пришёл ко мне с благодарностью. Он более был похож на красную девицу, чем на полудикого горца. Щёгольская шапка из бухарских мерлушек заступила место грузинской его папахи. Малиновый бархатный кафтан, с золотым галуном и вызолоченными пуговицами, и дорогая кашмирская шаль на поясе ловко обрисовывали его стан и отменно шли к лицу. Он почти стыдился такого пышного наряду и, казалось, не верил своему счастию. Когда впервые представил я его сардару, то он так мало ожидал для себя подобной милости, что, считая себя погибшим, хотел, по крайней мере, высказать ему наотрез всё, что у него было на сердце. Теперь он вступил было в полное и действительное владение невинною своею женой, которая важно ехала на отличном коне, среди бесконечных обозов, обременяющих наши армии, и снискала себе уважение, должное супруге любимого слуги сардара; но праздная служба в буйной и развратной свите персидского вождя не слишком нравилась молодому христианину; он чувствовал на сердце тоску по свободе, по родимым горам и, изъявляя мне чувствительнейшую признательность, признался, что не преминет воспользоваться первым удобным случаем, чтобы свалить с себя тяжёлое, унизительное звание тунеядца. Я одобрял его образ мыслей, но не весьма был рад такой ко мне доверенности, которая могла навлечь на меня безвинную ответственность за его поведение.
Нападение на Хамамлу предполагалось произвесть обоими полководцами вместе, рано утром, так, чтобы невзначай овладеть воротами и вторгнуться в селение. Сардар и насакчи-баши выступили из лагеря в сумерки, с сильными отрядами своих войск и двумя лёгкими орудиями. Пехота медленным движением томила нетерпеливый нрав главнокомандующего. Презирая её пособие, как и все наши полководцы, он объявил желание устремиться вперёд с одною конницею и напасть на Хамамлу врасплох, на рассвете. Мой начальник не ощущал в себе такой пылкой храбрости; однако ж не переставал безмерно хвастать до самого конца, стараясь убедить всех и каждого, что, лишь только он появится, москоу побежит, не оглядываясь, до самой гробницы первого своего пращура. Наконец он уступил требованию сардара и остался в задней страже для прикрытия, в случае нужды, его отступления. Сардар поворотил с дороги, чтобы перейти вброд реку Пембаки; мы продолжали следовать прежним путём.
Начинало светать, когда мы упёрлись в берег реки. Насакчи-баши имел при себе около пятисот человек конницы. Пехота подоспевала по возможности. В то время, когда мы сбирались пуститься вброд, протяжный клик с противоположного берегу ударился в наши уши. Мы услышали два или три дивные слова, значение которых вдруг объяснилось ружейным выстрелом. Мы остановились. Главноуправляющей благочинием побледнел как полотно и стал оглядываться во все стороны.
– Это что за известие? – вскричал он голосом тише обыкновенного. – Что мы делаем? Куда идём? Хаджи-Баба, ты ли это выстрелил?
– Клянусь аллахом, не я! – отвечал я. – Вот мои пистолеты. Видно, тут есть гули, как в армянской деревне.
Вскоре затем раздались ещё пронзительнейшие клики, и послышался другой выстрел. День рассвёл, и мы приметили по ту сторону реки двух русских солдат, одного на самом кряже берегу, а другого в двухстах шагах подальше. При виде неприятеля мой начальник воспламенился необыкновенною храбростью и закричал на пеших ратников, чтобы стреляли гяура. Около двадцати человек лучших стрелков начали палить в солдата, стоявшего к нам поближе, прикладываясь к камням и кустарникам, и палили с четверть часа, не попадая в него никаким образом. Солдат во всё это время стоял неподвижно на месте, опершись на длинное ружьё. Мы были приведены в крайнее изумление, ломали себе головы догадками и, не постигая его отваги, решили общим мнение, с которым согласился и сам главноуправляющий благочинием, что это чародей, которых, как известно, множество находится между неверными: если бы он был тот же человек, как и мы, то что он за собака – не уходит оттуда, где стреляют? Его, очевидно, не берёт свинец: многие из наших уверяли, будто сами видели, как одни пули от него отскакивали, а другие он ловил рукою на воздухе и клал в карман.
Насакчи-баши вышел из терпения. Одушевясь новым мужеством, он стал бранить и проклинать неверных и, в пылу негодования, закричал на конницу:
– Вперёд! Бейте! Режьте! Ловите! Ступайте, дети, принесите мне головы этих двух негодяев!
Вдруг толпа конных ратников бросилась в воду, с обнажёнными саблями. Между тем два неприятельских солдата, соединясь вместе, отступили на пригорок, заняли удобную позицию и открыли по ним переменный ружейный огонь, но такой правильный и быстрый, что мы не могли надивиться их искусству. Они убили двух человек, атаковавших на самой почти средине брода: остальные не смели идти далее и бросились в беспорядке обратно на берег. После того никто уже не хотел следовать неудачному их примеру. Насакчи-баши бесился, проклинал, просил, понуждал, предлагал за головы награду; но все его усилия были тщетны. Наконец, исполнясь благородной решимости, он воскликнул торжественным голосом:
– Итак, я сам пойду. За мной, ребята! Прочь с дороги! Неужели никто из вас не пойдёт со мною? – Проехав несколько шагов вперёд, он остановился. – Хаджи! – сказал он, обратившись ко мне, – друг мой, душа моя! хочешь ли достать мне головы этих людей? Дам тебе всё что угодно, только поди и подмахни им эти тощие горла. – Тут он обнял меня рукою за шею и умильно примолвил: – Ступай, Хаджи! ступай; я уверен, что ты отсечёшь им головы.
Ещё мы с ним переговаривались, когда один из наших отчаянных врагов попал пулею в стремя моего начальника. Тот испугался: совершенно потеряв голову, он стал метать ужаснейшие хулы, проклятия и брани и тотчас же приказал всему отряду отступать назад. Мы ехали скорым шагом, а главноуправляющий благочинием извергал гнев свой на русских следующими словами:
– Проклятие на их бороды! Оскверню я гробы их отцов, матерей, дедов, прадедов и потомков! Где это слыхано, воевать таким образом? Стреляют, стреляют, как будто в свиней. Эти люди ничего не понимают, кроме того, что убивать! Жгу их отцов! Посмотрите, какие скоты! Делай с ними что угодно, они всё стоят на одном месте. Да они гораздо хуже скотов: и скоты чуют опасность, а у них нет и этого чувства. Аллах, аллах! Если бы с ними не было таких окаянных пуль, увидели бы они, как дерутся наши персы!
Отъехав довольно далеко, мы остановились. Насакчи-баши не знал, куда деваться: ему казалось, что в каждом кусту сидит москоу. Он хотел отступать подальше и боялся отстать от сардара, когда внезапное появление этого полководца решило все недоумения. Сардар, со всею своею конницею, бегом уходил перед натиском неприятеля. Неудача была явная, и нам оставалось одно средство – добраться поскорее до лагеря. Войско сардара представляло вид самый жалкий: усталые, расстроенные, запуганные воины его, все в одно слово, не оглядываясь, стремились назад; но их уныние ободрило моего начальника: радуясь, что не он один струсил перед неприятелем, насакчи-баши так расхрабрился, так беспамятно заврался о своей неустрашимости, о полученной им ране, о подвигах, какими имел в виду отличиться, что в пылу воинственного вдохновения выхватил копьё у одного ратника, помчался вперёд во всю прыть и, настигнув собственного своего повара, который в общей суматохе поспешно улепётывал с кастрюлями и сковородами, кольнул его сзади так жестоко, что пробил шалевый пояс и достал остриём до кости.
– Аман! аман! – закричал несчастный повар, валясь с лошади на землю.
– Ах! Это ты, Хасан? – закричал насакчи-баши, – извини, братец, я думал, что ты вождь неверных. Ну, что? Видите ли? – присовокупил он, обращаясь к нам: – Видели вы, как я владею копьём? Точно так опрокинул бы я отца всех неверных, если бы был на месте сардара.
– Машаллах! Машаллах! – отвечал я вместе с другими.
Таким образом кончилась экспедиция, от которой сардар ожидал обильной жатвы русских голов, а главноуправляющпй благочинием утверждения навсегда своей славы. Но, несмотря на совершенную неудачу, мой начальник находил ещё в ней поводы к блистательным выходкам самолюбия.
Сидя перед толпою стоявших полукружием подчинённых и прислужников, в числе которых был и я, он болтал, чванился и разбивал неверных, когда вошёл к нему нарочный от сардара, с требованием прислать немедленно Хаджи-Бабу. Я отправился, и лишь только предстал перед главнокомандующим, тот спросил:
– Где Юсуф? Где его жена?
Я смекнул, что они бежали, и, устремив в него один из невиннейших своих взглядов, смело отвечал ему, что отнюдь ничего об них не знаю.
Сардар ворочал глазами, кривлял губы, краснел и наконец вспыхнул ужасным гневом на меня и на армянина. Он поклялся мстить ему, его жене, семейству, деревне и целому племени; и, невзирая на мои запирательства, объявил, что употребит всю свою власть, чтоб сместь с лица земли ничтожное существо моё, если откроется, что я имел хотя малейшее сведение об умысле этого гяура. После этого он тотчас послал отряд своих ратников в Гевмишлю, с тем чтоб поймать и привесть к нему Юсуфа с женою, родителями, братьями и сёстрами; забрать всё их имущество, а чего нельзя взять с собою, то разорить и сжечь. Но я узнал впоследствии, что сметливый юноша предупредил его неистовство: он перешёл с целым, не только своим, но и жены своей, семейством в пределы русских владений, где они благосклонно были приняты местным правительством, призрены своими единоверцами и получили от казны землю и пособие на первое обзаведение. Поборники мести неумолимого сардара нашли одни лишь голые стены.
Глава II
Хаджи-Баба возвращается в Султание. Манифест о победе. Отчаянное положение Хаджи-Бабы
Угрозы сардара весьма меня встревожили. Зная, с какою жадностью удерживают за собою персидские сановники исключительную власть над своими подчинёнными, я не преминул донесть о том моему начальнику. Насакчи-баши вспылил, разгорячился, заревел. Подкинув одно лишнее слово, я мог произвесть между ними ужасный разрыв; но я не столько имел доверенности к искусству его защищать своих приверженцев, сколько опасался последствий неукротимого гневу его товарища, и потому предпочёл отпроситься в столицу. Чтоб доказать сардару, что никто, кроме его, главноуправляющего благочинием, не имеет права располагать участью его подчинённых, он охотно согласился на мою просьбу и дал мне разные наставления, что именно должен я сказать верховному везиру об их экспедиции против Хамамлы и в каком свете представить личные его подвиги.
– Ты сам там был, Хаджи, следственно, можешь так же хорошо, как и я, изобразить ему всё дело. Мы не одержали решительной победы, потому что не успели подобрать с земли русских голов, напоказ шаху; но и не были разбиты. Кто виноват, что сардар осёл? Вместо того чтоб подождать, пока подоспеет пехота с орудиями, он атакует город конницею и потом удивляется, что неверные захлопнули ворота перед его носом и начали палить по нём с валов! Будь я предводитель на его месте, всё было бы иначе. Он ушёл, как старая баба: я один сразился с неприятелем грудью, был опасно ранен, и если бы не река, то – машаллах! – ни один москоу с поля битвы не воротился бы в Дом неверия. Скажи всё это везиру и прибавь ещё кое-что из своей головы: вреда нет! Вот тебе письма к нему и другим значительным лицам и маленькое представление шаху.
Итак, я немедленно отправился в Султание, где ещё застал шаха с целым двором и остатками лагеря. Верховный везир, прочитав письмо моего начальника, позвал меня в своё присутствие.
– Добро пожаловать! – сказал он. – Неверные не выдержали натиску наших кызыл-башей, э? Конец концов, кто на свете может устоять против царских всадников, против персидской сабли? Ваш хан, я вижу, ранен: он поистине отличный служитель шаха. Слава аллаху, что тем кончилось. У вас происходило жаркое сражение по обеим сторонам реки, и ваш хан сам лично вступил в рукопашный бой – так ли?
Я отвечал на всё: «Точно, точно», – и везир был в восхищении. Все поглядывали на меня с любопытством, как на героя, прибывшего прямо с поля битвы. Везир кликнул одного из своих мирз, или секретарей, и сказал:
– Сочини поскорее манифест о победе: надобно будет заготовить потребное число копий и послать ко всем правителям и бейлербеям, особенно в Хорасан, чтобы напугать бунтующих там ханов. Опиши дело ярко, сильно, слогом, достойным нашего непобедимого Средоточия вселенной, с приличными метафорами и аллегориями. Теперь именно нам крайне нужна победа; но – понимаешь ли? – блистательная, кровавая победа.
– Сколько было неприятеля? – спросил мирза, обращаясь ко мне.
– Ужасное множество! Без счёту! – отвечал я отважно.
– Я знаю сколько, – сказал везир, – пиши: пятьдесят тысяч.
– Сколько убитыми? – спросил опять мирза, посматривая на меня и на него.
– Пиши: тысяч от десяти до пятнадцати, – промолвил он, – эти бумаги пойдут далеко: зачем жалеть гяуров? Шах убивает людей не иначе, как десятками тысяч. Разве он хуже Рустама или Афрасияба? По милости пророка, наши Цари царей такие кровопроливцы, людорезы, львоеды, каких нигде не бывало: впрочем, иначе и быть не может, чтоб содержать народ в повиновении и внушать страх посторонним. Ну, что, готово?
– Готово, для пользы службы вашего присутствия, – отвечал мирза. – Раб ваш написал, что неверные собаки, именуемые москоу (да низвергнет их аллах в глубочайшее отделение ада), появились на рубеже земли Ирана числом пятьдесят тысяч свиней, с пушками, похожими на змей; но как скоро непобедимые, вечнопобедоносные войска Царя царей, Убежища мира, Искоренителя терна неверия, ударили на их полчища, то от десяти до пятнадцати тысяч этих окаянных мгновенно извергнули нечистые души свои, и поборники веры последнего пророка захватили такое несметное множество пленных, что цены на невольников вдруг понизились по пятисот на сто на всех базарах Востока.
– Да будет восхвалён аллах! Прекрасно, удивительно! – воскликнул везир. – Вот каковы наши! Где так красноречиво напишут, как в Персии! Ты, мирза, сочиняешь не хуже соловья. Хоть это не всё правда, но, по неизъяснимому благополучию нашего шаха, это должно быть так, и ещё будет: теперь, или после, это всё равно. Хороша правда, когда она полезна; но и ложь не худа, если кстати.
– Конечно! – примолвил мирза, стоя на коленях и дописывая в руках своё сочинение. – Сам Саади говорит: «Ложь, сказанная с добрым намерением, спасительное истины, посевающей раздоры».
Везир велел подать себе туфли, встал с ковра, сел на коня, стоявшего перед его палаткою, и поехал к шаху с привезёнными мною бумагами. Я вступил в прежнюю свою должность помощника помощнику главноуправляющего благочинием и, подражая примеру моего начальника, пустился рассказывать целому лагерю, в какой опасности находилось наше войско от двух неверных солдат и как я сам отличался против них. Вскоре занятия мои по службе приобрели необыкновенную важность. Настала осень. Шах снялся с целым Двором с равнин Султание, и мы отправились в обратный путь в столицу. Я распоряжал устройством походу посредством моих подчинённых, соблюдая повсюду нужный порядок.
Накануне отъезду из Султание получил я приказание отправить нарочного в Тегеран, с тем чтоб придворные танцовщицы были готовы к приёму шаха в Сулеймание. Сердце во мне забилось: я чувствовал, что дело идёт о Зейнаб. Ни рассеянный род жизни в лагерях, ни труды военные не могли изгладить её из моей памяти. Этот приказ возбудил в моём уме прежние опасения насчёт следствий неосторожной любви нашей, усыплённые с некоторого времени. Я ожидал с трепетом дня, когда решатся её судьба и мои сомнения.
Когда мы вступили в Сулеймание, я ехал впереди, открывая шествие. Прибыв ко дворцу, все выстроились по местам; шах один Въехал во двор, и вслед за тем залп верблюжьей артиллерии возвестил нам, что он изволил спешиться. Выкурив кальян в приёмной зале, он отпустил вельмож и удалился в гарем. Тогда послышались голоса танцовщиц, которые встретили его у входу и провожали внутрь с пением, при шумном звуке таров, бубнов и небольших барабанов. Я напрягал слух, не услышу ли ангельского голосу возлюбленной; но только невнятный, постепенно удаляющийся шум отражался в моих ушах. Терзаемый страхом и надеждою, я стоял неподвижно у ворот гарема, не смея обнаруживать своё смущение. Вдруг вышло повеление послать немедленно за бывшим моим хозяином, мирзою Ахмаком. Грустное предчувствие помрачило мою душу; дрожь пробежала по всему телу; я вздохнул и сказал про себя печально: «Конец моей Зейнаб!»
Мирза Ахмак предстал перед шахом и вскоре был отпущен. Увидев меня, он подошёл ко мне, повёл в сторону и сказал:
– Ах, Хаджи! Шах в исступлении. Помнишь ли эту курдскую невольницу, которую подарил я ему в праздник Нового года? Она теперь сказалась больною и не явилась к шаху вместе с прочими танцовщицами. Шах любит её: он отдал ей сердце с первого взгляду и всё лето готовился осчастливить её своим благоволением. Он потребовал меня, чтоб спросить, какого она была поведения. Могу ли я смотреть за проказами чёртовой дочери? Он хочет переехать в арк в первый, какой последует, благополучный час и грозит, что если она тогда не будет совершенно здорова и в полной красоте лица, то велит выщипать мне бороду. Нет бога, кроме аллаха! Да будет проклят тот день, когда я купил её, и тот, когда пригласил шаха заглянуть в мой гарем!
Хаким-баши расстался со мною с лицом, опрокинутым вверх ногами. Я удалился в свою палатку горевать над судьбою несчастной девушки; но ещё утешал себя мыслию, что, может быть, она так чем-нибудь нездорова и что, в случае беды, мой искусный мирза Ахмак отвратит от неё внимание шаха, натолковав ему о холодных и горячих болезнях, о борении четырёх мокрот тела, о влиянии звёзд и непостижимости аллахова предопределения. Наконец, ободрясь духом, я произнёс известное двустишие поэта, который, подобно мне, лишён был своей любовницы:
Ужель на свете одна только пара ланьих глаз, один кипарисовый стан, одно лунообразное лицо, что я так мучусь потерею жестокой прелестницы.
В подкрепление этого мудрого совета, я старался ещё возбудить в своём сердце благочестивейшие чувства истинного чада веры пророка насчёт женского полу, то есть вооружить себя полным презрением к нему; но лишь только начинал думать о другом, бледный, кровавый призрак Зейнаб представлялся моему воображению и, казалось, обременял меня горькими упрёками. Я страдал ужасно.
Наступило благополучное соединение планет, и шах переехал в Тегеран. Во мне волновалась кровь. Я искал попасться где-нибудь навстречу мирзе Ахмаку и, действительно, в тот же самый вечер увидел его, выходящего из хельвета. Он был печален; шёл медленно, заткнув одну руку за пояс, а другою упершись в бок; глаза его спрятались совершенно в своих норах; спина согнулась ещё безобразнее. Я тотчас заключил, что он несёт злополучную весть; однако стал на его пути, пожелал ему мира и вежливо осведомился об исправности его мозга.[93]93
…осведомился об исправности его мозга. – См. коммеит. №
[Закрыть]
Как скоро он узнал меня, то остановился и воскликнул:
– Ах! Я вас именно искал! Пойдёмте в сторону, Хаджи! Тут происходит удивительная история: эта курдянка навалила на мою голову ужасного пеплу. Ей-ей! Шах совершенно с ума сошёл. Он поговаривает, что велит произвесть в замке всеобщее умерщвление мужчин, начиная со своих везиров до последнего евнуха, и клянётся своею головою, что меня первого сжарит в раскалённой печи, если не отыщу ему виновного.
– Какого виновного? Что? Как? Разве что-нибудь случилось? – спросил я с удивлением, довольно естественным.
– Как не случилось? – возразил он. – Зейнаб! Эта проклятая Зейнаб…
– А! Понимаю! – возразил я. – Вы, видно, немножко с нею пошалили?
– Я? Я? Упаси меня, господи! – воскликнул испуганный хаким-баши, отскочив шага два назад. – Что я за собака, чтобы мог и подумать о такой мерзости? Ради имама Хусейна, Хаджи, не говорите этого: не дай аллах, услышит государь, он тотчас исполнит надо мною свои угрозы. Откуда вы это взяли, чтобы я любил Зейнаб?
– Люди много чего говорили, – примолвил я хладнокровно, – и мы все дивились, что вы, Лукман своего века, Восточный Джалинус, владетель совершенства, изобретатель пластырей и ревеня, вздумали возиться с таким товаром, какова курдянка, известное исчадие шайтана, – существо, самое неблагополучное в мире. Да этакой одной достаточно, чтобы нанесть несчастье не то что на частное семейство, а на целое государство!
– Ваша правда, Хаджи! – сказал мирза и вслед за тем воскликнул, покачивая головою и хлопнув левою рукой по животу: – Какой же я был дурак, что допустил себя влюбиться в чёрные её глаза! Но, правду сказать, это не глаза, а чары! Право, не она смотрела ими, а сам шайтан; и если он не сидит в ней и теперь, то будь я подлец на всю жизнь! Конец концов, что тут делать?
– А мне почему знать? – возразил я. – Что ж хочет шах с нею делать?
– Да провалится она в ад! – вскричал врач. – Пусть себе идет к чёрту, своему родному дяде; я думаю о том, как бы упасти свои кости. Ведь меня хотят сжарить!
При этих словах он посмотрел на меня умильно и сказал:
– Ай, Хаджи! вы удивительный колодезь добродетелей, верх великодушия: на вас любо взглянуть – вы, по крайней мере, человек! На что и говорить, как я вас люблю! Сами знаете, что я взял вас в свой дом, познакомил с врачебным искусством, доставил вам выгодное место. Через меня вы будете со временем первым чиновником в Персии. Если вы способны чувствовать благодарность, то теперь имеете случай мне её доказать. – Тут он замолчал, потом, играя кончиком моей бороды, примолвил: – Постигаете ли, что я хочу сказать?
– Нет, ещё это не проникнуло до моего понятия, – отвечал я.
– Хорошо! а вот что: признайтесь, что вы виноваты. Надо мною посмеются, а вам ничего не будет. Вы человек молодой: что нужды, что о вас скажут в городе? То ли делают молодые люди!
– Над вами посмеются, а меня сжарят вместо вас! – вскричал я. – Это что за речи? В своём ли вы уме, хаким-баши? На что мне жертвовать своею душой? И зачем же вы хотите, чтобы кровь моя упала на вашу голову?[94]94
…кровь моя упала на вашу голову – идиоматическое выражение, см. коммент. №
[Закрыть] Если у меня спросят, то, иншаллах! Я скажу для пользы вашей службы, что, по моим соображениям, вы не можете быть виновником нездоровья Зейнаб, потому что ваша ханум ужасно сердита и содержит вас в такой подчинённости, что вы не смеете ни слова пикнуть в своём тереме. Но чужой вины не возьму на себя ни под каким видом.
В это время подошёл к нам один их придворных евнухов с приказом от главного евнуха, чтобы помощник помощнику главноуправляющего благочинием явился в полночь с пятью человеками насакчи и гробом, для отнесения трупа на кладбище.
Я отвечал дрожащими устами: «На мой глаз!» – и чуть не упал в обморок. К счастью, было уже темно, и мирза Ахмак тут же оставил меня, услышав грозный приговор: иначе моё смущение открыло бы всю тайну. Я облился холодным потом. В глазах у меня потемнело, колени задрожали, сердце жестоко призабилось. Демавендские горы, со всею своею серою, казалось, обрушились на мою голову.
«Как! Неужели я буду палачом моей возлюбленной, убийцею собственного чада? – подумал я в душе. – Не довольно ли того, что я виновник её страдания, несчастия, смерти? Я должен ещё отомстить ей за моё же преступление, пролить кровь, смешанную с моею кровью, терзать руками холодные члены, которые нежно прижимал к своей груди, покрывал пламенными поцелуями! Я уйду – скроюсь – пронжу сердце этим кинжалом. Но, нет! Мне нельзя избегнуть того, что суждено свыше. О! Судьба! О! Строгое, неумолимое предопределение! Ах, свет, свет! тобою тот только может прельщаться, кто тебя не знает: ты состоишь из горечи, яду и измены».
С отчаянием в душе, уязвлённой угрызениями совести, я собрал предписанное число моих сослуживцев. Привыкшие к подобным услугам, они повиновались равнодушно, не заботясь даже о том, сами ли будут орудиями убийства невинной жертвы обманутого сладострастия властелина или только хоронителями бренных её останков. Ночь была мрачная, ужасная, достойная бесчеловечного события. Солнце, что весьма редко случается в этих климатах, закатилось среди кровавых облаков. С наступлением ночи они растянулись по всему небу. Гром гремел беспрестанно на ближайших отрогах гор Эльбурза, и луна по временам только появлялась в промежутках туч, бросая сквозь густой туман, поднимавшийся к ним с земли, бледный, дрожащий свет на погружённую в глубокой темноте юдоль. Я сидел один в караульной комнате, не смея даже приводить на мысль плачевной обязанности, призвавшей меня в это место. Клик стражи на валах арка, потом пение муэдзинов разбудили меня от бесчувственной думы. Ударил час смертоубийства. Я выскочил из комнаты и пошёл на условленное место, где уже застал своих товарищей, беззаботно сидящих на гробе и вокруг него. Я хотел говорить, но голос пресекался на моих губах. И я произнёс только односложный вопрос:
– Свершилось ли?
– Ещё не свершилось, – отвечали они, и опять последовало гробовое молчание. И тут ещё немилосердная судьба обманула меня! Я полагал, что, по крайней мере, не буду свидетелем роковой минуты.
На краю женского отделения шахских палат возвышается осьмиугольная башня, вышиною около тридцати газов, видимая из всех частей городу. Вверху её находится комната, где шах, нередко сидя, наслаждается чистым воздухом и разнообразием пространного виду. Над комнатою есть плоская крыша, лобное место гарема. Мои товарищи с нетерпением на неё поглядывали; я сидел на пятках, уныло потупив взоры. Вдруг явились на ней три человеческие фигуры: одна из них принадлежала, казалось, женскому полу. Луна слабо освещала верхушку башни, но я мог различить зрением, что два человека сильно тащили третьего, который умолял их на коленях и простирал к ним руки. Ветер, бушевавший вверху башни, разносил по воздуху невнятный их говор и крик злополучной жертвы, который вдруг ударился в мои уши чем-то похожим на смех сумасшедшего. Я затрепетал; даже мои руфияны были поражены ужасом.
Наступил промежуток молчания; потом раздался сильный, пронзительный, смешанный с хрипением крик, и что-то тяжёлое грянуло с башни на землю. Я побежал к месту падения и нашёл Зейнаб, мою дорогую Зейнаб, изувеченную ударами кинжалов, плавающую в крови, дышащую последним признаком жизни. Уста её ещё шевелились; мне показалось, будто она произнесла слова: «Дитя моё! Дитя моё!» Я бросился отчаянно на её тело, обливаясь горькими слезами, и уж не помню, что потом делал. Ум и память оставили меня совершенно. Я простёр забвение до того, что вынул из-за пазухи платок и в присутствии таких опасных свидетелей обмакнул его в кровь погибшей за меня любовницы, свернул и опять спрятал, сказав вполголоса:
– По крайней мере, это никогда не расстанется со мною!
Тонкий, адский писк одного из убийц вывел наконец меня из этого положения.
– Ну что, мертва ли? – завизжал он с башни.
– Словно камень, – отвечали мои банкруты.
– Убирайте её прочь! – присовокупил тот же голос.
– Провались ты в ад, бесплодный! – сказал ему один из моих товарищей.
Они положили тело Зейнаб в гроб, подняли на плечи и понесли за город на кладбище. Я печально пошёл за ними. Прибыв на место вечного её успокоения, мы нашли уже готовую могилу. Я сел на смежной гробнице и грустно смотрел, как они опускали гроб в яму, засыпали его землёю и клали на скромной могиле Зейнаб единственный памятник смутного её существования – два больших камня, один над головою, а другой в ногах.
– Всё кончено! – сказали они, подойдя ко мне.
– Ступайте домой, я скоро приду, – отвечал я,
Они ушли, я остался на том же месте, погружённый в глубокую думу. Небо не прояснялось; гром ещё раздавался в горах; пронзительный вой шакалов, так дивно похожий на плач детей, умножая ужас места, посвящённого смерти, растравлял раны моего сердца раздражительными воспоминаниями. Я почувствовал в себе омерзение к гнусному ремеслу насакчи и решился не возвращаться в город. Приведя на мысль поступок мой при башне, увидел я перед собою пропасть, в которую неминуемо должны были низвергнуть меня необдуманное моё отчаяние, коварство свидетелей его и козни самого мирзы Ахмака. Голос чувства и голос благоразумия повелевали мне навсегда удалиться из Тегерана.
«Пойду искать утешения на лоне моего семейства, – сказал я, вскакивая с гробницы. – Ворочусь к бедным моим родителям. Может статься, застану ещё отца в живых и успею получить последнее его благословение. Прибытие моё прольёт в сердце его отраду. Постараюсь облегчить преклонные лета его своим трудолюбием. Довольно жил я в пороке: пришло время прибегнуть к покаянию, подумать о спасении души, оставив пути суеты и бесчестия».
Это ужасное происшествие произвело на меня такое впечатление, что если бы я всю жизнь питал в себе те же самые чувства, то теперь был бы уже святейшим в мире дервишем. Я вынул из-за пазухи платок, обагрённый драгоценною кровью, и долго смотрел на него со слезами на глазах, потом разостлал его перед собою на её могиле, упал на колена и совершил то, о чём давно уже не думал, – сотворил молитву. Вера, чудесным действием своим, одушевила меня новыми силами. Сердце у меня отлегло. Я встал и скорыми шагами ушёл с кладбища, направляясь к Исфагану.









































