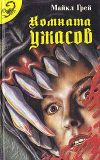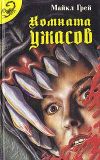Текст книги "Неприкаянные письма (сборник)"

Автор книги: Джоанн Харрис
Жанр: Зарубежная фантастика, Фантастика
Возрастные ограничения: +16
сообщить о неприемлемом содержимом
Текущая страница: 3 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
Джоанн Харрис
Джоанн Харрис – в списке самых популярных писателей, у нее пятнадцать романов, три поваренные книги, два сборника рассказов, два коротких мюзикла и повесть «Доктор Кто».
Ей присужден ряд литературных премий, в том числе такие крупные, как «Орандж» и «Уайтбред», а в 2014 году Королева вручила ей Орден Британской империи.
Невзирая на этот тонкий налет изысканности, она истово ведет свой блог в Твиттере на @joannechocolat, постоянно играет в джаз-оркестре (который был создан, когда его участники еще ходили в школу) и мечтает оказаться высаженной на Затерянном острове.
Джоанн Харрис
В память
Представьте себе склад в Белфасте. Больше пяти сотен миль полок от пола до потолка. Завешенные красным воздухоочистители, пластиковые короба, сортировочные столы, а еще ящики и контейнеры, заполненные чем-то скоропортящимся или одноразовым. Это и есть Национальный центр возврата почты Соединенного Королевства; иными словами – канцелярия неприкаянных писем. Это здесь Ее Величество сбывает с рук Королевскую почту. Письма, что пропутешествовали по всему миру и не нашли места назначения. Бандероли, вернувшиеся только для того, чтобы выяснилось: их отправители уже переехали или умерли. Письма, отправленные в несуществующие места, несуществующим людям или почившим в бозе. В таких случаях Ее Величество милостиво позволяет нам вскрыть эту почту: поискать сокрытых лиц, отделить золото от пустого мусора.
Я – ОКО. Ответственный за качество обслуживания. Я здесь уже тридцать лет и, позвольте вам сказать, нагляделся всякого. Двести миллионов единиц почтовых отправлений в год – чуть больше, чуть меньше – проходят через мои руки. Письма с мольбами, смертными угрозами, фотографиями потерянных любимых, сувенирами, невскрытыми рождественскими открытками, недоставленными рукописями. Тут где-то в районе тринадцатой стойки лежит забытый Пикассо плюс вполне достаточно драгоценностей, чтобы проводить в последний путь умершую инфанту. А они все прибывают и прибывают, каждый день: недоставленные письма, письма без обратного адреса; бандероли и посылка с оторванными наклейками, противозаконными надписями; почта, от которой отказались адресаты, или посланная на поросшие травой заброшенные участки земли, или в старые, покинутые людьми здания. Есть письма, адресованные Богу, хотя и ни разу Им не востребованные. Множество писем, адресованных Санта-Клаусу, или Супермену, или Человеку-Росомахе. Я порой думаю, это сколько же ребятишек сидят-дожидаются, когда их герои откликнутся на призыв, пока однажды не поймут, что никто не спешит к ним на помощь. Или какое множество любящих, в отчаянии зажав в руке пузырек с ядом или кинжал, напрасно прождали ответа своих любимых. Так много мечтаний закончили свой путь здесь. Такое множество трагедий. Записки в бутылках, посланные по морям только затем, чтобы волною их выплеснуло сюда, к подножию бумажного утеса.
Хуже всего порезы о бумагу. У меня их десятки в день. Я пробовал даже некоторое время носить перчатки, но это не выглядело правильным почему-то. Эти письма уже так много претерпели. Они заслуживают, чтобы их касалась человеческая рука. Они заслуживают, чтобы их прочли, и поняли, и признали, прежде чем мы их сожжем.
Соболезнования в черной рамке, слезливые признания в любви, послушные письма из школ-интернатов, последние слова с поля сражения. У меня такое чувство, словно своим прочтением писем я каким-то образом придаю им покоя, этим чужакам, чьи слова одолели такую даль, но так и не достигли цели. То, что делаю я, намного больше просто каталогизации почты. Я – тот, кто размещает ее, тот, кто осуществляет последние обряды. Я бальзамирую воспоминания, я хранитель последнего слова.
Первыми я вскрываю, читаю и раскладываю письма, содержащие ценности. Чеки и наличные мы, если можем, возвращаем. Иногда, вскрыв конверт, можно найти адрес. Вещи средней ценности – одежду, брелоки, игрушки, книги – держим в течение шести месяцев, потом утилизируем. Часы, драгоценности, произведения искусства стараемся подержать подольше. От скоропортящегося избавляемся сразу же. Торты ко дню рождения, живая наживка, садовые растения, продовольственные товары, а однажды и коробочка с мягкими, бледными мотыльками; они, сонные, в обертке из банановых листьев и рисовой бумаги, старыми пыльными пленками проскальзывали у меня меж пальцев, возвращались к жизни на свежем, прохладном воздухе и взлетали к лампам верхнего света, где оставались, пока не умирали, падая один за другим на пол, образуя на нем коричневатые соцветия.
Кто, скажите на милость, посылает мотыльков по почте? Что они должны означать? Иногда я все еще нахожу на земле их крылышки, похожие на небольшие клочки бумаги. Опавшие крылышки замысловато украшают узоры иероглифов цвета чая. Стоит сложить их один к одному и посмотреть с большой высоты; наверное, из них можно было бы сложить какое-нибудь сообщение.
Я стараюсь не слишком утруждать себя мыслями о сообщениях, какие мог бы передать, если б только знал, куда их отправить. Когда мысли такие не оставляют – ночей не сплю. Обязанность непомерная. Я никогда-никогда не шлю писем самому себе. Возможно, это как-то связано с работой. Здесь я читаю столько любовных писем, столько посланий, порожденных ненавистью. Не хочу предавать свои мысли бумажной странице: это риск, что кто-то чужой прочтет их. Может, и по этой причине тоже я никогда не был женат. Может, знаю тот мир слишком хорошо, чтобы осмеливаться быть его частью.
Но вот на прошлой неделе что-то стряслось. Я разбирался с порцией недоставленной почты. Письма до того долго скакали туда-сюда потертыми теннисными мячиками, что пропадал весь кураж. Я уже собирался перерыв устроить, когда почему-то одно письмо в куче привлекло мое внимание. Адрес был написан от руки выцветшими синими чернилами.
Кэри Лоеве,
Манор Оукс-Роуд, 89,
Шеффилд, Южный Йоркшир, С2
Имя и адрес были перечеркнуты. На обороте теми же выцветшими чернилами было написано имя отправителя:
Лизель Блау,
Севингтон-Драйв, 29, Дидсбери,
Манчестер, М20
А позже кто-то приписал: «ПО ДАННОМУ АДРЕСУ НЕ ПРОЖИВАЕТ». И стоял почтовый штемпель Скарборо. На штампе дата: 1 июня 1971 г. Иногда такое случается. Не так это странно. Письмо теряется при пересылке. Возможно, завалилось в щель между досками пола или забилось в лоток сортировочной машины. Вины здесь ничьей нет. Такое даже не очень-то и необычно. Однако в тот раз что-то было не так. Письмо было адресовано мне.
Конечно же, совпадение. Да, когда-то мы жили в Англии. Сменили много разных адресов. В конце концов, среди такого обилия фамилий я обречен был однажды увидеть и свою. Тем не менее меня будто холодом обдало. Вроде как увидел свое имя на могильной плите.
Я вскрыл конверт осторожно, стараясь не повредить его, и заглянул внутрь.
Он был пуст. Нет, не совсем: там лежал маленький прямоугольник красного пластика с металлическими полосками на конце. Карта памяти. И фотография двух детишек на пляже. Маленькая девочка лет пяти-шести с косичками и в желтом платье. И мальчик примерно того же возраста, в плавках, несет пластиковое ведерко. Челка у мальчика длинновата, и он щурится – не от солнца, а потому, что ему нужны очки. Я узнал это сразу, как знал, что воздух там пахнет солью и свежей рыбой, а небо там отливающей серебром голубизны, все усыпанное чешуйками облачков. Все это я знал, потому что мальчиком был я. Я был мальчиком на фотографии.
Поначалу я опешил. В голове загудело, как в улье с пчелами. Откуда взялось это воспоминание? И как могла карточка со мной, еще ребенком, попасть в конверт, датированный 1971 годом, вместе с техническим приспособлением, которое не появится на свет еще десятка три лет? Я огляделся. Повсюду камеры наблюдения, чтобы обеспечить сохранность любой ценности, которая может быть обнаружена в неприкаянной почте. Только мне-то известно, где эти камеры. Известно мне и как их провести. Сунул вскрытый конверт, карту памяти и фотографию в карман комбинезона. Затем отправился на обеденный перерыв, хотя больше голода не чувствовал.
Закончил смену. Пошел домой. Еще раз глянул на фотографию. Потом сел за компьютер, держа карту памяти в руке, гадая про себя, не схожу ли я с ума. Я украл почту из сортировочной. Меня уволить могли бы за такое. Моя работа обязывает к доверию, а я всем этим рискнул – чего ради? Фотография детей лежала на клавиатуре. Ничем не примечательная обычная картинка: пляж, каких повсюду полно. Дети играют у кромки воды, не глядя в объектив. Тень на переднем плане, возможно, фотографа.
Я убеждал себя, что это не я. Этот маленький мальчик мог быть кем угодно. Пяти-шестилетний мальчишка с темными волосами, щурящийся на солнце. Но имя-то на конверте мое. Мое лицо на фотографии. И пусть я слышал шум океана, чуял запах подгорающего жира, пусть меня припекало солнце и я видел отливающую серебром голубизну неба, почему я совсем не помню маленькую девочку на пляже, а то и вовсе того, что был на этом пляже? Карта памяти была дешевенькой, без маркировки и фирменного знака. В ней мог и вирус оказаться или программа какая-нибудь вредоносная, которая загрузит в мой ноутбук незаконное порно. Выбросить бы ее надо было, подумал я. А то покоя-разума лишишься. И все же побороть себя не сумел. Мне непременно надо было посмотреть, что на той карте.
Что бы там ни было, а загрузка заняла какое-то время. Я ожидал, глядя на фотографию. Она была по качеству не очень хорошая, с этой тенью на переднем плане. Вы-то думали, что уж фотограф-то такое заметит. А они вместо этого взяли и обрамили картинку, так что половина ее в тени оказалась, а дети выглядели так, словно уже запоздало попали в верхнюю половину карточки.
Где был этот пляж? Кто была эта девочка? Неужели маленький мальчик – это и в самом деле я? У меня так мало моих детских фото. Но та, что стояла на каминной полке в старом доме моей матери, изображала маленького мальчика с челкой и в очках. Конечно же, та фотография сгинула при пожаре. Но я ее помню до того хорошо, что мог бы поклясться: лицо то же самое.
Бедная мама. Нелегко это было – поднимать детей одной. Особенно в Белфасте, в разгар всех тех волнений. Не то чтобы пожар был намеренным, конечно же – всего лишь глупый случай, что может произойти с кем угодно. Только он оставил меня один на один с враждебной страной: английский мальчик с немецкой фамилией и без гроша за душой на жизнь. Пошел работать почтальоном, а тридцать лет спустя – вот он я, в канцелярии неприкаянных писем, делаю то, что делаю. Как бы оно ни называлось.
Ноутбук издал мелодичный звоночек, сообщая, что загрузка завершена. Я глянул, что она мне дала. Фотки, с полдюжины фоток. Никакой порнографии, и то благодать. Всего лишь кучка любительских снимков. Черно-белое фото моей мамы. На ней пальто с меховым воротником, волосы распущены. Она выглядит молодой, может, лет двадцать пять, красивой и невероятно стройной. Следующее фото: дверь под облезлым названием «вид на закат – частный отель». Он мог бы быть едва ли не где угодно. И все же я знал: не где угодно. На двери номер. 87. Я знал это. Так же, как знал, что дверь была зеленой, хотя на фото и казалась черной, а порожки выложены желтой плиткой, что пахло вроде как капустой и, что еще хуже, частенько было сыро и холодно.
Откуда я узнал это? Как мог я узнать? Мотылек влетел в круг настольной лампы. Я проверил окно: оно было закрыто. А вот опять она, моя мама, в желтом непромокаемом плаще и цветастом платье. После того как мы переехали в Белфаст, она поправилась; на этом фото, подловившем ее в нежданный момент, она почти располневшая, ест сэндвич прямо в толпе. Может, это свадьба? Гулянье? Яркая мамина одежда наталкивает на такую мысль. А лицо ее все в морщинах, мрачное. Для женщины, так много евшей, она, похоже, никогда не испытывала от этого удовольствия. А потом я припомнил Оранжевый марш: ленты и марширующие отряды, полицейские кордоны, мужчина на белой лошади. У меня затряслись руки. Холодно стало. Пахло сигаретным дымом и рыбой. Я ненавидел сэндвичи с тунцом. А только их мама и взяла с собой.
«Когда же мы домой пойдем?» – спросил я.
Она строго покачала головой: «Когда я скажу».
А когда она принялась перебивать и кричать на Оранжистов в их котелках, я почувствовал, как все у меня внутри опало и ссохлось от ее голоса, ломкого от выпивки, хрипло орущего надо мной. И когда стоявшие вокруг нее стали смеяться, потом злиться и кричать: «А ну заткнись, шлюха пьяная», – а то и похуже, мне захотелось умереть… Нет, не совсем так. Мне захотелось, чтобы она умерла.
Еще один мотылек присоединился к первому на абажуре лампы. Абажур был голубым, кто-то, помнится, говорил мне, что этот цвет особенно привлекает насекомых. Еще один мотыль, потемнее, залетел под абажур. Он произвел поразительный глухой бухающий звук: мягкий и в то же время до странности зловещий. Я всегда не любил мотыльков. Даже бабочки, если к ним присмотреться, безобразны, невзирая на их великолепные крылышки. Платье моей мамы на снимке было белым с большими пятнами оранжевого и пурпурно-розового. Безобразно. Как бабочка.
«Какая разница между бабочкой и мотыльком?» – спросил я.
Она объяснила: «Мотыльки являются ночью. Они являются ночью и жрут твою одежду».
Потом я всегда боялся, что мотыльки явятся и сожрут мою одежду. Зачем им это понадобится, я не понимал. Но они всегда пугали меня своими толстыми мохнатыми тельцами, своими пропыленными трепыхающимися крылышками. Потому-то я и не открываю окна на ночь. И все же им как-то удается проникать, принося с собой такие воспоминания.
Я опять вернулся к ноутбуку и увидел, что появилась еще одна фотография. Еще одна черно-белая фотография, на которой изображен я и маленькая девочка, стоявшие на краю пирса в Скарборо и смотревшие на море. На этот раз я был в очках. Лицо маленькой девочки было повернуто в сторону.
Кто она? Я столько всего знал, а вот имени ее – нет. Знал, что были мы в Скарборо, знал, что было нам по шесть лет. Знал, что мать моя в отеле занимается взрослым делом. Взрослое дело часто требовало от моей матери встреч со странными мужчинами. Порой требовало еще и выпивок: в маленькой комнатке, где мы спали, зачастую пахло водкой. Там еще стоял проигрыватель, лежала небольшая стопка пластинок. Одна из них ввергала маму в слезы. Она называлась «Мадам Баттерфляй», опять бабочка…
Ну вот. Еще один мотылек. Махнув рукой, я смел его, пробиравшегося сквозь пыльный воздух в сторону от абажура, на котором уже, сгрудившись, ползали с дюжину других. Коричневые мотыли, белые мотыли, мотыли, похожие на обрывки газет. Откуда, черт возьми, они взялись? Что пытались мне сообщить?
«Мотыльки являются ночью, – ответил замогильный голос моей матери. – Мотыльки являются ночью, – все говорила она. – Мотыльки являются…»
В Скарборо мы жили в ее номере отеля. Иногда в дверь стучали. Моя мать всякий раз не обращала на стук внимания. Днем, если погода была хорошей, я уходил играть на пляж. У меня было желтое ведерко и лопатка. Иногда я брал с собой бутерброды. Мать убеждала меня ни в коем случае не уходить за пирс, но я любил выходить на пешеходную дорожку, играя в приключение. Стоило снять очки, и я видел Америку, вздымавшуюся из моря, как замок в облаках.
Еще один мотыль. Мне слышно их, трепыхающихся внутри абажура лампы. Я вытащил вилку из розетки в стене, но экран ноутбука светился до того призывно, что они понемногу двинулись на свет: поползли по ковру, взобрались на край стола, один устроился на экране, распластав мягкие ворсистые крылышки, как отрез бархата.
Я пошел на кухню проверить окна. Оставил там включенным верхний свет, чтоб мотыльки на него отвлекались. Воздух уже кишел мотыльками: равномерно кто-то из них проходился, как кисточкой, по моему лицу, расписывая его в их цвета.
«Мотыльки являются ночью, – говорила она. – Мотыльки являются…»
Мне припомнилась пуховка для пудры, то, как мать садилась на окно, делая себе макияж, глядясь в крохотное карманное зеркальце. Мне ее макияж не нравился. Я воспринимал его каким-то маслянистым и обсыпанным, вроде сахарной пудры на пончике. А еще духи были, какими она пыталась отбить запах водки и дыма, их аромат был сладостным, опасным, как горящая веревка и Ночь костров[6]6
Ночь Гая Фокса, известная также как Ночь костров, – традиционное британское празднование провала Порохового заговора, когда группа католиков-заговорщиков в ночь на 5 ноября 1605 года попыталась взорвать парламент Великобритании во время тронной речи протестантского короля Якова I. Гай Фокс пытался поджечь в подвале Вестминстерского дворца бочки с порохом. Заговор не удался, Гай был арестован и отвезен в Тауэр, позже казнен.
В Великобритании в эту ночь жгут фейерверки и костры, на которых сжигают чучело Гая Фокса. А накануне дети выпрашивают монетки «для отличного парня Гая», чтобы накупить петард.
[Закрыть].
Вот так. Мотыльки улетят прочь, а позже я их спрысну чем-нибудь ядовитым. Закрываю дверь кухни и жду, пока они не опадут соцветиями. Вернулся к ноутбуку, смел с экрана дюжину мотылей и увидел самого себя и маленькую девочку: стоим на тротуаре, держась за руки. Еще одно черно-белое фото, лица наши повернуты в стороны, и все же я знаю, что на ней бледно-розовое платье в серую полоску, что в моих сандалиях полно песка и что мы уже решили убежать. Может, в Америку, а может быть, просто останемся на пирсе, питаясь мороженым, леденцами на палочке и рыбой с жареной картошкой, завернутой в газету. Почему нам хотелось убежать? Теперь уж и не совсем помню. Моя мать была в отеле с одним из своих деловых партнеров: мужчиной в костюме и с красивым лицом, он звал ее не тем именем, какое она носила.
Лизель Блау. Оно вот оно, прямо на конверте. Как мог я позабыть это? Оно прямо у меня под носом. И звучало оно знакомо – даже тогда, хотя я и не знал почему. Конечно же, это еще и немецкое имя, пусть мы больше и не говорили по-немецки. К тому времени даже Ома Лоеве сошлась до яркого пятнышка в памяти, вроде точки на экране арендованного телевизора, когда выключишь изображение.
Ома. Давным-давно я уже и помнить ее перестал. Я совсем забыл немецкий, конечно же (утратил его много лет назад вместе с большинством своих воспоминаний), но теперь я почти слышу ее голос и песни, какие она мне пела. Еще один мотыль уселся на экран. Тени от него загородили маленькую девочку. Фотография была снята с передержкой, мы с нею были высвечены и обрисованы с балансирующей на контрасте четкостью. Я смахнул мотыля: от него по всему экрану остался словно пудры мазок. А потом я оказался там: с Лизель Блау, с Омой, с тем днем у моря, с криками чаек, запахом брызг, ощущением камешков под подошвами и отливающей серебром голубизной неба.
И Иззи. Там была Иззи. Так ее звали. Моя маленькая подружка с волосами, собранными в хвостик, и в полосатом платье. Иззи Лоеве, которую Ома привезла из Германии повидаться со мной, проделала, разыскивая нас, путь через море, из города в город. Мы играли вместе больше трех недель, пока мама занималась со своими бизнесменами, и Ома наблюдала за нами с деревянного помоста, держа на коленях вязанье, а в пластиковом пакете бутерброды – немецкие сосиски с черным хлебом, Schwarzbrot.
Мотыльки опять полетели. Я слышал их крылышки. Кухонная дверь, должно быть, опять открылась. В свечении голубой полоски в воздухе нарастал мотыльковый поток. Трубка была старенькая, часто мигала, и их тельца трепыхались, летя на свет с бездумной, жуткой настырностью, жужжа и обжигая на свету крылья, и кучками тряпья падали на пол. Я снова обернулся к экрану ноутбука, а там было небо, та самая отливавшая серебром голубизна, что висела над нами все лето, как драная занавеска, и Ома, по-прежнему сидевшая на ступеньках частного отеля, дожидаясь, пока мама заметит.
Она звала меня Карлином. Таким было мое имя. Кэри – это американское. Моей матери нравились американские имена. Ей казалось, что они современны, изысканны. Она сменила Лизель на Лайзу, когда мы переехали. Теперь мы были Гэйл и Кэри Лоеве. Фамилию она произносила как «Лоув», хотя на самом деле это было что-то вроде «Лёва». Только мама не желала этого помнить. Чем меньше оставалось в нас немецкого, тем лучше. Если, случалось, у меня вырывалось что-то (слово, имя, история какая), она, бывало, очень сердилась. Иногда даже кричала. И так я скоро научился быть англичанином, как позже выучился быть ирландцем. В общем-то какая разница? Имена на конвертах, пересланных из десятков разных адресов. Снимки на карте памяти – почтовые открытки из далекого прошлого.
Иззи вообще не говорила по-английски. Это было нормально: я понимал. Хотя мама и перестала говорить по-немецки, я все еще знал немало слов. А мы с Иззи умели понимать друг друга, даже не выговаривая ничего вслух. Знаю, звучит безумно. Только когда вы юны, все возможно. У Иззи были голубые глаза, как и у меня, хотя она могла разглядеть весь белый свет до конца. И волосы у нее были темными, как у меня, и, когда улыбалась, она была прелестна.
Лучшие идеи всегда принадлежали ей. Она всегда верховодила в наших играх. Иззи была сообразительна, она никогда не плакала, когда большие дети прыгали на наши песчаные замки. Вместо этого она укладывала камни в башни, втыкала палки по сторонам рва, и, когда большие дети приходили снова, они сбивали, ранили себе ноги, хромая, ковыляли прочь и никогда больше не возвращались. Так вот, в то лето, пока мама была в отеле, мы с Иззи вместе играли на пляже. Играли мы в любителей приключений, разглядывая мир с самого конца пирса. Мы отыскивали морские звезды, кусочки черного янтаря и прятали пиратские сокровища.
А потом наступил день, когда объявился бизнесмен с красивым лицом, заговорил с мамой по-немецки и обращался к ней по имени, которое уже исчезло. Мы слышали не много, однако крик выдал нам, что дело, должно быть, пошло не так. Ома дала нам по пирожному из своей коробочки для бутербродов и сказала, что все обойдется: это взрослые дела. Но потом мужчина с красивым лицом бегом примчался на пляж, гортанно выкрикивая по-немецки:
– Wo is Karlin? Wo ist mein Sohn?[7]7
Где Карлин? Где мой сын? (нем.)
[Закрыть]
Тогда-то мы и поняли, что все это была ловушка. Понимаете, Ома вызвала моего отца. Мужчину, от которого моя мать давно, еще в Германии, сбежала, забрав с собой маленького сына. Мама сама рассказала мне эту историю – годы спустя, когда я вырос, – как пришлось ей делать выбор между двумя своими малыми детьми и как она выбрала того из двойняшек, мальчика, что был слабее и больше всего нуждался в ней, а Изабеллу оставила на попечении бабушки с отцовской стороны.
К тому времени я уже много лет жил в Белфасте. Совершенно забыл и Ому, и Иззи, и тот день у моря в Скарборо. Да что там, я даже забыл, что у меня была сестра-двойняшка, пока мама о ней не заговорила, ведь мама была пьяной; а когда она пьянела, то, случалось, правда срывалась у нее с языка.
«Они являются ночью», – говаривала она. Мотыльки, а иногда и воспоминания. Воспоминания о нашей старой жизни и о сестре, оставленной мною там. Иззи Блау, с которой мы провели счастливейшее лето в моей жизни и которая умерла, когда Ома согласилась позволить своему сыну (после года лечения, обучения умению контролировать свои эмоции и раскаяния) взять без присмотра с собой дочь на денек на побережье.
Ей было шесть лет. Мама не знала, что вызвало в нем такую ярость. «Ярость в нем всегда жила, – сказала она. – Потому-то я и сбежала». На этот раз ярость его выбрала особый объект для сосредоточения. Наверное, моя сестра пыталась отбиться. Она была крепче меня. Как бы то ни было, он попытался сделать вид, будто произошел несчастный случай: мол, кто другой совершил злодейство, – только никто ему не поверил. Имя Конрада Блау запестрело в новостях. Моя мать вернула себе девичью фамилию. И я рос с яростью в душе, сам не зная почему, пока мать не объяснила мне: «Ты так похож на него, – говаривала она. – Всегда был».
Такое пугает. Мать, должно быть, заметила выражение моего лица, поскольку отвернулась, закурила сигарету и выговорила: «Не будь таким, Кэри». А я спросил: «Почему же ты сестру оставила? Когда знала, какой он?» Она беспомощно повела плечами. Годы потворства своим слабостям сделали ее жирной: если я ударял ее, то от ударов бледная ее плоть рябью исходила. Помнится, как-то я ударил ребром своей лопатки по тельцу медузы (у него был тот же оттенок бледности), мертвому и беспомощному на песке.
«Я сделала это ради тебя, Кэри, – сказала она. – Иззи была сильной. Она бы не выросла похожей на него».
«Иззи не выросла совсем».
Мать принялась плакать, как я и знал, потянулась к стоявшей сбоку бутылке. А после этого случился пожар (риск его всегда есть там, где курят в постели) – и я остался один в этом мире. В восемнадцать лет. И некуда было податься, кроме места, где все вернется – под конец.
На экране появилось последнее фото, более современное по виду, чем остальные: будто вчера снятое. Группа людей, поднявших взгляды, у некоторых в руках цифровые фотоаппараты. На лицах у людей тени озабоченности, а за их спинами можно разглядеть палисадник Национального центра возврата почты, отраженный в дьявольском свете…
Экран ноутбука сплошь покрылся мотылями. Я попробовал смести их в сторону рукой. От их черноватых крыльев на экране остался след, скрывший из виду лицо моей матери. И все же это была она, уже постаревшая, волосы ее из соломенно-золотистых сделались белыми и были стянуты в старушечий хвостик. Больше чем через тридцать лет после своей смерти она, похудевшая в сравнении с тем, что мне помнилось, смотрела (с фотоаппаратом в руке) с места, где произошло несчастье.
Это было неделю назад. А что теперь? Мотыльки – мотыльки повсюду. Трепыханье их крылышек походит на звук пламени в окне. Всю эту неделю я не был на работе. Знал, что и там окажутся мотыльки: они усыпали лампы верхнего света, отбрасывая вниз гигантские тени. Едкая пыль на всем: на моей коже, на моей одежде, на моих вещах. Их пухлые и мохнатые тельца свисают с потолка роскошными гирляндами, от них исходит звук – выпас овец в поле белого шума.
«Мотыльки являются ночью», – говорила она. В этом случае их голод не утолить одним только моим гардеробом. Они ползут мне в уши, в волосы, они лезут из ящиков и чемоданов. Я уже пробовал бежать. Но мотылькам всегда удавалось меня догнать. Даже в этом пансионе мотыльки уже повсюду: слетаются в стаи с теми воспоминаниями, которые смеют являться только ночью.
Я считал себя в безопасности в почтовом помещении. Там было тихо и спокойно. Там я укладывал неприкаянных на покой, подальше от призрака моей матери. Однако матери, как мотыльки, являются ночью, а теперь моя мать повсюду. В моей постели, в моей одежде, в моей голове: поедом ест меня изнутри.
Вообразите себе склад в Белфасте. Вообразите канцелярию неприкаянных писем. Мили и мили воспоминаний, надежно упрятанных в конверты. Континенты бумаг, ожидающие, что их откроют. И во всех них эти самые мотыльки: зажатые между страниц, мучимые голодом, что гложет пуще мести. Вскройте меня после этого – и внутри меня не окажется ничего, кроме праха, праха и крылышек миллиона мотыльков, миллиона пропавших воспоминаний.
Вообразите, что ко всему этому поднесена спичка в темноте, в полночь. Вообразите, что набираете код на дверном замке, заходите через боковую дверь. Вообразите тишину этого места, как в усыпальнице. Мою мать, стоящую там, всю в пыли и бархате. «Мотыльки являются ночью», – говорит она. Только ночь бесконечна.
Когда я чиркаю спичкой, она клубящимся облаком устремляется ко мне. Пытаюсь повернуться и бежать, но мотыльки нисходят на меня. И когда мы летим к пламени, она держит меня в нежных своих объятьях и шепчет:
«Милый мой. Мама здесь».